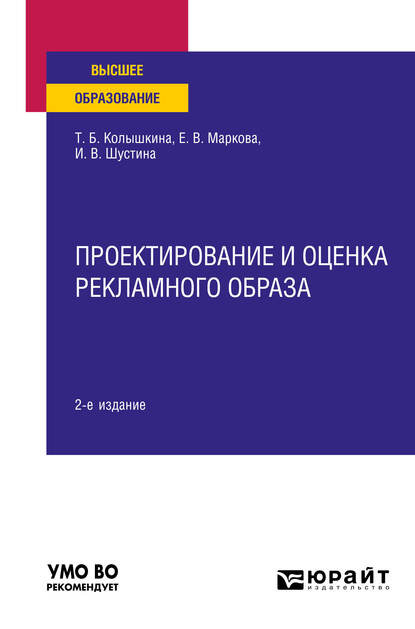Янтарь и пламень

- -
- 100%
- +
Уходящий в небеса, Алый Бор увит гигантскими красными драконами об изогнутых змеиных телах. Широко раззявив пасти, те сдаваливают колонны и глядят на смертных с пугающей, ясной яростью, как если бы вопрошая: что ты тут забыл? Зачем решил нарушить наши покой и уединение? Глядя на выточенные клыки, Адиш ощущает угрозу, хоть и понимает, что никаких драконов на землях Алого Бора не обитает и что никто вдруг не упадёт с небес, не низвергнет огнём и не умчится под облака так скоро, точно ничего и не случилось, оставив после себя лишь пепел и смерть. Адиш не страшится драконов, давным-давно оставшихся на страницах книг, и не опасается молчаливых храмовых стражей. Они только и могут, что сверкать каменными глазами – и ничего боле.
Но всё-таки, когда смотришь снизу вверх на главное здание Алого Бора, внутри что-то трепещет. В таких местах всегда ощущаешь себя особенно незначительной, незаметной; и даже райкумари такие постыдные чувства, за какие непременно пожурил бы Повелитель, не обходят стороной. Она знает, что после её смерти, после гибели многих поколений её потомков в далёком будущем, когда от некогда ходившей по земле Адиш-райкумари останутся одни исторические записи неясной точности и покрытые мифологией столь щедро, что различить истину и легенды станет невозможно, Алый Бор продолжит стоять и угрожающе нависать над прихожанами. Быть может, изотрутся ещё больше продавленные ступени, особый красный цвет под лучами Солнца потеряет былой блеск, внутреннее убранство обратится в пыль и останется несколько ценнейших реликвий, а величественные деревья падут под мхами и погибнут, в последний раз рассыпав вечно бордовые кроны, но стены его, сложенные камнями на века и отделанные лакированным деревом, выстоят вопреки всему.
Поклонившись и совершив все требуемые ритуалы, путники теперь получают право нырнуть под раскидистые крыши Алого Храма. Разговаривать сейчас не полагается, даже шептать одними губами, и Адиш-райкумари жестом указывает ките-охия, что следует молчать, чтобы не оскорбить ненароком священное, намоленное место, где поколения монахов служили, защищая человечьи души.
Лисица кивает едва-едва заметно и поднимает голову к расписному потолку, всматриваясь в прихотливую вязь узоров с детским любопытством. Адиш многое может поведать о символизме, скрытом в каждом сюжете, но не посмеет оскорбить невежественно храм; а потому – хранит сдержанное молчание, наслаждаясь тихо красотой. Вот журавли, взмывая от полов по стенам, устремляясь в небеса, несут с собой вести о скорой весне. Вот гнилая трава обращается в кузнечиков, а стоит только лёгкому ветерку играючи ворваться в помещение, как колокольчики в виде кузнечиков, подвешенные на тонких нитях, вдруг принимаются за стрекочущие песни. Вот ирисовый ковёр под босой ногой; а вот – выложенные мозаикой птенцы сокола учатся летать среди колонн.
Адиш находит старинные легенды – древние настолько, что отыскать можно их разве что в особо ветхих фолиантах, и вдруг улыбается, вспомнив на мгновенье детство. Отношения между матушкой и отцом ещё не разладились, старший брат не повредился разумом, а Адиш ещё не стала называть отца исключительно Повелителем, неизменно в уважительном третьем лице. Она помнит те тихие деньки на маленьком острове, где имела обыкновение отдыхать святая семья и где, если постараться, можно отыскать руины, увитые рисунками. Они с братом каждое утро носились в поисках чего-нибудь нового, водили ладонями по надписям на неизвестном языке, воображали себя первопроходцами и старались прочитать хоть что-то, на ходу сочиняя язык. Они искали ракушки, ловили крабов, плавали наперегонки с рыбами, кидались друг в друга песком, строили гусуку, брызгались солёной водой; они были детьми – почти такими же, как все прочие. На глаза бы навернулись слёзы, да вот только глаза давно высохли. И всё-таки Адиш проводит по ним украдкой рукавом кимоно – так, чтобы ките-охия не заметила минутную слабость. Адиш слишком хорошо узнаёт некоторые “буквы”, выведенные кистями на полах и словно пришедшие из мёртвого времени, пусть она и не знает их значения. Не так важно, что они значили века назад – важно то, какие воспоминания пробуждает один их вид.
Мгновение ей делается страшно от того, насколько же долго на самом деле стоит Алый Бор, и как много людей ступало на его земли, молясь и ища защиты у богов. Некоторые исторические книги говорили, что Алый Бор стоит по меньшей мере десять веков и что его каменные стены куаваннцы только облагородили алым цветом, дали им название и проложили взамен поросших мхом новые извилистые тропинки, по каким пришли прихожане и случайные путники. Впрочем, на одно такое мнение тут же отыщется двадцать недовольных, которые примутся доказывать, что Алый Бор принадлежит рукам куаваннцев – или по меньшей мере является заслугой исключительно их легендарных предков, задевавших головами небеса и сражавшихся с самим Солнцем за право владеть пламенем, как собственным телом.
Ките-охия и райкумари, следующая за ней верной тенью, выходят из большого зала во внутренний двор, обычно скрытый от посторонних глаз. Обставленный скромно и просто, он не должен сражать посетителей, каковых тут не бывает особо, воистину царскими величием и изыском, но успокаивает душу. Таков его замысел – служить островком покоя и уединения для служителей Алого Бора.
То, что Камэ-Оё со служанкой пропустили, следует рассматривать как великую милость. Адиш не ожидала, что один из служителей, едва их завидев, сделает такое приглашение; более того, готова поклясться, что лисица не могла успеть наколдовать им обеим приглашение. Быть может, заподозрил что-то?
Следует смотреть в оба.
– Здесь не должно найтись чужих ушей, – замечает вполголоса райкумари, наблюдая за лисицей. – Однако я не доверяю…
– Никому? То имеет смысл, пусть я и не могу представить, сколь долго так можно прожить, не лишившись рассудка, – ките-охия расплывается в утончённой улыбке. – Предлагаю присесть на те скамьи, – она кивает в сторону особо тихого уголка, закрытого тенями могучих деревьев, тихо шелестящих на нежном ветру, и скрывшего в себе укромное местечко для разговора.
Однако обманываться не стоит. Захотят – подслушают.
– Как скоро Камэ-Оё планирует выдвигаться в путь?
– Наши спутники говорили при обеде, что намерены выдвинуться через два рассвета, – отвечает охотно лисица, прикрыв глаза на мгновение и позволив ветру касаться волос.
– На нас смотрят, человек по правую руку, – не шевеля губами, проговаривает Адиш. – Ведём себя, как слуга и госпожа.
Ките-охия раскрывает веер и ненавязчиво прикрывает правую сторону, обмахивается ленно. Сумерки в самом деле выдаются неожиданно тёплыми – после такого-то морозистого туманного утра, обратившего росу на уставшей траве в крохотные льдинки. Быть может, зима явится мягкая и ласковая; быть может, покроет тончайшим снежным покрывалом и отступит к весне, обнажив чёрную, не успевшую остыть и заледенеть землю.
– Спасибо, – шепчет ките-охия. – Кто там стоит?
– Монах, который разрешил нам пройти сюда. Тсацу-пра, если не ошибаюсь.
Невзирая на угрозу, Адиш поддерживает непринуждённую беседу:
– Не терпится уже добраться до Лонгао-гусуку, – улыбается ненавязчиво она. – Должно быть, госпожа оценит это место столь же высоко, сколь Алый Бор, пусть, несомненно, ни один дворец не пойдёт в сравнение со столь величественным и высокодуховным местом, где отдыхают душой и телом.
Адиш следит краем глаза, как старик приближается, не таясь и не скрываясь. Да и отчего бы ему, священнослужителю и жителю Алого Бора, убояться двух мирских дам, какие и вовсе обязаны ему возможностью насладиться внутренним двором перед вечерней трапезой?
– В самом деле, – отзывается лиса. – Будь такая возможность, Камэ-Оё бы осталась здесь подольше: думается, пары дней никак не хватит на полноценное созерцание красот. К тому же, слышала разговоры о том, что, дескать, до одного только Бриллиантового Водопада – половина дня пути! А его виды столь замечательны, особенно вьюжными зимам, что блеск замершей в ледяных оковах воды достоин всяческих стихосложений и живописаний…
Стоит ките-охия вздохнуть, как монах останавливается рядом с ними.
– Благородная госпожа не воспрепятствует моему скромному обществу? – уточняет Тсацу-пра, и лиса складывает одним лёгким движением веер, а после – склоняет голову в уважительном поклоне.
– Кто я, чтобы отказывать просветлённым? – без лукавства отвечает вопросом на вопрос она. – Пусть наше женское общество несколько разбавится: я не вижу в том решительно ничего дурного.
Во взгляде Адиш мелькает коротко ужас.
– К просветлённым положено обращаться во втором лице, – улыбается старик, присаживаясь на вторую скамью. – Ките-охия следует держать это в голове, если она ещё решит останавливаться в храмах, представляясь знатной и благовоспитанной девицей. Надеюсь, её служанка не сбежит сейчас.
И Адиш, и лиса молчат выразительно, явно не желая признавать, что одну из них раскрыли. А то и обеих сразу?
Ките-охия первой подаёт голос:
– Как вы узнали? Если позволите, обращайтесь и ко мне на “ты”.
Достопочтенный пра недолго молчит, но после объясняет:
– Лет пятьдесят назад, когда я был совсем молод, в Алом Боре останавливалась одна из лисьего племени. Уж не знаю, от кого она бежала, но выглядела страшно напуганной, изможденной и побитой. Мы дали ей кров и защиту, – старик, погружаясь в реку памяти, точно глядит в пустоту, не замечая ни лисицу, ни служанку; не слыша ни шелеста листьев, ни мерного журчания тонкого ручейка за его спиной, ни тихих молитв. – Никто не спрашивал, что с ней случилось: настоятель тогда убоялся, что только запугает её сильнее расспросами и вынудит сбежать. Она даже имени не стала называть – во всяком случае, настоящего. А какой очаровательной, какой утончённой, какой образованной она была! – он вздыхает тяжко и улыбается, но не как влюблённый мальчуган, впервые увидавший красавицу с белым лицом, а как повидавший многие красоты внутренних миров старик, вспомнивший ненароком нечто поистине дивное, приоткрывающее завесу божественного. – Очень похожа на тебя, госпожа Камэ-Оё. Я не стану спрашивать, чьё это имя, но назову тебя так, если ты не против. Думаю, иначе бы не выбрала такое имя.
Отстранённо, но лиса кивает. Адиш не вмешивается в беседу.
– Ты, верно, спросишь, как я понял, кто она? Она страшно искала кого-то, кому можно довериться, и так получилось, что я оказался рядом в нужное время. Поначалу, конечно, я ей не поверил, но она показала мне волшебство. А когда умерла…
– Умерла? – перебивает, забыв про этикет и любезности, про преклонение пред уважаемыми пра, лисица и игнорирует взгляд райкумари, удивлённой и даже малость оскорблённой столь диким поведением. Перебивать просветлённого – и столь грубо! Неподобающе совершенно. – Умерла здесь, пятьдесят лет назад?
– Именно так, – соглашается он, глядя особенно внимательно. – Её убили.
Тишина звенит в ушах, и выражение лица у ките-охии делается таким страшным и жутким, таким мучительным и болезненным, будто её рвут живьём на клочки бешеные псы; но только на мгновение – на мгновение через идеальную маску проступило что-то живое и подлинное, что Адиш думает, не почудилось ли ей.
– Как она выглядела? – только и спрашивает лиса. – Как её похоронили?
– Как девушка, она была необыкновенной. Белоснежные волосы, слабые голубые глаза, хрупкая и тонкая, просвечивающая красным кожа… Она всегда держалась подальше от Солнца и медленно читала, потому что плохо видела, но очень старалась, – грустно улыбается старик. – Я даже выбивал на камне и на бамбуке для неё знаки, чтобы она могла, касаясь пальцами, читать, и сминал для неё стилусом глину. И лисой оказалась такой же: белой, как первый снег… С двумя чудесными хвостами. А похоронили, как могли: сожгли, прах захоронили в лесу, и тогдашний наш мастер резного камня высек памятник в виде мраморно-белой лисы. Так и стоит там, одинокая, – губы его вздрагивают, складываясь в печаль. – Я часто туда хожу. Кто-то должен позаботиться, сами понимаете… Надеюсь, мы ненароком не оскорбили её памяти, почтив так.
Ките-охия не плачет, пусть Адиш и ожидает этого; пусть в уголках её потемневших глаз и застывают на мгновение трепещущие слёзы, лисица удерживается от глухих рыданий, сохранив лицо и сделав его в момент бесстрастным, точно маска.
– Вы можете проводить меня на её могилу?
Если мгновениями раньше голос ките-охия цвёл оттенками и полутонами, то сейчас от былой живости, от страсти и от чувств решительно ничего не остаётся, кроме глухой, шепчущей тоски, какую не выразить словами. Когда боль настолько сильна и когда не можешь толком заплакать, становишься по-особенному тихим – не грустным, не печальным, не расстроенным, не рыдающим тем более. Просто едва слышно тоскующим. И взгляд у ките-охия как сереет, и вокруг точно становится холоднее, и кимоно она сжимает напряжённо на коленях, и руки её мелко трясутся.
Адиш знает детали придворных и провинциальных этикетов, говорит на четырёх языках, наизусть помнит законы Митат-Куаванна, владеет в свои тринадцать внутренним пламенем так, как иным не достичь и за тридцать лет непрерывного оттачивания мастерства, но что она знает о том, как поддержать в трудную минуту? Что она может, когда видит чужое страдание? Что она делает, когда сердце разрывается смотреть на чужую молчаливую боль? Правильно, ничего. Дочери Повелителя не к лицу иметь друзей среди простого люда и уж тем более мифических тварей, врагов всего живого, – вот что она знает наверняка. Дочерь Повелителя слушает разумом, а не сердцем, и руководствуется не симпатиями, а планами.
– Разумеется, достопочтенная ките-охия. Идёмте.
Старик бросает долгий, внимательный взгляд на служанку “знатной дамы”, но ничего не говорит – по крайней мере, вслух, не в этот скорбный момент. Хоть Адиш и не сомневается ничуть, что ей придётся многое услышать от него однажды, пусть не сегодня и сейчас.
Безмолвно Адиш следует за пра и ките-охия. Та идёт суетливо, нервно, порой оборачивается, чтобы убедиться, что Адиш не осталась в садике, хмурится, порывается пожевать губы, но удерживается – только бы не испортить макияж и не ударить в пакостную грязь точёным и холёным личиком. Не может себе этого позволить, не может позволить красивому кармину, изысканно подчёркивающему губы и глаза, расползтись уродливыми пятнами.
Алый Бор шелестит красным, и по его кронам словно проносится тяжёлый вздох: лес смотрит на людей свысока, наблюдает за ними терпеливо и сочувственно. Когда-то давно люди верили, что в каждом дереве живёт душа; когда-то особые из людей, якобы способные услышать в песне ветра грядущее, а в воде – узреть минувшее, возносили молитвы вековечным лесам, да и не только молитвы – многие и многие жертвы. И отчего-то Адиш не сомневалась, что Алый Бор в стародавние времена мог напитаться чужой кровью: слишком уж давящий, слишком уж гнетущий становится, стоит только отойти от намоленного храма, как будто вот-вот кто-то коснётся твоего плеча. Может, потому и красна его хвоя?
Стоически Адиш превозмогает желание стряхнуть невидимую руку и не замечает усилием воли настойчивый взгляд в спину. Даром что не раздаётся туманный заискивающий шёпот, от какого пробежит холодок вдоль позвоночника, но Адиш давит эти воспоминания и страхи; старается не вспоминать.
Тсацу-пра указывает на могилу:
– Здесь её похоронили.
Если бы не указание, Адиш не сразу бы заметила небольшую мраморную статую белой лисицы. Выточенная из камня, но совсем как настоящая, казалось, одно мгновение – и хищница стремглав сорвётся с места, умчится в чащу, взмахнув напоследок белыми хвостами, но чуда не происходит: могила остаётся каменно безмолвной. Ките-охия садится на колени в густой покров бордовой хвои, не боясь за сохранность чудесного расшитого кимоно, и смотрит в глаза искусному надгробию, как будто перед ней – не мёртвый камень, а живое существо с бьющимся сердцем и сияющими глазами, какое вот-вот засмеётся, засуетится, запрыгает, обернётся девой, бросится в объятия, прошепчет, как скучала…
Чуда не происходит.
Даже отсюда Адиш видит слёзы на глазах лисы.
– Она ничего не сказала напоследок?
– Ничего.
– Ничего не оставила?
– Я сохранил её вещи.
И снова восходит на царствование гулкая тишина.
– Оставьте меня. Мне надо побыть одной… Прошу, – произносит ките-охия особенно тихо и сухо, из последних сил сдерживая болезненные рыдания. Грудная её клетка ходит ходуном, голос сипит, лицо, наверняка пошедшее уродливыми пунцовыми пятнами, скрывается за волосами теперь уже нарочно.
Тсацу-пра и Адиш, ни слова не сказав, почтенно удаляются. В спины им доносится неразличимый шёпот, а за ним – надрывный плач.
– Не желаете ли выпить чаю? – предлагает старый монах. – Есть у меня в коллекции один дивный сорт, какой следует пить исключительно в хорошей компании.
– Настолько ли я хорошая компания? Я бы не была настолько уверена на вашем месте, – улыбка дёргает слабо блеклые и тонкие, искусанные, губы Адиш.
– Полно скромности! – вздыхает он. – Не отказывайте седой старости в небольшой беседе. Я не отниму у вашей юности много времени.
Тсацу-пра указывает на небольшой домик-кодоку, стоящий отдельно. Традиционно монахи-хинохори, возносящие ежедневно молитвы за всё сущее и за каждого умершего, проживают по отдельности, дабы чужое присутствие не смущало их разума и не сбивало со слов молитв, и если присмотреться как следует, можно заметить, что в Алом Бору повсюду таятся чужие одинокие кодоку: нарочно непримечательные и скромные, они должны были воспитывать дух служителя и отрывать его от мирской праздности.
Внутреннее убранство домика ничуть Адиш не удивляет: низкий столик, соломенный матрас, квадратное данро, предназначенное для чаепитий и приёма скромной пищи, посередине, ступенчатый шкаф в углу, аккуратное растение в углу и маленькая глиняная лейка, чтобы его поливать. Адиш садится на колени перед разожжённым данро, пока Тсацу-пра колдует над чаем. Сложно так сказать, что входит в его состав, но Адиш замечает и сухие кусочки апельсина, и оранжевые цветки, и пионовый бутон, и с десяток сухих трав, чьих названий так сходу не назовёт.
Чайник мерно качается над огнём.
– Должны ли мы помочь, когда видим чужое страдание? – вдруг спрашивает Адиш. – Если никто не просит, но явно нуждается, то значит ли это, что мы должны помочь? Имеем ли право вмешаться, невзирая на чужие желания, потому что так будет правильно?
При дворце, конечно, у неё были духовные наставники, к которым Адиш могла обратиться за советом, но далеко не всем она могла доверять – и не зря. Некоторых, кто старался воспитывать её, после казнили, раскрыв предательство, так что теперь Адиш посматривает на монахов в опаской. Терзаемая многими и многими мыслями, сомнениями, неприятными размышлениями, страхами, Адиш молчала всю жизнь – и только сейчас может позволить себе крохи искренности.
Ведь Тсацу-пра не знает, кто сидит перед ней.
– Должны ли? Нет. Большая духовность – в понимании.
– Что вы имеете в виду?
Адиш бы скривилась, но достаточно владеет лицом, чтобы не позволить хоть единой тени упасть и намекнуть на её истинные переживания. К чему ей настолько очевидные слова? Она и без того осознаёт, что желает помочь.
– Мы становимся больше людьми, когда откликаемся сердцем потому, что такова наша потребность, но при этом без гнева и раздражения отступаем, когда получаем отказ. Понимание должно быть двусторонним. Тот, кому ты намерена помочь, обязан осознать, что ему требуется твоя помощь, и принять её с открытым сердцем и чистыми помыслами.
Духовники говорили, что ты можешь помочь сотням людей, намереваясь получить за это награду, но спрашивали затем, чем тогда ты лучше крохотной диванной собачонки, слепо выполняющей указы хозяина за угощение? Люди свободны тогда, когда не ждут ни награды, ни благодарности, ведь сами приняли решение – быть небезразличными, а потому и должны пожинать его плоды, какими бы те ни были. Обыкновенно, добавляли наставники, плоды эти горьки.
Тсацу-пра же добавил важный элемент в это суждение.
– Возможно, в этом есть смысл, – осторожно соглашается Адиш.
Монах разворачивает войлочное полотно – поле для игры в магру; чудовищно старое, его углы уже истрепались, а узоры потускнели. Адиш слышала, что где-то на континенте магра-банги делают из войлока, но никогда не видела такие: на Огненных Островах мастера используют тонкие бамбуковые палочки, связанные вместе, либо же цельные камни.
– Не желаете ли сыграть? Я был бы вдвойне благодарен.
Адиш, грея руки об чашку чая, щурится настороженно:
– Не посмею отказать, но задам вопрос. По каким правилам играем?
– Вы меня перехитрили! – всплеснул руками старик. – Я уж намеревался по вашей игре понять, кто вы есть, и что скрываете.
– А у вас есть предположения, Тсацу-пра?
– Не могу сказать точно, но вижу, что вы не так проста, какой желаете казаться, – он улыбается спокойно. – Вряд ли самая обыкновенная служанка станет сопровождать столь необычайную особу, как ките-охия. К тому же, вы ничуть не удивились, услышав вести о ней, или потому, что секрет вашей ложной госпожи – никакой не секрет, или потому, что настолько владеете собой, что додани вас нисколько не пугают. А, быть может, вы сама – одна из лисиц… но это предположение абсурдно и лишено всяких оснований. Полагаю, будь вы лисицей, остались бы у могилы, а не пошли бы за мной, оставив уважаемую Камэ-Оё одну.
– Я бы хотела попросить не покушаться на мою личину, – вежливо, но всё-таки давит Адиш. – У меня есть причины не называть имени и не показывать, кто я на самом деле. Хотелось бы верить, что такой человек, как вы, сможет понять мою ситуацию и с должным уважением отнесётся к моим секретам.
Тсацу-пра рассматривает Адиш, но затем кивает, наконец:
– Не стану больше лезть в вашу душу. Предлагаю сыграть в магра-шо и подумать каждый о своём.
– Я принимаю эти условия.
Играют они и правда молча: Адиш, сосредоточившись на игре, больше не задаёт спонтанных вопросов, а Тсацу-пра степенно парирует настойчивые удары костяных фигур, то и дело норовящих агрессивно оттяпать побольше пространства на расписном войлоке. Адиш старается помнить о том, что манера игры в магра может многое сказать о человеке, а потому сдерживает отдельные привычные ходы, называемые наставниками откровенно безумными и неподобающими человеческому, пусть и святому, созданию. Местами тактику приходится менять на ходу, пусть даже общий характер стратегии – тотальное подавление и абсолютное доминирование – скрыть полностью не получается.
Помнится, однажды духовник весьма нелестно выразился об игре Адиш, назвав её со злости отвратительно воинственной, и посочувствовал Повелительнице, что у неё уродилась такая нахальная и не ведающая самой крохи уважения дочь. Стоит ли говорить, что этого духовника в следующий раз Адиш увидела на казни за оскорбление царственной особы?
Иногда его лицо снится Адиш в кошмарах. Иногда она слышит ржание лошадей, нещадно подгоняемых кнутом, и треск разрываемой плоти. Иногда она просыпается в поту и жалеет о том, что рассказала отцу о произошедшем – пожаловалась, по сути. Иногда она хочет вернуть время вспять и промолчать в нужный момент, сохранить человеку жизнь, пусть и потерпев удар по гордыне, да вот только сделанного уже не воротишь.
Фигуры Адиш замыкают круг, сковывая соперников.
Тсацу-пра проигрывает, но не выглядит удивлённым.
– Чудесная стратегия, – он улыбается. – Давно не видел такой манеры ведения игры.
– Такой злобной?
– Такой настойчивой, – смягчает монах – или говорит истину, не видя ничего зазорного в том, чтобы жертвовать малым, чтобы добиться победы для многих. – Я обещал не лезть в вашу историю, а потому оставлю выводы при себе, если позволите.
– Позволяю, – кивает Адиш, и без того приблизительно представляя, что можно сказать о ней по этой партии. – Вы упоминали, что та ките-охия оставила свои вещи…
Монах взмахивает руками.
– Едва не забыл! Покорно прошу прощения: совсем уж старческая память ни к чему, – он отходит к ступенчатому шкафу и извлекает из недр ящика совсем небольшой свёрток. – Обещаетесь передать дорогой ките-охия в целости и сохранности? И передайте ей слова моего сожаления, пусть и словами её горю нисколько не помочь.
И смотрит так внимательно, как если бы её душонку насквозь видел.
Но Адиш только почтительно принимает вещи и кланяется:
– Вы можете на меня рассчитывать.
– Беги, дитя, – вздыхает тяжело старик. – Не смею боле задерживать.
Адиш в последний раз глядит на Тсацу-пра и покидает кодоку, не оборачиваясь. Она не знает, встретит ещё этого человека или нет; но где-то в глубине души хочется верить, что да. Может, когда-нибудь в будущем она навестит Алый Бор уже с положенным визитом от лица святой семьи Агади – получить бы только разрешение от Повелителя! Впрочем, Адиш заранее предчувствует отказ: отец недолюбливал духовников-отшельников.