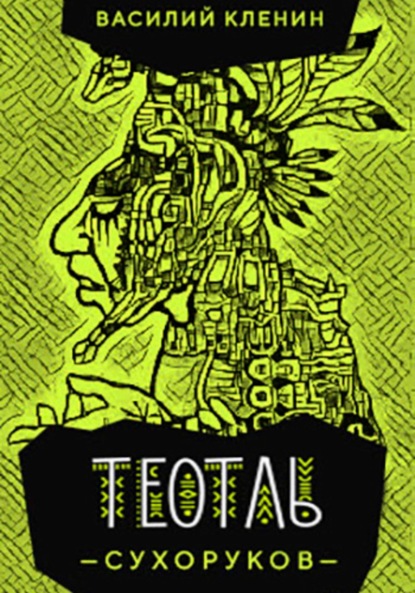- -
- 100%
- +
Благоухание рая всё усиливалось. Оно стало таким мощным, что почти приобрело очертания в воздухе, когда Арон-ха-Кодеш явился Марьям. От него, как от человека, исходила любовь. Девочка погладила отполированные песком крылья херувимов и открыла ларь. Старая крышка заскрипела так, будто это стон облегчения от долгой боли. Марьям увидела лухот-ха-брит, – скрижали, высеченные из каменного огня. Когда первый Храм был разрушен, они умерли, и стали так тяжелы, что сдвинуть ковчег с места смогли бы только сорок мужчин. Но близость Марьям воскресила скрижали, они снова начали накаляться белым сиянием, чёрные огненные буквы запылали, и девочка удивилась лёгкости камня, когда доставала лухот ха-брит. Марьям знала алфавит, и, забавляясь с сияющими досками, научилась читать по скрижалям завета.
А, утомившись, заснула на крышке ковчега, в тени крыльев херувимов. Марьям чувствовала дуновение тонкой прохлады и слышала сквозь сон тихий баюкающий голос. Эта колыбельная навсегда запала в память Марьям, и она пела её сыну, но не помнила, откуда узнала.
Так и нашёл девочку первосвященник. Издалека увидев прикорнувшую Марьям, Шимон испугался: не мертва ли она, но девочка повернулась во сне, и Бен Байтос подумал: «Хвала Всевышнему, дитя нашлось живым! Отведу к отцу». Приблизившись ещё, первосвященник разглядел ковчег, который сначала показался ему базальтовым осколком скалы. И вдруг в камне проступило рукотворное. Это было большим чудом, чем если бы ангел спустился с неба. Первосвященник впервые усомнился в своих дальнозорких глазах, моргал и жмурился, выжимая слёзы, словно хотел веками ощупать пространство.
Привыкнув к невероятной реальности, Шимон Бен Байтос пришёл в сильное волнение, ему стало холодно в знойной пустыне. Капли пота как вши язвили его голову. «Ребёнок – это не важно, главное, я нашёл ковчег. Созову коэнов и левитов, а ребёнка отведу потом», – решил Шимон Бен Байтос.
И тотчас поднялся сильный ветер Руах Сэара, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Шимон упал, и стена песка с шумом многих вод пронеслась перед ним. Песчинки иссекли кожу первосвященника, покрыв её саднящими кровоточащими царапинами. Ураган дул всего несколько секунд, но когда Шимон встал, он не узнал пустыни – её лицо изменилось, и постарело. Удивлённый, Шимон не сразу понял, что ковчег начал ветшать. Воздух, ветер и тщеславие первосвященника разрушали его. Дерево ситтим стало мягким, как гриб, а золото тонким, как шёлк. Крылья херувимов обмякли и наклонились, коснувшись лица Марьям нежно, как пряди. У Бен Байтоса потемнело в глазах, задрожали мускулы на щиколотках, а язык пристал к шершавому нёбу. «Я войду в историю народа как первосвященник, вернувший ковчег в Храм, и прославлюсь на века. Это деяние, достойное Торы», – прошептал Шимон.
В ту же секунду он снова оказался лежащим на песке, потому что тектонические слои вздрогнули и подвинулись, землетрясение подбросило пустыню на своей ладони, а небо поколебала сухая гроза – его, как заступом, разрубила молния из чёрного облака Анан Гадоль. И ковчег превратился в прах, и золотой песок смешался с кварцем. Так сбылось пророчество Иеремии: «В те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придёт, и не вспомнят о нём, и не будут приходить к нему, и его уже не будет».
Шимон нашёл ребёнка, спящего на песке в тени грота. На глазах первосвященника ковчег завета рассыпался, словно старый муравейник. Когда до Марьям оставалась пятьдесят шагов, ковчег ещё сохранял форму, когда оставалось тридцать – принялся оседать.
Когда их разделяли десять шагов – между Марьям и Шимоном пронёсся шлейф огня Эш Митлакахат – и осколок метеорита, сгоревшего в плотных слоях атмосферы, взрыл песок в нескольких метрах слева от Шимона, и справа от девочки.
Оболочки клипот не потревожили Марьям, и не напугали Шимона, – Бен Байтос, как все иудеи, презирал стихии. Первосвященника сразило другое.
Он стоял над ковчегом, ставшим ничем, и не желал этому верить. Шимон разбудил Марьям хриплым выкриком: «На чём ты спала?» «На ларце с письмом, – отвечала Марьям, и в глазах её ещё плавал сон. – Господь послал мне письмо, и научил прочесть его». «Что было в письме?» – у первосвященника резко закружилась голова. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя…» Шимон не мог слышать слова, сказанные Моше Всевышним, из уст девочки, ревность снедала его. Со стоном раненого упал первосвященник на колени и как животное принялся рыть песок. Он нашёл еще тёплый пепел, в который превратились скрижали, – весь свой огнь они отдали Марьям. Первосвященник сыпал пепел себе на голову и втирал в лицо. Слёзы разочарования превращали в грязь то, что недавно было самой чистотой и святостью, и всю свою чистоту и святость отдало другому. Чтобы утишить сердечную боль, первосвященник доверился нелепой мысли: может быть, ковчег восстанет из праха, и до заката молился и рыдал над песком. Марьям пыталась утешить его, плакала и преклоняла колени в молитве вместе с ним, но Шимон не хотел успокоиться, ведь ковчега больше не было. Когда тени удлинились, а вдалеке показались два левита, весь день искавшие первосвященника и уже шатающиеся от усталости, Шимон сдавил руками виски, чтобы заставить себя размышлять реалистично. Ковчега больше нет, и нет никаких доказательств, что он был. Но осталось дитя, Марьям, которая, как Шехина, почивала на Ковчеге Завета. «Оза простёр руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, – Господь прогневался на Озу; и поразил Озу». И ещё: «Устрашился Давид в тот день Господа, и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню». А девочку вместо гнева ждало благоволение. Целый день Шимону было некогда вспомнить: ребёнка ищет безутешный отец, и девочка давно не пила и не ела, но теперь он взглянул на неё как на сокровище. Шимон поднял Марьям над головой (левиты увидели: у него, человека, не расстававшегося с пилкой и кисточкой для полировки, черно под ногтями) и воскликнул: «Радость всех радостей! Я нашёл дитя, благословенное Всевышним!»
7. Шимон торопил Йехойакима, – он жаждал увидеть Марьям в Ершалаиме. Первосвященник чувствовал: это пребывание будет сопряжено с чудесами, и ждал, что их свет озарит его дорогу к славе.
Этой ночью он приказал храмовым стражам не вмешиваться, что бы ни происходило, и облачился в священную одежду. Всё с одобрения Гордуса, – царь, не раздеваясь, дремал во дворце, ожидая тестя с отчётом.
Девочку привели до рассвета, в тумане. Заканчивалась холодная ночь, и Хана прятала Марьям под накидкой, отчего казалась беременной. Так они и шли, и сквозь петлю застёжки Марьям видела молочный, смазанный, мягкий, близорукий мир, созданный в темноте масляным фонарём в руках её отца. Стражники-левиты пропустили их в ворота, ведущие на Храмовую гору, исполнив тем самым приказ Первосвященника. Молодой левит посмотрел на них с любопытством, а тот, что в годах, неодобрительно. Фонарь закачался в руке у Йехойакима, и вместе с ним – мир перед глазами Марьям.
Они остановились, Хана вздохнула так, словно выпустила из лёгких весь воздух, попавший в них за то время, что Марьям жила дома, и распахнула плащ. Девочке сразу стало холодно, но она не заметила этого: луч звезды серебряным мечом рассёк надвое туманную завесу и коснулся острием крыши Храма, вспыхнувшей червонным огнём.
«Здесь живёт Господь!» – сказала Марьям, протянув руки к Храму. Ей хотелось одновременно бежать, лететь, прыгать, и степенно, с благоговением идти, и, опустившись на колени, прикоснуться к камням руками. Марьям не тронулась с места, и поэтому Йехойаким поднял её и поставил на первую ступень храмовой лестницы. Ступень показалась ей горячей. Девочка пошла выше, пространство давило ей на виски, как вода, трещало как электричество у неё в ушах и гудело как парус в груди, оно натягивалось, как сеть, тужащаяся удержать слишком тяжёлый улов, и лопнуло, когда на двенадцатой ступени первосвященник взял Марьям за руку. Камни на его эфоде заиграли, запереливались впервые за шестьсот лет, – проснулись, едва Марьям коснулась подошвами первой ступени. Камни будто переглядывались – рубин посылал сияние топазу, топаз трогал ниточкой света изумруд, внезапно отразившийся в карбункуле. Камни приободряли первосвященника, и Шимон не остановился с Марьям во Дворе женщин, как планировал, а повёл выше, во Двор, где женщины никогда не бывали. Один из стражников от возмущения не мог произнести ни слова, и грудью загородил внутренние ворота, второй не нашёл сил стронуться с места. Но и первого заставил отойти блеск карбункула, бросившийся ему в лицо.
Первосвященник помедлил у Ступеней музыкантов, за которые заступали лишь коэны, но карбункул и сапфир смешали своё сияние, алмаз и яхонт слили лучи в одну сияющую дорожку, и Шимон повёл Марьям дальше. Они миновали ещё двенадцать ступеней и остановились во Входном зале храма, перед Святилищем. Марьям, не отрываясь, смотрела на вход, сердце её уже было там. Первосвященник не решался. Он хотел вывести девочку обратно, но камни не позволили ему: агат и аметист, хризолит и оникс скрестили горящие кинжалы, преграждая путь вспять, на лестницу, а яспис вытянул прозрачную руку в сторону Ейхаль. И первосвященник ввёл Марьям в Святое. Девочка обвела глазами стол для хлебов предложения, менору, жертвенник и остановила взор на завесе, скрывающей Кодеш кодашим. Шимон подумал, гранит мог бы дрогнуть под несокрушимостью её взгляда. Камни на эфоде первосвященника вновь померкли, словно потупились, опустились на собственное дно, и вновь вспыхнули – но уже иначе, – как урим ветумим. Они заблестели, словно глаза львов в ночной пустыне. И продолжали накаляться, выдвигая из кристаллических недр лучи, которые становились всё шире, длиннее и отчетливее. Урим ветумим указывали путь не первосвященнику, но Марьям, и он вёл её в исходящих от них лучах, словно в вожжах, в которых матери учат ходить детей. Лучи уплывали в Святая Святых, и, отстранив завесы, первосвященник позволил девочке войти туда. Лучи остановились на Эвен Штия, Камне Основы, и урим ветумим ослепли, замутились, словно всё своё сияние отдали Марьям. У первосвященника закружилась голова, и пол заходил под ногами, будто он снова оказался на корабле. Это Храм вздохнул, – вобрал Марьям в лёгкие словно аромат, и раздвинул свои стены, став изнутри шире, чем снаружи. Так было, когда Ковчег Завета стоял в Кодеш Кодешим, а Ковчег был больше, чем Святое Святых.
Рядом с Эвен Штия открылась рана. Её края некогда стянули камни Храма Зоровавеля, но теперь Храм снова дышал, как во времена Соломона, и камни разошлись, рана обнажилась. Когда-то здесь стоял идол Ашеры. Его так и не удалили, подобно гнойнику. Он сгорел вместе с первым Храмом, и ныне, рядом с Марьям, скрытая нечистота обнаружилась.
«Как пыльно в Доме Господнем!» – сказала девочка, рукавом лучшего платья стирая пыль с Камня Основы. «Позволь мне остаться здесь и всё убрать, я хочу ухаживать за Господом».
8. Солнце готовилось подняться, и коэны пришли заправить маслом лампы семисвечника. Шимон навсегда запомнил их взгляды и как смешалось их пение, и никогда не простил этих двоих. «Не вам, а Санхедрину открою я сию великую тайну, – он охрип от нервного напряжения ночи. – Благословенное дитя будет пребывать здесь, сколько пожелает». Шимон шёл прочь, сжимая руку девочки, и чувствовал: жалость коэнов словно грязь пачкает ему спину. Жалость как к сумасшедшему.
Ввиду исключительности дела – нарушения мицвы охранять Мишкан и Храм, – Санхедрин собрался в Лишкат Агазит, Зале из тёсаных камней, откуда Тора выходила к народу. Мудрецы бурлили, слова «безумие» и «осквернение» перекатывались по всему полукругу их седалищ, как волны по каменистому руслу. Ученики переглядывались с сойферами. Первосвященник играл желваками. Вошёл сгорбленный наси, и тишина началась так сразу, что главе суда показалось: он внезапно оглох. Чтобы развеять наваждение, старик прошёл к своему креслу, шаркая сандалиями больше, чем обычно, и первосвященник улыбнулся правой стороной лица, невидимой Санхедрину: подумал, наси озабочен только здоровьем и не окажет сопротивления. Тем более, Санхедрину уже было известно: царь одобрил действия первосвященника. Гордус хранил безразличие к проблемам иудаизма, но эксперимент, который затеял тесть, казался ему любопытным – что ещё потерпят иудеи, зная: так решил их царь?
«Не оправдываться я пришёл сюда, – начал Шимон, повышая голос, дабы вызвать лёгкое, но весомое эхо под пепельными сводами, – не оправдываться, а объявить вам, что сбылось пророчество, реченное через пророка Иезикииля: «И слава Господа вошла в Храм путём ворот… И сказал мне Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдёт ими; ибо Шехина Господа Бога Израилева вошла ими, и они будут затворены». Это чудесное дитя вошло в Святая Святых и вышло, не потерпев урона, и ещё войдёт, и ещё выйдет, ибо оно здесь в Доме Своём. Оно явилось бесплодным старикам как дитя в награду за их праведность. Кто же это дитя, как не Шехина, слава Господня? Да, она ест, спит, но ангелы, пришедшие к Аврааму, тоже ели. Шехина жила в Первом Храме, и все вы знаете из предания старцев: первосвященники той поры видели в Кодеш Кодашим прекрасную деву, слышали её нежный голос. Шехина жила в Первом Храме, а я привёл её и во Второй. Какое ещё вам нужно доказательство, что сия Марьям – и есть Шехина, как не то, что она входит в Святая Святых, и находится там, и выходит? Или вы скажете, что не пребывает в Кодеш Кодашим Господь Израилев, и некому покарать осквернителей, как некогда Оззу?»
Назвав Марьям Шехиной, первосвященник положил начало отделению образа Шехины – Славы Божией – от образа Бога-Отца и окончательно снабдил Шехину физическими характеристиками. Метафора обросла плотью. Прошли столетия, и, из-за Шимона, Шехину стали воспринимать как женский аспект Божества.
9. Первосвященник ждал от Марьям явных чудес. Он рассказывал коэнам, что пыль в Кодеш Кодешим сменилась манной, которая стала там сама собой появляться, и что он слышал, как с девочкой беседуют ангелы. Он и себе не признавался во лжи, скорее, назвал бы это пророчеством. Но Марьям была лучше, чем та девочка, которой нужны ангелы с их небесным хлебом. Она всего лишь любила Бога, как мать любит ребёнка, и день и ночь заботилась о нём. Этого чуда любви Шимон не видел, и ждал иного, не понимая, каких пустяков он ждёт, и сколь великое не замечает.
Санхедрин постановил держать в секрете, что первосвященник позволил Марьям пребывать в Кодеш Кодешим – ведь народу недоступны тонкие тайны.
Днём Марьям занималась в мастерских, а ночами убирала в Храме. Она мыла полы и вытирала пыль, отскребала копоть и застывшую смолу. Она могла посещать все помещения Храма при условии, чтобы её никто не видел, и порой оставалась в Кодеш Кодешим во время богослужения. Когда коэны слышали доносившиеся из Святая Святых нежный голос, шорох, смех, подобный звону колокольчика, они полагали, это звуки присутствия Шехины, и переглядывались, глаза их увлажнялись.
Первосвященник часто наблюдал за Марьям, боясь пропустить что-нибудь необычное, и потому видел, как она ласкала и кормила ягнят в стойлах на Овечьем рынке, и даже целовала их в кудрявые рыльца. Марьям жила в мире, где тварь почиталась не выше утвари, домашней или храмовой. Овца – просто богосданный сосуд крови и тука, освобождённый, он станет шкурой и тоже пойдёт в дело. Жалость к животному походила на жалость к чашке, которая нужна и имеет цену. Но Шимон заметил: Марьям испытывает иное. И однажды спросил её об этом. «Я прошу Господа, чтобы Он отменил жертвоприношения животных, и было, как сказано: «Жертва Богу дух сокрушен и сердце сокрушенно, всесожжениям не благоволит». Но и этим коровам и овцам хорошо на небесах». Это было самое оригинальное – при всей инфантильности – высказывание Марьям.
Первосвященник заговаривал с девочкой, в надежде услышать пророчество или хотя бы что-нибудь дивное вроде ещё одного имени Бога. Просил её истолковать или прокомментировать какое-нибудь сложное место, но девочка больше слушала, чем говорила.
Ей уже исполнилось шесть лет, и она всё ещё ничем не удивила Шимона. Марьям являлась первосвященнику заурядной, словно её подменили или всё, что было в пустыне и Храме ночью, приснилось ему. Разве что руки Марьям казались необычными – они были старше её лица. Их покрывали мозоли и царапины, и красные следы от нити, скользнувшей по подушечкам пальцев так, что трение оставило на них ожог. Марьям работала больше других, даже совсем взрослых девочек, обучавшихся в приюте: они делали то, что велела им наставница, а она то, в чём нуждался Храм её Господа. Изо всех девочек только Марьям наряду с левитами и коэнами дозволялось ткать и прясть для храмовых нужд.
10. Гордус начал подготовку к перестройке Храма. К горе Мориа свозили камень и дерево, в ущелье у восточной подошвы возводили опорную стену. Коэны и левиты, съехавшиеся учиться ремеслу, жили внизу, в шатрах, сизых от строительной пыли. Теперь пыль проникла всюду, и у Марьям прибавилось работы. Однажды, подметая внешнюю лестницу, она выпрямила спину и посмотрела вниз, на долину. Там всё было одного цвета, цвета грязного известняка: шатры, камни, трава, подводы, одежда людей, лепестки некогда алых маков. В воздухе стояла та же пыльная взвесь, что и в Кодеш Кодешим, когда Марьям впервые вошла туда, и это воспоминание заставило её улыбнуться.
Шимон давно наблюдал за ней, размышляя, зачем она скоблит камни, которые скоро будут заменены на новые, – есть ли в этом какой-то знак свыше, или всего лишь детское недомыслие. Он приблизился, остро сверкнул перстнем в сторону муравейника строителей и спросил, сделав упор на личное местоимение: «Что ты об этом думаешь?» «Храм станет больше», – сказала Марьям радостно, и сдула что-то невидимое с губы. «Господу будет в нём просторнее?» – пошутил Шимон, пытаясь нащупать степень наивности девочки. Марьям отрицательно мотнула головой. «Почему же ты улыбаешься, говоря, что Храм станет больше?» «Мне придётся больше убираться в нём, благодарение Господу». «Что хорошего в том, чтобы убираться больше?» «Господь – как дитя. Разве мать не хотела бы вечно ходить за младенцем, и вечно кормить его грудью?» «Ты мала, и не знаешь: мать вечно хочет спать, а не ходить за младенцем, хочет разогнуть затёкшую спину, а не вечно кормить грудью, сгорбившись над сосунком». Марьям молчала. Шимон понял, она вспомнила свою мать, которая, измотанная бесплодием, верно, хотела бы кормить вечно, даже если бы из грудей вместе с молоком уходила её жизнь. «Оставь мыть эти камни, их скоро заменят», – сказал первосвященник. «Пока их не заменили, это камни Храма», – прошептала Марьям. И Шимон отошел от неё, пожав плечами.
11. Йосеф обучал ремеслу коэнов, которым предстояло изготавливать для нового Храма двери, балки и оконные рамы. Другие коэны, те, что вместе с левитами обрабатывали камни, завидовали плотникам и шептались за спиной Йосефа: «Что же вы хотели, неужели шурин первосвященника будет делать чёрную работу? Смотрите, какой надутый, небось, гордится, что сподобился командовать служителями Бога». Узнай Йосеф об этих разговорах, он бы ушёл из наставников, но его ум занимало другое. Что бы Йосеф ни делал, он всегда помнил, что где-то рядом, там, наверху, эта девочка, его двоюродная сестра. Он представлял Марьям то ткущей, то молящейся, и ему казалось, она всё время видит его сверху, он словно жил под её взглядом. Йосеф мог навестить родственницу, но не хотел делать это без её родителей, – боялся расстроить Марьям своим появлением, ведь она наверняка ждала не его. Но и когда Йехойаким и Хана приходили к Марьям, Йосеф ни разу не присоединился к ним. Думал, помешает их встрече: может быть, девочка застесняется его и не выразит радость так, как хотела бы, не скажет тех слов, что давно уже придумала, не прижмётся к груди матери, не поймает руку отца… «В следующий раз обязательно схожу к ней с ними», – говорил себе Йосеф, и не шёл.
Он посетил Марьям только через три года, когда умер её отец. Йехойакима не стало в Нацерете – супруги вернулись домой, едва старик занемог.
Инсульт оттянул книзу угол его рта, и слюна стекала на шею. Десница отяжелела, и нога волочилась. Словно ангел смерти хотел ухватить Йехойакима, но чья-то любовь толкнула Азраила под руку, и он промахнулся, лишь задев старика, и чего коснулся – то омертвело. Супруги решили отправиться в Нацэрет, и сначала всё думали, что, собравшись окончательно, простятся с Марьям.
И вот они у дверей ершалаимского дома, где снимали горницу, ждут нанятую повозку. Хана помогла Йехойакиму сесть на узлы; как ценную вещь, подвинула к нему поближе распроставшуюся ногу, как ещё более ценную – устроила руку у него на коленях. Из дверей пахнет пыльной прохладой, а на улице – солнцем. Хозяин дома стоит в дверях, в тени, собираясь выйти и не желая раньше времени нарушить уединение стариков. У них нет другого настоящего, кроме этого.
Когда в конце улицы застучали копыта мулов, так, словно животные специально топали, чтобы заглушить скрип колёс своей повозки, Йехойаким сказал: «Домое, не нао к Мар». И Хана поняла его, и внутренне согласилась. Ей стало легко, Хана подумала: они с Йехойакимом – как шелуха, а Марьям – как луковица крокуса. С рождения дочери не было для Ханы ничего страшнее этой минуты – расставания навсегда. Но вот она наступила, и Хана поняла её как освобождение Марьям. Старики давали место её цветению, понимая, приди они проститься – Марьям непременно поедет с ними. Хана мысленно вернулась в роды и только теперь ощутила их свершившимися. Поняла, какой ещё боли ждала, и что теперь уж точно – всё.
Хана прислала с мальчишкой письмо, в котором просила известить Марьям о смерти Йехойакима, ведь сама она уже не могла добраться до Ершалаима. И вот Йосеф держал в руке клочок пергамента, жёлтого и высохшего, как зубы черепа, много лет провалявшегося в пустыне. Клочок, откромсанный от какого-то документа – Хана не могла найти ничего другого, на чём бы писать, и ей всё равно, что это за документ, земное уже стало для неё сором. А документ был ктубой её матери.
От письма пахло затхлой, застоявшейся старостью, а каракули на нём выводила дряхлость: такие буквы мог написать ребёнок, слепец или человек, руки которого беспрерывно дрожат. Йосеф читал: «Умер Йехойаким», и между строк: «Я тоже скоро последую за ним». Этой ночью Йосеф не спал, а, сидя возле шатра, запрокинув голову, смотрел на звёзды. Слезам некуда было прокладывать русла; заполняя глазницы, они изливались из них, горячо увлажняя всё лицо. Йосефу казалось: это звёзды падают ему в глаза. Он думал, что и он стар, хотя и не так, как тётя Хана, а Марьям всё ещё мала, – и кто будет ей опорой в жизни?
Йосеф пришёл к ней после утреннего богослужения. Оно только закончилось, но Марьям уже успела уйти в мастерскую и начать прясть, тогда как другие девочки всё ещё оставались во дворе, где беседовали или играли, бесшумно ударяя друг друга по ладоням, в длинных сплошных одеяниях похожие на птичек, которых поймали, накрыв тканью. Одна из них позвала Марьям, и та выбежала с веретеном в руках. Йосеф всё ещё был в смятении, не знал, помнит ли его двоюродная сестра, но Марьям сразу помогла ему, смущённому старику в трауре. Спросила: «Кто умер, раби Йосеф?» и склонила голову, чтобы не видеть слёз на лице брата.
К его удивлению (о, сколько раз ещё предстоит ему удивиться!), Марьям не заплакала. Она улыбнулась. «Папа устал, и уснул, – сказала, заметив замешательство Йосефа. – Мама всегда радовалась, когда папа спал крепко. Но и тревожилась, что какая-нибудь случайность вроде собачьего лая или упавшего веретена прервёт его сон. А теперь она может радоваться папиному отдыху, не тревожась, – ведь ничто его больше не побеспокоит. Теперь только Сам Машиах разбудит его, и как радостно будет папино пробуждение, когда, открыв глаза, он увидит лицо Господа! Раби Йосеф, как хорошо быть старым! Смертный сон пройдёт так же быстро, как проходит ночной». «Разве ты не знаешь о Страшном суде?» – спросил Йосеф. «Я жду его. Мне было бы всё равно, погибну я или по милости Господней окажусь в Царстве Божьем – только бы увидеть лик Господа, когда Он будет судить меня». «Было бы? Но всё-таки не всё равно?» «Господь так любит нас, что будет страдать со всеми, осуждёнными огню, а я не хочу, чтобы Он страдал, – Марьям сокрушённо потупилась, её голос потух от печальной мысли».
Эти слова девятилетней девочки так удивили Йосефа, что с тех пор он стал чаще разговаривать с ней, и каждый раз Марьям поражала его. Вскоре он сообщил ей и об уходе Ханы, и никогда раньше ему не было так легко говорить о смерти.
Однажды, увидев тряпицу на пальце Марьям, проколотом иглой, Йосеф робко упрекнул сестру: она должна бережнее относиться к себе. «Ах, раби Йосеф, – вздохнула Марьям. – Я и так слишком берегу себя. А ведь должна беречь Господа. Он Единственный, Кто не защищается и не уклоняется от ударов, Кто не лечит Своих ран и не отдёргивает Своих рук от огня». «Кто же наносит удары Сущему на небесах, Тому, Кто прикасается к горам, и курятся?» «Я, ведь я не святая. Каждый шаг, каждый помысел если не вызван святостью, вредит душе. А Господь любит нас, и страдает, когда мы вредим себе. Кто больше любит, тот больше страдает. Я, грешница, как игла в Его теле. Игла, которую извлечь невозможно, ведь нет места, где нет Бога. Раби Йосеф! Раньше я хотела любить Господа без взаимности. Я думала, тогда на самом дне ада буду чувствовать себя, как в Царстве Господнем, зная, что Всевышний не страдает о моей гибели. Но ведь это невозможно, раби Йосеф, Господь всё равно будет любить меня. Теперь я хочу из язвящего металла стать врачующим елеем!».