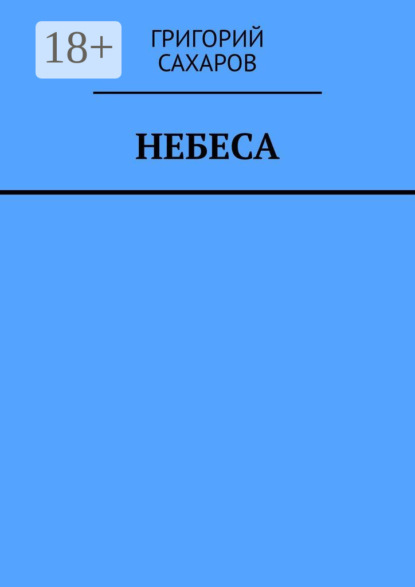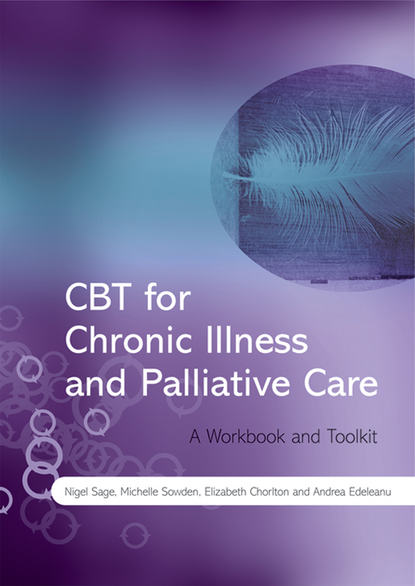- -
- 100%
- +
12. Гордус хранил верность Марьям-Красавице до её первого месячного очищения в его доме, и ещё два месяца скрывал от неё измену. Впервые застав мужа с рабыней, Марьям-Красавица закричала, будто увидела мышь или змею, и этот крик словно освободил царя от несвойственного ему поведения. С тех пор он перестал таиться, и очень скоро женился ещё раз.
А жизнь Марьям-Красавицы проходила в ожидании. Царь являлся к ней без предупреждения, когда хотел, в любое время дня или ночи, и промежутки между его посещениями могли быть любыми – от нескольких часов, до нескольких месяцев. Ожидая мужа, Марьям-Красавица выдумывала, а точнее, безмолвно изливала из сердца и без конца повторяла в мыслях гневные речи, которые она обратит к царю, как только увидит его: «Я царица, а не уличная девка! Ты обращаешься со мной, как со шлюхой, с той только разницей, что у шлюхи нет недостатка в любовниках, а я – то затворница, то шлюха, и никогда не жена. Ты обходишься со мной, как с вещью, тебе безразлично, когда и чего хочу я. Ты не щадишь моих чувств, будто я не имею права на ревность, ты приравнял меня, дочь первосвященника, к самаритя…» Но, как только Гордус переступал порог её покоев, Марьям-Красавица с улыбкой поднималась ему навстречу, и, когда она говорила: «Я ждала», в голосе звучал не упрёк, но благодарность. Марьям-Красавица понимала, что, прояви она непокорность, её брак, пусть даже такой, закончится, а вместе с ним, может быть, и жизнь. Она вела бесконечные мысленные распри с царём, занимаясь нарядами и притираньями, купаясь в бассейне или гуляя в саду, покачиваясь в паланкине над морем людских голов или выходя утром в затканную солнечными лучами трапезную и встречая там растрёпанного мужа, обнимающего другую. Она беззвучно укоряла, проклинала, стыдила и увещевала по-гречески, по-латыни, по-арамейски, засыпая и просыпаясь, плача и стирая следы слёз огуречным лосьоном. Однажды пожаловалась отцу, но Шимон лишь пожал плечами: «Все цари таковы, и у Соломона было шестьдесят цариц, восемьдесят наложниц и юных жён без числа. Наслаждайся богатством и властью над рабынями, а главное, воспитай своего сына лучше, чем другие женщины Гордуса воспитают своих. Гордус не вечен. А ты молода. Марьям, ты должна воспитать будущего царя», – сказал Шимон, так заглянув в тёмные, как осенние воды, глаза дочери, что Марьям-Красавица словно в видении узрела себя царицей-матерью, порфироносной вдовой. А в тугих, кольцеобразных кудрях сына всё время запутывается витой, золотой венец, и Гордус-Младший склоняет голову перед матерью, и она разбирает, разводит его волосы, сплетшиеся с тёплым металлом…
Только однажды Марьям-Красавица робко заговорила с Гордусом о том, что занимало все её мысли. «Мы так удалились друг от друга», – сказала она, трогая похожую на изюмину родинку на груди супруга. «Разве? А мне кажется, мы близки, как никогда, – Гордус приподнялся на локте, оставившем влажный след на простыне. – Редко захожу? Но вас же много, а я один. Дорогая, ты не должна ревновать, мужчина так устроен, Всевышний сотворил его стремящимся прочь. Новая женщина – новая жизнь. Но ты главная женщина в моей жизни. Если ты будешь присылать ко мне своих рабынь и подруг, мы станем ещё ближе», – и царь посмотрел на жену с любопытством. Марьям-Красавица улыбнулась так, что Гордус заметил изъян её улыбки. Царь уже был грузен, малиновый нос, формой и цветом напоминающий клюв хищной птицы, изрыли глубокие поры, сделав кожу похожей на морскую губку, и Марьям-Красавица подумала, что вся царственная привлекательность её мужа – в тяжёлом, вязком взгляде, лукообразном изгибе чувственного рта и тяжёлой поступи утомлённого победителя. Но это были те черты, в которые она влюбилась с первого взгляда, и которые ни с кем не хотела делить.
Марьям-Красавица теряла надежду что-либо исправить, и монологи в её сознании стали чередоваться с мечтаниями. Она представляла ворожею, которая сумеет присушить мужа так, что он других женщин и видеть не сможет без тошноты. Потом, что Гордус заболел сильно и постыдно, и от него отвернулись все, кроме Марьям-Красавицы. Она смогла вылечить царя, и он, облившись слезами раскаяния и благодарности, остался ей верен. Затем раскаяние мужа забылось, как нечто совсем невероятное, и в мыслях осталась только болезнь, как кара за зло, причинённое Марьям-Красавице. Постепенно воображаемая болезнь унесла всех жён и наложниц царя с их потомством. Всех, кроме Марьям-Красавицы и её сына. Годами мечтала она о смерти тех людей, которые окружали её ежедневно. Если к ней подбегал ребёнок другой жены Гордуса, она брала его на руки и, смеясь, языком щекотала младенческую шейку, представляя, как чёрная оспа изъедает эти атласные розовые щёки. Иногда, выдумав детские похороны, она плакала, и это давало ей повод считать себя добрым человеком.
Постепенно смерть по воле Всевышнего сменилась в фантазии женщины смертью, пришедшей по её, Марьям-Красавицы, воле. Гордус-Младший рос, и, вкладывая в пухлую ручку деревянный меч, Марьям-Красавица представляла, как эта возмужавшая рука закалывает отца и поднимает корону, золото которой, омытое кровью, только приобретает более глубокий блеск. Гордусу-Младшему пришлось бы убить и всех претендентов на престол, но Марьям-Красавице лень было думать об этом.
13. Перестройка Храма начиналась. Камни обработаны для кладки, и деревянные части сделаны, и второстепенные службы на храмовой горе уже стали разбирать.
Теперь Марьям бесконечно убиралась на строительной площадке. Едва успевала она вымести щепки и пыль, как на том же месте появлялись новые.
Это была самая весёлая стройка эпохи. В ней не участвовали ни рабы, ни наёмники, и никто не работал по принуждению или ради наживы. Коэны и левиты пели псалмы, разговаривали и смеялись, перекликались и стучали, сколачивая леса и прокладывая рельсы, и всё это – нарочито громко, радостно и удало. Шимон Бен Байтос удивлялся – как коганим удается извлекать мажор из каждого удара металла о металл, металла о камень. Коэны и левиты ещё только готовили строительную площадку – но они уже строили Храм.
С годами первосвященник всё меньше интересовался Марьям. Ковчег, камни эфода, урим ветумим – так давно это было, впечатление забылось, иногда Шимон думал даже, что спал тогда наяву, ведь не могли такие знамения не принести никакого плода.
Старый Храм ещё не потерял облика, но уже лишился обаяния святыни. Так плацента, пуповина и кровь ничего не значат, когда младенец больше не во чреве, а на груди матери. И, хотя новое здание всё ещё существовало только в чертежах и воображении строителей, все любили его, пренебрегая тем, которое разбирали. Лишь для Марьям старый Храм по-прежнему оставался Храмом, и она старалась поддерживать порядок в разрушаемом, и чистоту вокруг. Задача непосильная, и безумная. Но мать каждый день стирает пелены ребёнка, хотя и знает: он снова замарает их, и очень скоро из них вырастет. Так и Марьям трудилась, а все вокруг насмехались и подтрунивали над ней. Все, кроме Йосефа.
Обозревая подготовку к строительству в свите царя, первосвященник увидел Марьям и её двоюродного брата. Рядом, посреди известковой пыли, доходящей до щиколоток, стоял веник, – единственный свидетель, что Марьям мела здесь перед тем, как начать беседу с родственником. «Полоумная. – Кисло подумал Шимон. – Эта Марьям – пустой орех. Ей так много было дано с младенчества, а она предпочла стать поломойкой. Теперь же и вовсе опустилась до городской сумасшедшей. Что же будет, когда она станет женщиной, – не ждёт ли её судьба блудницы? Всевышний отнимает разум у тех, кто пренебрёг Его дарами. Да и Йосеф – такой же пустой орех, как она. Ему посчастливилось быть шурином первосвященника, а он ни разу не зашёл к сестре со дня моего возвышения. А я считал его умным когда-то, надеялся на его поддержку. Вместе мы многое могли бы сделать для семьи. А как он поздравил меня – просто осклабился в улыбке и сказал: «Поздравляю, Шимон, рад за тебя!» И ни поклона, ни подарка. Мне не нужно ни то, ни другое, но то и другое – важный знак: незнакомые люди присылали мне золото и ткани из одного уважения, а брат жены отдалился от меня, точно я заболел проказой, а не стал первосвященником. Всё это гордыня. Чем беднее родня, тем больше Йосеф с ней водится, родственников знатных он не выносит, хочет быть первым среди отребья, знает, среди людей уважаемых будет последним. С девчонкой его объединяет гордыня. Вот же несчастные! Как ни жаль мне их, но боюсь я увидеть их конец», – первосвященник поморщился, как от зубной боли.
В это время Йосеф говорил Марьям: «В твоём возрасте я страдал оттого, что не ощущал благодати. Измучившись, сказал Всевышнему: «Владыко Господи! Пусть лучше Твоё присутствие будет мне заслуженной карой за грехи, чем я вообще не узнаю Твоего присутствия. Лучше призову Тебя как проклятие, чем буду изнывать без Тебя, ожидая Тебя как благословение. Приди карой, горем, болью, смертью. Но посети, дай мне ощутить тяжесть десницы Твоей!». В тот же день я тяжело заболел лихорадкой. Телу моему никогда не было так плохо, но мне самому никогда не было так хорошо, как в недели той немощи. С тех пор я решил, что никогда, во всю свою жизнь не осужу и не обижу грешника, потому что как знать, что толкнуло его на грех – не ищет ли он проклятия, возжаждав Самого Господа более чем Его благословения?» «И я знаю, раби Йосеф, чего хотела бы во все дни жизни, – отвечала Марьям. – Заботиться о Господе – всё время, всё время молиться о том, чтобы все, все, все стали святыми, чтобы все иглы обратились в елей. Мне бы очень хотелось молиться и во сне. Как вы думаете, раби Йосеф, это возможно, или мне только снится, что я молюсь?»
14. Марьям росла. Первосвященник больше не сомневался: он ошибся, не было в ней ничего сверхъестественного. Шехина не может познать состояния ритуальной нечистоты, не может выйти замуж и рожать детей. А Марьям это, видимо, предстояло. Шимон удалил бы её из Храма тихо, отправив домой под опеку Йосефа, её ближайшего, помимо жены Шимона, родственника, но первосвященника изнуряла одна картина, постоянно стоявшая перед его внутренним взором. К Шимону подходил член Санхедрина и лукаво спрашивал: «А где же эта чудесная Марьям, наделённая такими привилегиями? Что с ней сталось?» В видениях Шимона один вопрошавший заменял другого, они подходили парами, и по трое, и всем Санхедрином. Их молитвенные покрывала пахли пылью и хумусом. Старики улыбались желчно, и весело, почти добро, и ехидно, и с серьёзной благочестивой печалью, хихикали за спиной Шимона, вздыхали или маскировали неприличный хохот под приступ кашля. Первосвященник прозревал сцену своего унижения, меняя декорации и обстоятельства, место и время действия. Шимон даже начал представлять себе несчастный случай с Марьям – она падала в котлован или с лесов, которые забралась помыть, и тело её странным образом бесследно исчезало, а первосвященник говорил коэнам: «Господь забрал Свою Шехину за грехи народа, молитесь о её возвращении». Подобные видения как пчёлы в тесном улье тяжело толкались в голове измотанного тщеславием старика, но стоило ему однажды усилием воли отогнать их, как пришла мысль получше: «Место Марьям – в гареме Гордуса. Если царь захочет взять её, никто не сможет ему перечить. «Какого ещё мужа, кроме царя, вы прочили этой благословенной деве?» Конечно, все подумают, что Марьям всё-таки не Шехина, но сказать – сказать ничего не посмеют». Такой брак формально оправдывал привилегированное положение Марьям в Храме – непростая дева, достойная царя, как Ависага Сунамитянка, – и снимал с первосвященника ответственность за её устранение из Храма в том случае, если она и в самом деле была необычной. А ко всему – ещё одна родственница первосвященника войдёт в семью Гордуса. Пророческий дух внушил Шимону, что Марьям рождена быть царицей, но тщеславие, застилавшее его плотский разум, заставило первосвященника думать, что Марьям – царица земная.
Шимон знал, для выполнения его плана достаточно только напомнить царю: есть такая Марьям, которая в трёхлетнем возрасте была введена в Храм, и вот через несколько месяцев ей исполнится двенадцать, – остальное Гордус сделает сам. Шимон завёл разговор во время семейного обеда, когда его дочь сидела рядом с царём и, улыбаясь, вертела в пальцах локон: других жён за столом не было, и Марьям-Красавица изо всех сил заигрывала с мужем, стараясь продлить уединение. Она как раз щекотала ступню о ноготь большого пальца на ноге Гордуса, когда её отец заговорил о Марьям. В глазах царя вспыхнул и поплыл болотный огонёк. Царь убрал ногу. Марьям-Красавица помрачнела и отпрянула, словно в лицо ей бросили горсть кладбищенской земли. Шимон понимал: дочери будет больно, но считал, на этот поступок его толкает необходимость. Шимон увидел, как потемнело и осунулось лицо Марьям-Красавицы, и почувствовал, что сердце его словно сжала железная рука. Приказал: «Отпусти». Она отпустила, но вместе с болью вынула из сердца Шимона и Марьям-Красавицу: больше он не мог думать о ней, как о дочери, и даже в мыслях стал называть её: «Царица».
«Не отсылай её, пока я не побеседую с ней, – сказал Гордус. – Мне интересны все женщины с этим именем».
15. Марьям-Красавица стояла посреди площади у подножия горы Мория, и с трудом узнавала очертания Храма вверху. Там всё было залито цементом и глиной, и больше напоминало болото, чем что-либо ещё. Перстень с ядом жёг палец Марьям-Красавицы, и она яростно вертела кольцо, скользящее по мокрой от пота коже, стаскивала и надевала его, не зная, как сможет воспользоваться ядом. Марьям уже позвали. Она вышла из Дома девиц, единственного не снесённого ещё здесь строения, и поспешила навстречу посетительнице. Стоило гостье взглянуть в её сторону, как на сердце у царицы стало легко и безмятежно – в последний раз такое было в детстве, в Александрии, на мозаичной террасе, выложенной плитами света. Марьям-Красавица увидела девушку, которая не догадывалась о своей красоте, будто и не слышала никогда, что женщина может быть прекрасной, и не знала зеркала. Девушку, пренебрегшую красотой настолько, что мужчины, – подумала Марьям-Красавица, – должны бы видеть в этом оскорбление. Ведь красота женщины принадлежит мужчине, не радея о ней, женщина покушается на собственность обладателя. Девушка из Храма явно не собиралась принадлежать мужчине, и у неё был странный взгляд – детский и одновременно заботливый, будто она и в Марьям-Красавице увидела нуждающегося в опеке ребёнка. «Здоровый мужчина не возжелает ни дитя, ни матери, – сказала себе Марьям-Красавица. – А передо мной и дитя и мать в одном лице. Наверное, она ненормальная. У Гордуса столько драгоценных каменьев в золотых ларцах, что он не станет ещё один камень выгребать из навоза». И Марьям-Красавица посмотрела на девушку почти нежно. Та, чуть заметно улыбаясь, слегка склонив голову, ждала, что скажет гостья. «Тебе нет и двенадцати, а ты моя двоюродная тётя. Как поживаешь, тётушка?» – Марьям-Красавице хотелось шутить. Девушка улыбнулась чуть заметнее: «Благодарение Господу, хорошо». «Скоро вы все уедете отсюда, где будешь жить ты?» «Не знаю, я не думала об этом, Господь решит. Теперь мне всё равно, где жить, ведь нет другого Храма Всевышнего, а родители мои отошли». «Обрадуешься, если родственники выдадут тебя замуж?» «Я не думала об этом, как Господь решит». «Ты совсем ребёнок, и ещё ничего не знаешь, – Марьям-Красавица усмехнулась. – Что бы с тобой ни случилось, – можешь рассчитывать на моё покровительство. Ты и не понимаешь, как порадовала меня сегодня». «Пока живу, буду молиться за вас, госпожа», – отвечала девушка с такой готовностью, что Марьям-Красавица поняла: а ведь и правда будет, и колючий мороз пробежал по её позвоночнику. Она пошла прочь, к рабам с паланкином, тяжело подволакивая накидку, низ которой напитался грязью, – так бабочка несёт намокшие крылья. В этот день Марьям-Красавица была счастлива: она встретила женщину, не претендующую на её мужа, но вечер испортила Дорина, и всё стало по-прежнему.
16. Гордус инспектировал стройку. Он шагал по цементной жиже у подножия горы Мориа, не разбирая, куда ступает, и чувствовал, как его икры стягивает высыхающая грязь. Это было приятно, – простая, естественная жизнь хватала царя за ноги, будто молила о пощаде. Свита Гордуса также шлёпала по грязи, не смея обходить или перешагивать лужи. Советники глотали тяжёлые вздохи – они губили дорогую обувь и пачкали парадные плащи. «Мой Храм», «мои коэны», «моё дело» – говорил царь. Слыша это, первосвященник раздувал ноздри, и нос его становился похож на парусник. Шимон рассчитывал, что слава возведения нового Храма достанется ему, Храм Зоровавеля сменится Храмом Шимона Бен Байтоса, ведь это он склонил народ согласиться на перестройку, без его помощи никто не послушал бы идумея. Но Гордус не оставлял тестю славы, всё брал себе.
Увидев Дом девиц, царь остановился и приказал позвать Марьям. Он смотрел на дверь Дома, не отрываясь, как кот на мышиную нору. Но едва Марьям вышла, и царь взглянул на неё, он с трудом подавил зевок глубочайшей скуки, такой, от которой закатываются глаза и слюна выступает на нижней губе, готовая стечь нитью паутины изо рта спящего. «Эта девушка с разумом младенца и душой старухи. Вот что делает с людьми излишняя религиозная ревностность. Отнимает сердцевину жизни, оставляя лишь её скорлупу, – подумал Гордус. – Здесь, передо мной нет женщины». Заговорить с Марьям царя заставило то же любопытство, которое вынуждает взглядом следить за передвижениями мухи по стене. Он спросил: «Ты бы хотела стать женой царя, если бы вдруг тебе выпал такой жребий?» «На всё воля Господа», – отвечала Марьям так спокойно, что это спокойствие оскорбило Гордуса. «Я знаю, ты религиозна, не старайся показаться скромнее, чем ты есть. Ты, сама, если бы Господь тебя спросил об этом, – хотела бы стать женой царя?» «Нет, я предпочла бы скромный жребий и навсегда осталась бы в Храме». – Марьям не выказала ни страха, ни восхищения, отвечая Гордусу. Она была ровна по-прежнему, как человек, в одиночестве беседующий сам с собой. «Так что, оставшись в Храме, ты никогда не выйдешь замуж? Не родишь детей своему народу? Зачем же ты живёшь?» – Царь повысил голос и взял возмущённый тон, чтобы напугать и смутить девушку. «Я живу ради Господа», – так же, как и прежде, сказала Марьям. Гордус нащупал в душе нерв раздражения и нажал на него, как языком нажимают на больной зуб: «Много же ты о себе вообразила! Я уверен, очень скоро ты выйдешь замуж, если не просто сбежишь с мужиком». Марьям молчала, склонив голову так низко, что царь видел только кромку её лба, белый полумесяц. У Гордуса заходили желваки, тяжёлые, как мельничные жернова, в углах рта спеклась белая слюна: «Я уверен, ты лжёшь. Я не люблю лгунов. Помни же, я буду следить за тобой. И если узнаю, что ты обманула меня и забрюхатела, я велю убить твоего ребёнка, всех твоих детей. Дабы ты знала: если сказала царю, что предпочитаешь целомудрие – должна умереть старой девой. Уверен, даже угроза смерти твоему порождению не остановит тебя, когда ты захочешь задрать платье. Уберите её отсюда, и пусть не работает при моём новом Храме», – бросил Гордус свите, уже удаляясь. Ветер плащей просвистел мимо Марьям, грязь из-под сандалий долетала до её рукавов.
В тот же день первосвященник велел разыскать шурина, впервые отлучившегося со стройки домой, – у Йосефа умерла жена.
17. Йосефу пришлось нарушить шиву ради Марьям, но он думал, Эсха одобрила бы его. Жену Йосеф любил так, что не смог бы оставить её, даже если бы она оказалась бесплодной. Он познакомился с Эсхой, когда отец привёл его посмотреть на будущую невесту, и то, что ему открылось, едва девушка сняла покрывало с головы, ослепило Йосефа, как свет, и, как свет, одновременно подарило возможность видеть, словно девушка скинула покрывало со всех миров, скрытых и явных. Она не была красива, но, взглянув на неё, Йосеф изменил свои представления о красоте. Раньше для него были красивы только мать и сёстры, теперь Эсха затмила их. И из двух дочерей Йосефу более красивой казалась та, что больше походила на мать, и он удивился, что не к ней первой посватались.
Мудрецы говорят, смерть первой жены – как разрушение первого Храма. Но Йосеф думал, разрушение первого Храма перенести было легче – кто не верил тогда, что явится и Второй? Второй, но тот же Храм того же Бога. А Эсха была одна. Йосеф помнил слова Марьям о покое усопших, но жена унесла с собой в могилу глаза и уши, руки и ноги Йосефа, и он знал: до тех пор, пока Машиах пробудит её, и она вернёт Йосефу часть их общей плоти, жизнь его будет долгой тоской разума, запертого в тюрьме. «Ты легла в постель, я – в могилу», – сказал Йосеф жене, запечатывая гробницу. И в сознании его всплыли слова Марьям о блаженстве старости. «Остаток моей жизни – всего лишь одна бессонная ночь, а мне не привыкать к ночной бессоннице», – говорил он, уходя от гроба. А Йоси сказал старшему брату Яакову: «Посмотри внимательно на отца, у него на лице смертная тень». Но Яаков внимательно посмотрел на Йоси.
18. Девять лет в Храме прошли быстро, и унесли с собой Храм. Некогда приведённая к величественному зданию, Марьям покидала гигантскую строительную площадку, утопающую, несмотря на все старания девушки, в строительном мусоре, грязи и пыли. Одна Марьям ещё помнила Храм Зоровавеля во всех подробностях. Она помнила всю гору Мориа – от камней у её подножия до Эвен Штия в Святая Святых. Она помнила и Ковчег Завета, ставший песком пустыни – все вещественные святыни Израиля Марьям держала в памяти, а невещественные – в сердце. Она не тосковала о Храме, которому отдала детство и начало юности, пожертвовала игры, разговоры с подругами и часы сна, как мать не жалеет младенческих пелёнок, радуясь тому, что ребёнок растёт, хотя и ткала эти пелены долгими ночами беременности. Но, и выбросив, она не забывает их.
У Марьям никогда не находилось времени на игры с другими девочками, и у неё не появилось подруг. Прощаясь с ней, даже не все спрашивали, куда она пойдёт, где станет жить, и нет ли у неё жениха. Но Марьям не замечала пренебрежения. Она знала о девушках всё, – привыкла быть внимательной. Марьям молилась обо всех соученицах, и потому считала их своими подругами, хотя они не догадывались об этом, – у них сложились другие критерии дружбы. Изо всего множества людей, девять лет окружавших Марьям при Храме, только двое стариков страдали от предстоящей разлуки с ней: самый старый сойфер Шимон-Старец и старшая наставница сирот Хана. Они заменили Марьям родителей, а могли бы заменить ей деда и бабушку, если бы родители Марьям были моложе.
Марьям ещё совсем малышкой сказала Хане-Наставнице, что хотела бы не выходить замуж, а на всю жизнь остаться при Храме и служить одному только Господу. Старуха была тронута – она сама в детстве грезила о том же, но родители отдали её мужу. Брак оказался и недолгим, и несчастным – бездетным. Много лет назад Хана и её муж пришли в Ершалаимский храм из-за Евфрата, с Нишапурских гор, молиться о рождении детей. Муж заболел в пути, и умер в Ершалаиме. Хана могла вернуться домой со своим караваном. Но осталась. Она сидела у городской стены, прижималась к ней спиной и чувствовала жар и притяжение святыни. Храм словно протянул руки любви сквозь камни и обнял Хану, чтобы не отпустить никогда. Бог любил её больше, чем муж, и обещал большее, чем дети, родина и богатство.
Хана чувствовала себя беременной Храмом. Она видела его с любой точки города – незыблемый и будто недоступный. И ощущала внутри себя. Там он был живой, трепещущий, но тоже недоступный. Хана понимала, что не сможет уйти, потому что тогда Храм внутри неё погибнет.
Боясь этих странных чувств, она отправилась было на условленное место сбора каравана, но не дошла, сидела у городской стены, прижималась к ней спиной и чувствовала жар и притяжение святыни.
За два месяца пути в Ершалаим Хана сроднилась с караванщиками, и теперь ей так странно было смотреть на знакомые лица снизу, и щуриться от искр песка, высекаемых копытами верблюдов, которых Хана, как и караванщиков, помнила по именам. Никто из земляков не узнал её, точнее, не посмотрел на нищенку у стены. А Хана цеплялась взглядом за каждое уходящее лицо, словно хотела быть спасённой из объятий Храма, но и боялась этого. В скулу отвернувшегося Овадии, – он помогал хоронить её мужа, – Хана вгляделась так, что зрение её обострилось, и в чёрной бороде Хана разглядела два седых волоса. Хана обоняла верблюжий пот, кислый дух старых кожаных стремян и уютный – тёплого металла. Только верблюд по кличке Шакед, на котором Хана приехала в Ершалаим, вспомнил её запах и потянулся было к ней мягкой, как персик, мордой, но погонщик прикрикнул на него, а затем и ударил, потому что верблюд послушался не сразу: прежде Хана кормила его хлебом и ласкала.
Сердце женщины рвалось вслед каравану. Домой, к родителям, сёстрам, брату, племянникам, тётушке Зелфе, соседке Лее, к ларцам с серебром и бирюзой – подарками мужа и отца, оно не возражало против брака с Хаимом, братом мужа – в надежде на материнство… Чувства Ханы тянулись за пылью на дороге, поднятой караваном. А Хана оставалась – одинокая, нищая, всем чужая, вечная вдова. С голодом, холодом, тоской, болезнями и Храмом. Сидеть у подножия Храма и ощущать его, как беременная ощущает чрево – стоило всего. Бог услышал молитву Ханы – вместо беременности Он дал ей Храм, как беременность, и как беременность это должно было увенчаться чудом.