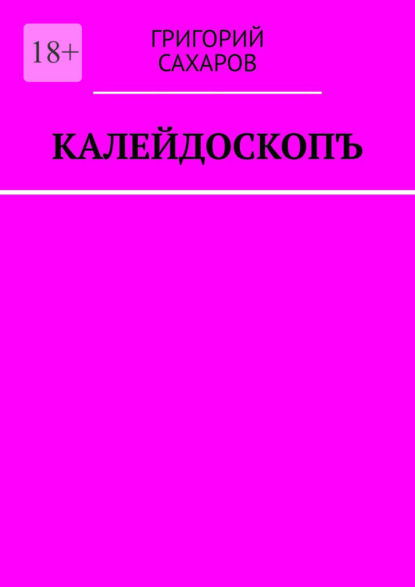- -
- 100%
- +
Когда Хана застонала, ибо караван, уходя, вынул из неё душу, оставляя лишь память – для фантомных болей, сухая морщинистая рука что-то ласково вложила в ладонь Ханы. Бедная старуха подала Хане первую милостыню – и Хане стало легче, как больному лихорадкой – от глотка воды.
Она понимала, её поступок безумен, и стеснялась его, и никому, кроме Марьям, не говорила, что осталась в Ершалаиме добровольно. Все считали её потерявшейся.
Хана вошла в общество Ершалаимских нищих, и поступила на попечение благотворительной службы Храма, – её кормили, за неё приносились жертвы.
А когда, через много лет нищенства и одиночества, месячные очищения у неё прекратились, Хана стала наставницей девочек-сирот из приюта. В пять-шесть лет многие девочки под влиянием Ханы-Наставницы высказывали то же желание, что и Марьям, но к десяти годам все они уже мечтали о замужестве. Одни делали тряпичных младенцев, другие выдумывали красавцев-женихов, третьи мечтали о доме. Только одна Марьям не изменила желания. Хана-Наставница знала: девочка – круглая сирота, у неё нет родных братьев. И это давало надежду: Марьям сможет не вступить в брак, если сама не захочет этого. Вечерами, когда ученицы отдыхали, старуха и девочка уединялись в мастерской, неспешно пряли, не зажигая плошки – пальцы их знали шерсть и веретено на ощупь, а казённое масло не полагалось тратить в неурочное время, – и разговаривали. В темноте трещали сверчки, а когда они вдруг затихали, словно прислушивались, становилось слышно, как тикают короеды. Иногда нить в руке девочки или старухи высекала скромную зарницу статического электричества, и это забавляло обеих прях.
«Только дева и может служить Богу, – говорила Хана-Наставница. – Замужняя служит мужу. Нет ничего полезнее смирения, и ничего прекраснее целомудрия, и так милостив Господь, что соединил полезное с прекрасным. Думают: те, кто живёт без семьи, – бездельники. А всё зависит от человека. Трудись для других – разве муж единственный, для кого стоит это делать? Что с того, что не родишь? Разве мало сирот в Израиле? Я не родила, но хожу за детьми, рождёнными другими – и у меня их триста. Разве смогла бы я родить столько? Разве вы не мои, хоть и не я родила вас? Ты ещё не знаешь, что такое плоть. То место, которое даёт жизнь детям, оно же есть и могила их родителей. Оно заставляет думать о нижней части мужа, когда ты хочешь думать о Всевышнем. Лицо покойного мужа я забыла раньше, чем его объятия. А что толку мне, вдове, было помнить о них? Эта память украла у меня годы молитвы…» Заволновавшись, Хана-Наставница уронила веретено, и, наклонившись за ним, поймала опередившую её руку Марьям, тёплую и шершавую. «Это не рука невесты, – подумала старуха, – будь ты благословенна между девами…»
Шимону-Старцу перевалило за сто, но он ещё ходил в Храм, и даже писал, левой рукой поддерживая локоть правой. Он не мог разглядеть лица Марьям, хотя узнавал её фигуру по быстрым, но спокойным движениям, и эти движения всегда имели определённую цель – девочка всё время что-то чистила, мыла, вытирала, собирала мусор, который старик не видел. Забота о чистоте заменяла девочке игру, и Шимон-Старец удивился, когда узнал, что это та самая Марьям, которой тайно дозволено посещать все помещения Храма. Он думал, привилегированная Марьям так же тщеславна, как ее родственник первосвященник, и изображает из себя Шехину, и его поразила догадка, что она делает уборку и в Кодеш Кодашим. «Если она так старательно моет камни под ногами жертвенных животных, то как же она убирается в Давире», – сказал себе Шимон-Старец, и ему очень захотелось поговорить об этой девочке с Ханой-Наставницей. Он не был доволен тем, что услышал от старухи, и это заставило сойфера познакомиться с Марьям. «Нет ничего лучше и святее материнства, – говорил он девочке. – Не слушай старуху, Бог не дал ей детей, и эта боль лишила ее разума. Я живу долго и, хотя мои глаза почти ничего не видят, и я даже тебя не смогу узнать с двух шагов, если ты не будешь двигаться; мои глаза видят главное: они отличают свет от тьмы. И я вижу, если ты пожелаешь, ты станешь матерью Сына Божьего и Сына Человеческого, матерью великого пророка, а, может быть, и самого Машиаха. Он спасёт народ от греха и смерти, а ты будешь благословенна между жёнами. Но если ты послушаешь бредни Ханы – Машиах снова не придёт, и я уж точно не увижу его». «Раввуни, я не достойна чести быть матерью Мессии», – отвечала Марьям. «Скажи, кто из людей достоин рождения на свет Божий? Но все мы родились, дурные, хорошие и не очень, и Господь не спрашивал нас, считаем ли мы себя достойными жить в этом мире. Ты родилась – и твой долг дать жизнь другому, а кто родится – не твоя забота. Я не вижу, но знаю, ты бледная, завтра я принесу тебе гранат, и прослежу, чтобы ты сама его съела», – сказал Шимон-Старец. Он давал Марьям гранатовые яблоки и смоквы и рассказывал ей о своих детях и внуках, надеясь пробудить в девочке материнский инстинкт.
19. Пока Марьям собиралась, трое ждали её у Дома дев, наблюдая, как рабочие по деревянным рельсам тащат к нему стенобитное орудие, чтобы снести ветхое здание сразу же, как только последняя постоялица покинет его. Марьям нечего было собирать, она просто молилась, вспоминая всех, с кем за девять лет делила этот кров, тех, кто уже забыли её. А старики шептали в уши Йосефу и дёргали его за рукава, каждый старался отвлечь Йосефа от слов другого. «Раби Йосеф, не принуждай Марьям к замужеству, помни, она дала обет девства», – бормотала Хана-Наставница. «Выдай её замуж за достойного человека, помни, дело не в богатстве, найди ей праведного мужа, она родит Мессию», – хрипел Шимон-Старец. «Смешные старики, наверное, и я такой же», – с улыбкой подумал Йосеф. Уши его уже были горячими от трения губ пророков, их закладывало от попавшей в них слюны. Через два года, когда Шимон-Старец и Хана-Наставница, как могли, бежали навстречу Марьям, держащей на руках младенца, Йосеф вспомнил эту мысль, и ему стало стыдно.
Марьям вышла, и старики поспешили к ней, прихрамывая и соревнуясь – каждый хотел обнять её первым. Дальнозоркие пророки, они боялись больше не увидеть её. Старики обняли девочку вместе, и каждый забормотал ей своё. «Раввуни Шимон, аму Хана, – сказала Марьям, – я хочу быть девой и матерью одновременно, и прошу об этом Господа, ведь всё возможно Богу». Старики промолчали, поражённые неожиданной наивностью взрослой девочки, и только Хана-Наставница пообещала на прощание: «Я пришлю тебе прясть хороший заказ».
Йосеф оставил Марьям на улице и свернул в шатёр, где мужчины разувались перед тем, как подняться на Храмовую гору. Он выглянул оттуда в смятении и подозвал Марьям к двери, подняв полог, чтобы ей было хорошо видно. «Посмотри, помнишь, маленькая ты подарила мне прутик? Я посадил его, как ты приказала, и он принялся, и стал кустом миндаля. Одну ветвь сломал ветер, и чтобы она не пропала, я сделал из неё этот посох. А теперь на нём сидит голубка и, смотри, появились зелёные побеги, хоть снова сажай». Йосеф аккуратно взял посох, так, чтобы не потревожить птицу, а она и не улетала, доверчиво воркуя и переступая красными лапками на рукоятке. «Это ручная, – озабоченно сказала Марьям, – где же её хозяин?» Едва оказавшись на улице, голубка слетела с посоха и пересела на голову Йосефа. Он ощутил вес упитанной птицы и услышал громкое курлыканье. Вдруг, обдав голову старика прохладой крыльев, голубка унеслась в небо так быстро, будто рука ветра схватила и утащила её за облака. «Давай посадим этот посох возле твоего дома?» – предложил Йосеф. Марьям улыбнулась: «Вот и ещё одна причина, раби Йосеф, чтобы пойти в Нацэрет». Йосеф не смел спорить. Он думал, сначала отвезёт Марьям к своим, в Байт Лехэм, а потом они отправятся в пустой, заброшенный дом Марьям в Нацэрете всей семьёй, отремонтируют его, дочери Йосефа помогут Марьям наладить хозяйство, прежде чем Марьям останется там одна, но девушка не соглашалась. Она боялась потревожить семью Йосефа и помешать её трауру.
«Раби Йосеф, я ведь буду не одна в Нацэрете, я всех там знаю!» – говорила девушка, и Йосеф улыбался бы её словам, если бы не тревожился о ней так, – ведь Марьям покинула родной город трёхлетней крошкой.
20. Они пришли в Нацэрет к полудню. Йосеф не смел опираться на давший ростки посох, и нёс его, как некогда Аарон свой жезл. Это вызывало улыбки у встречных, а молодые путники и вовсе смеялись у него за спиной.
Уже в предместьях Марьям вспомнила дорогу, и девушка вела Йосефа к дому родителей, а не он её, хотя бывал у тёти Ханы часто, и только годы и скорбь по жене исказили в его памяти знакомый путь.
Дом Марьям выглядел мёртвым. Пока Марьям убирала Дом Господень, её жилище пришло в запустение. Йосеф сокрушился: «Если бы не надо было забрать тебя немедленно, я бы сначала привёл сюда дочерей, чтобы они убрались и всё приготовили для тебя, а теперь они придут помочь тебе только на днях, я потороплю их». «Не надо присылать их, раби Йосеф. Это дом моих родителей, подарите мне счастье убрать его самой», – сказала Марьям, принимаясь ломать полынь у двери, чтобы освободить вход, а заодно и сделать веник.
Йосеф первым делом примерил к забывшей кирку и лопату почве свой нежданный саженец, и Марьям тотчас оставила то, за что взялась, и отправилась на водонос – ведь зазеленевший посох нуждался в поливе.
Там её заметили женщины. Не узнав девушку, они не подошли к ней, но тихо потянулись следом, сложив у колодца кувшины и коромысла. Увидев, у чьего дома идут хлопоты, женщины с удивлением и разочарованием поняли, что девушка в старом запылённом покрывале – Марьям, та чудесная девочка, которая некогда молилась по их просьбе, и молитвы исполнялись. Женщины думали, Марьям живёт в большой чести при Храме, а если и покинет его, то поселится в доме своего родственника первосвященника – где же ещё? Но она вернулась, и была бедна, и только старик в траурных лохмотьях помогал ей.
Йосеф тем временем подправлял деревянные подпорки у каменной стены, когда-то белой, но теперь уже почерневшей от дождей, и вспоминал, как сидел возле неё с Йехойакимом. Как они пили вино и уклонялись от пчёл, которые то и дело вбуравливались в сердцевинки цветов, растущих на стене, и осыпали желтую пыльцу в тяжёлые чаши. Увлёкшись, Йосеф не почувствовал, что за ним наблюдают, и сразу получил у соседей Марьям, – которых не увидел, но они прекрасно разглядели его – прозвище: Плотник.
А женщины осмелели и окликнули Марьям. Девушка давно приметила наблюдательниц, и с радостью поспешила к ним. Улыбаясь, она назвала всех женщин по именам и справилась о здоровье их супругов и детей, – чьи имена тоже знала. Это потрясло женщин. Прошло девять лет, трёхлетняя малышка стала девушкой, но всех помнила. Не исчезла и та радость, с какой она всегда бежала навстречу приятельницам матери, детская радость, что сменялась не по возрасту взрослой серьёзностью, как только у девочки просили молитв. Женщины молча, и даже без улыбки смотрели на неё, не понимая, что эта ясновидица делает в их захолустье. «Тётя Цеппора, тётя Марта, сестрица Дебра, я помню вас, вы совсем не изменились!» – говорила Марьям двум старухам, которые сами не узнавали своё отражение в воде, и беременной молодухе, что девять лет назад была семилетним ребёнком. Дети рано помнят самых близких – мать, отца, братьев и сестёр, а Марьям помнила всех, кого когда-либо видела. Нерассеиваемую внимательность к другим люди часто принимают за чудесную прозорливость, тогда как чудесна не сама внимательность, а её причина – любовь.
«Сейчас мы принесём тебе еды, а Дебра – во что переодеться, а потом всё приведём в порядок. Я и сама заметила, что изменилась мало, просто устаю очень», – сказала одна из старух, и женщины поспешили к домам, забыв про воду.
Видя, что к Марьям сбегаются соседки, и каждая что-нибудь несёт, Йосеф стал успокаиваться, с изумлением убеждаясь: Марьям, действительно, здесь не одна, и засобирался. «Я буду держать траур по вашей супруге, как по своей матушке», – сказала ему на прощание Марьям.
Так она вернулась к деревенской жизни от славы Храма – думали соседи, не знавшие, чем занималась Марьям в Ершалаиме. В Нацэрете было меньше труда и пыли, и обычная сельская жизнь показалась девушке праздностью. Вскоре она уже всё своё время отдавала помощи соседкам, а по ночам пряла и ткала в пользу Ершалаимского приюта. Она не завела хозяйства и почти не работала для продажи, обрекая себя на вечную грань между нищетой и нищенством, но не замечала этого. Марьям была трудолюбива и искусна в рукоделиях, и поэтому могла стать относительно богатой. Но мысль об этом ни разу не пришла ей в голову.
Йосеф быстро понял: всё, что бы он ни привёз Марьям, – продовольствие, ягнят, шерсть или ткань, – она раздаст многодетным соседкам, и малознакомым бродяжкам из окрестных селений, которые повадились в Нацэрет, прознав о Марьям. Но всё равно: Йосеф по-прежнему пытался обеспечить девушку всем лучшим из того, что имел.
21. Однажды на рассвете Марьям узнала от ангела, что её молитва исполнилась. И тотчас отправилась в Хеврон, к троюродной тётке Элишеве, – помочь ей готовить приданое для ребёнка, и чтобы Элишева научила Марьям ухаживать за малышом, и ещё – увидеть роды, и понять, что делать, когда они начнутся.
Марьям шла, чувствуя сквозь изношенные подошвы ночной холод декабрьской земли. Решив, что младенцу тоже холодно, девушка стала корить себя за легкомыслие и молиться, прося послать ей попутную повозку, – проехать на ней до тех пор, пока землю не нагреет солнце. Если бы Марьям помолилась о том, чтобы мгновенно потеплело, произошёл бы всплеск солнечной активности, и зима на несколько дней сменилась бы весной. Но Марьям только однажды попросила о чуде и, счастливая этим, ни разу в жизни не искусилась всесилием Всевышнего. Ни на свадьбе в Кане, когда поручила сыну сотворить чудо, сама смиренно избежав этого, ни позже, у креста.
До самого Хеврона Марьям подвезли в обозе торговки шерстью. Они распороли мешок и укутали бедно одетую девушку пыльной куделью, кисло пахнущей овечьим потом. Марьям думала, младенец, наверное, будет любить этот запах и рано начнёт ходить за ягнятами.
А ребёнок был тогда неоплодотворённой яйцеклеткой. Она начала делиться, и одна из двух копий материнских генов мутировала под воздействием радиации, тонким направленным лучом пронизавшей клетку в тот момент, когда Марьям дала ангелу утвердительный ответ.
22. Шимон-Старец был более чем на тридцать лет старше Закарийи, но в их годы это уже не имело значения, – старики дружили. Закарийя поверил в пророчество Шимона-Старца о том, что Марьям станет матерью Мессии, задолго до того, как ему самому явился ангел, вдруг выглянувший из Кодеш Кодешим, когда Закарийя подошел к жертвеннику для воскурения с совком раскалённых углей в одной руке и пучком трав в другой.
А Элишева верила в то, во что верил её муж.
«Может быть, я бесплодна потому, что всё плодородие нашей семьи отошло Марьям. Вот если бы так! Ребёнка Марьям я стану любить, как своего. Или, может быть, Всевышний пошлёт мне дитя, как Сарре, в старости, когда матерью сделается и Марьям, чтобы мой ребёнок стал слугой её ребёнку», – думала Элишева, ворочаясь жаркими ночами на давно уже одиноком ложе, и прислушиваясь к шумному, тяжёлому дыханию мужа в соседнем покое. Если Закарийя переставал дышать громко, Элишева тихонько вставала и подкрадывалась к мужу. Она склонялась над ним в полном, непроницаемом мраке, чтобы ощутить кисловатое дыхание Закарийи на своём лице и успокоиться: Закарийя жив, и Элишева ещё сможет стать матерью. Так делала она не первый год, и ни разу не разбудила мужа, ни разу не коснулась случайно его лица прядью волос или краем одежды.
Элишева верила в то, во что верил её муж, потому-то она и приветствовала Марьям словами: «И откуда это мне? Пришла мать Господина моего ко мне!»
Лицо Марьям вспыхнуло и так засияло радостью, что Элишева поняла: Марьям уже готовится стать матерью. «Благословенна ты между жёнами, и благословен плод чрева твоего! – продолжала Элишева, уверенная, что Марьям – чья-то супруга. – Прости нас, мы не слышали, что ты вышла замуж. Кто твой муж, и почему не входит?» – Элишева не могла предположить, что Марьям совершила долгое и опасное путешествие без сопровождения мужчины. «У меня нет мужа, – отвечала Марьям. – Величит душа моя Господа. Я просила Его, чтобы мне сохранить девство, и стать матерью, и Он исполнил мою молитву. И вот уже пятый день младенец со мной. Не разрешит ли рабби Закарийя остаться мне у тебя, пока ты не родишь? Я немного научилась прясть, ткать, и шить, и хочу помочь тебе готовить приданое для малыша, если ты позволишь». «Закарийя, как и я, будет благословлять Бога, если ты останешься жить с нами. Двоим малышам расти веселее, и Йосефу так легче», – Элишева впервые принимала серьёзное решение сама, не сомневаясь, что муж её решил бы так же. «Благослови тебя Бог, аму Элишева, но я всё-таки вернусь в дом родителей. Я там не одна, соседи мне как семья, и даже в соседних деревнях у меня много друзей». – Марьям говорила о тех попрошайках, которые заявлялись к ней в любое время дня и ночи, чтобы взять последнее. Она не могла не вернуться в свой бедный Нацэрет, – там не было никого, кто не пожалел бы о её исчезновении. Никого, кому Марьям не облегчала бы жизнь.
Вечером Элишева всё рассказала Закарийи, потерявшему голос от потрясения, пережитого им при известии, что у них с Элишевой всё-таки будет ребёнок: «Марьям – благословенная дева, я верю, всё так, как она говорит. Разве не чудо, что мы с тобой ждём дитя на старости лет? Такое же чудо было и с Ханой, когда она зачала Марьям. Что же странного в том, что Марьям зачала, будучи девой? Она особенная». Закарийя энергично закивал. Уже полгода он страдал оттого, что не может сказать жене, как любит её.
Тора запрещает браки, заведомо не ведущие к продолжению рода, и, если брак бесплоден в течении десяти лет, не препятствует разводу. Но Закарийя не расстался с Элишевой, и не взял другой жены, так же поступил и Йехойаким. Они обрекли себя на поношение, их считали грешниками, – ведь они, подобно царю Хизкияу, не выполняли заповеди «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» из-за пристрастия к своим бесплодным женщинам. Любовь этих пар была сильнее не только обстоятельств, традиций, общественного мнения, но и Закона. Марьям и Йоханан – дети, послужившие Упразднителю Закона, родились в семьях, предпочетших Закону Любовь.
Закарийя мог бы писать жене письма, но Элишева не знала грамоты, а Закарийя не хотел, чтобы его письма читали ей чужие уста. И сейчас Закарийя радовался – его письма Элишеве будет читать Марьям. Элишева никогда не разговаривала с мужем так много, как в эти полгода. Всю жизнь она слушала Закарийю, а теперь ей приходилось говорить за него – всё то, что, как она полагала, сказал бы он. Если она предугадывала ход его мыслей, Закарийя кивал, если ошибалась – мотал головой, но этого почти не случалось. Раньше Закарийя не подозревал, что жена его так умна, так рассудительна, и наперёд знает все его слова. Он полюбил её ещё больше. А не знал, что это возможно. То же произошло и с Элишевой. Первая за всю долгую совместную жизнь немощь мужа вызвала в Элишеве прилив нежности, а молчание мужа сделало её смелой. Она словно впервые вышла из-за стены, за которой пряталась с детства, – сначала этой стеной был отец, потом Закарийя, – и увидела мир по-другому. Уже полгода она самостоятельно управляла домом, говорила с пастухами и виноградарями, вела дела. Только на старости лет Элишева из застенчивой девочки стала взрослым человеком и – одновременно – будущей матерью. И Закарийя, и Элишева чувствовали себя молодыми. Если бы Закарийя не потерял дар речи, отношения супругов не обновились бы, и у них не появился бы ребёнок: Закарийя крепко обнял жену, желая объятием сказать ей, что любит, что всё будет хорошо и немота его – не признак опасной болезни. Объятие длилось, проходили минуты, и каждая минута словно пожирала прожитое десятилетие, годы слетали с супругов, как луковая шелуха, пока не обнажилась нестерпимая, разъедающая слизистые оболочки юность, и Закарийя одной рукой поднял Элишеву и задёрнул полог.
«Надо оградить Марьям от суда людского неверия, нельзя отпускать её, пусть живёт с чадом у нас», – сказала Элишева. Закарийя закивал, и в морщину его вылилась слеза, которую раньше он захотел бы скрыть от жены. Но не теперь.
23. У Элишевы Марьям ткала, пряла и шила. Элишева стала больше гулять в саду, специально, чтобы Марьям отрывалась от работы и сопровождала её. За несколько дней до родов Элишевы – в марте – прошла снежная буря. Марьям видела снегопад впервые. Женщины ходили по саду и стряхивали снег с деревьев, чтобы не обременял ветвей, лоскутками стирали его с лопастей маленьких пальм, словно вытаскивали зеленые мечи из белых ножен. Они отдёргивали и поджимали пальцы – будто боялись обрезаться, – а это снег обжигал. Когда они принялись очищать от снега корни растений, наблюдавший за ними Закарийя подумал: «Словно манну собирают». В это время Элишева говорила: «Хочу, чтобы мой сын родился в холода. Такие дети крепче духом и здоровее, и мой сын будет защищать твоего». «Мой сын будет учиться у твоего, я пошлю его к твоему», – ответила Марьям. Обеим был непривычен холодный воздух, полный озона и яблочной свежести, и чудным казалось прикосновение снега к рукам. «Наверное, так сгустились воды Чермного моря, – проговорила Марьям, – только они были тёплые, а снег такой, будто ключевая вода створожилась». Закарийя захотел рассказать ей, что снег – это и есть замёрзшая в небесах вода, испарившаяся из морей и других источников, и рванулся в белизну сада, но вспомнил, что нем, и снова опустился на покрывало, оставшись в сумраке дома, освещаемом только снегом за открытой дверью.
Желание Элишевы исполнилось. Её сын родился, когда на улице было минус пятнадцать. Марьям помогала акушерке и следила за огнём в жаровнях, которыми обставили кровать. Пока Элишева мучилась схватками, Марьям держала её за руку и беззвучно плакала, а Элишева то улыбалась ей, то, на пике схватки, вытягивала губы трубочкой и громко выдыхала, и ветер за дверью помогал ей дышать.
Мальчик родился ночью, к утру стало теплеть.
Когда Марьям взяла малыша на руки, она впервые почувствовала: ткань на груди у неё намокла. Ребёнок разлепил припухлые веки и посмотрел на Марьям внимательно и серьёзно, будто зная, кто живет в её чреве, и оценивая, справится ли она с тем, что выпадет на её долю. Поймав взгляд Марьям, мальчик словно успокоился и снова смежил веки, погрузившись в младенческую дрёму.
А накануне обрезанья Марьям тайно ушла из дома Закарийи. Она не хотела мешать, и не хотела спорить с хозяевами, твёрдо решившими оставить её у себя.
По дороге бежали ручьи, и камни заставляли их сплетаться в косы. За Марьям послали слуг с повозкой, чтобы они вернули девушку или проводили её, и отдали ей половину приготовленного для малыша, провиант и подарки. Они догнали её и ехали вместе уже несколько часов, когда служанка, стесняясь, протянула Марьям размокший кусок папируса. «Господин Закарийя написал вам», – прошептала она и отвернулась в смущении. Девчонка уронила письмо в ручей, и ореховые чернила расплылись. В этом послании Закарийя как мог, постарался объяснить, что такое круговорот воды в природе, но вода не захотела отдавать своей тайны, и смыла письмена.
Чтобы избавить служанку от неловкости, Марьям сказала ей: «Малыша госпожи уже, наверно, обрезали». «Обрезали, и нарекли странно, Голубком. Представляете? – Затараторила девчонка. – А господина Закарийю знаками спросили, как назвать, и он потребовал дощечку и написал: «Голубок имя ему». И тотчас заговорил, славя Бога. И все удивились». Марьям улыбнулась: «Ты сама это видела?» «Да, госпожа!» – Сказала девчонка и раскрыла глаза пошире, будто боялась моргнуть. «Почему же господина Закарийю спрашивали знаками, ведь он был нем, а не глух?» Марьям засмеялась, и девчонка, которая во время обрезанья сидела на заднем дворе, и всё слышала от других слуг, тоже засмеялась, прикрывая рот рукавом.
24. Когда повозка уже подъезжала к Нацэрету, пригородные попрошайки разглядели сидящую на ней Марьям и сбежались. Они хватались за борта телеги, протягивали руки к девушке и голосили все разом, рассказывая, как трудно им было без неё. Они упрекали, на ходу показывали болячки, к появлению которых Марьям уж никак не могла быть причастна, и требовали – хоть чего-нибудь, всё равно чего. Возница замахнулся на них кнутовищем, но Марьям остановила его решительно, – как мать, защищающая ребёнка, – и слуги больше не смели возражать, только безмолвно смотрели, как Марьям раздаёт этому отребью продукты, шерсть, ткани… Возница обменялся долгим взглядом с пожилой прислужницей. Если бы им показалось, что молодая госпожа поступает так из глупости, или просто не умеет отказать наглецам, они тотчас разогнали бы побирушек, даже если бы госпожа попыталась запретить им это. Но слуги заметили боль в лице и встревоженном голосе девушки. Словно она в самом деле должна этим людям, и будет страдать, пока не отдаст долг. Будто она виновна в их нищете. Или такими были её родители, а она не помогла им. Словно она любила этих наглых нищих. Или они были её роднёй.