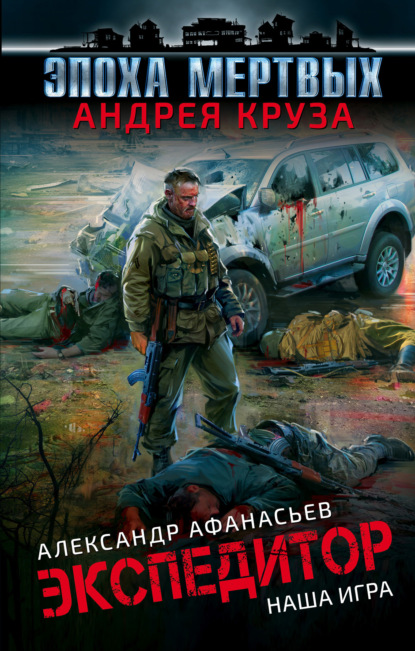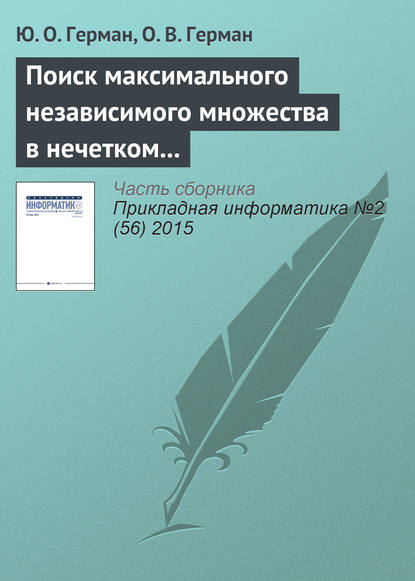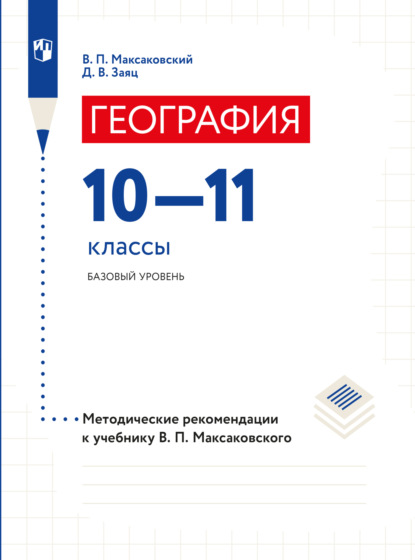- -
- 100%
- +
На обратном пути слуги обсуждали странную тайну молодой госпожи. «Может, среди них были её братья или сёстры, двоюродные, или троюродные, нет?» – спросила старуха возницу. Это была последняя версия. Но слуга только пожал плечом, не обернувшись.
25. Лишь когда повозка остановилась у дома Марьям, девочка-служанка выпрямилась, перестав обнимать свои колени, и обнаружилось, что под платьем она спрятала тюк с детскими вещами. Это было единственное, что Марьям привезла из Хеврона.
На следующий день её навестил Йосеф.
Одежда не позволяла постороннему взгляду заметить беременность на третьем месяце. Но Йосеф любил покойную жену Эсху, и всегда внимательно смотрел на неё. Он научился рано распознавать признаки изменения – бережная походка, немного замедлившиеся движения, лёгкая грузность фигуры, затуманенные светом глаза, задумчивое лицо. И он сразу же увидел эти признаки у Марьям.
Его подозрение подтвердили детские вещи, которых в доме было много, – Марьям сушила их, отсыревшие в пути.
Потрясённый Йосеф подумал: «Бог исполнил её молитву! Она дева, но станет матерью». Тем не менее, опекун Марьям был в большом смятении. Он не знал, насколько девочка понимает, что ждёт её, и как ему, мужчине, заговорить с ней о таких вещах, чтобы не оскорбить её чистоты и не напугать.
Марьям сама разрешила его недоумение. Едва Йосеф переступил порог её дома, она взялась за коромысло, чтобы принести воды и приготовить обед.
Йосеф бросился к ней, моментально вспотев от ужаса: «Я сам пойду к колодцу, тебе нельзя!»
«Успокойтесь, раби Йосеф, прошу вас, – сказала Марьям. – Вёдра я наполняю только на треть. И, хотя и хожу за водой по нескольку раз, мне совсем легко. Господь исполнил мою молитву, и я берегу дитя».
Йосеф собирался уехать от Марьям до заката, как делал всегда, чтобы не навлечь на девушку случайного поношения. Но теперь он не смог покинуть её. Йосеф заночевал на дворе, завернувшись в плащ так же, как делал это во время ночёвок в дороге, но не сомкнул глаз. Он даже моргать толком не мог, будто веки его отталкивались одно от другого, вдруг приобретшие одинаковую полярность. Бессонной ночью Йосеф думал, что делать. Как защитить Марьям и ребёнка от людского суда и судьбы существующих вне закона. «Надо уговорить её переехать в Байт Лехем, где никто её не знает, и укрыть там, а потом выдать ребёнка за приёмыша, или за новорождённого Марьям-Старшей, – если сестра не беременна, попрошу притвориться, пусть носит мешок соломы под платьем».
Йосеф ворочался в плаще, будто хотел, как второй плащ, намотать на себя всю тяжесть возможного будущего Марьям и её ребёнка. Из бреда Йосеф выпал в беспамятство, и ангел явился ему во сне. Сам Йосеф никогда не дерзнул бы предложить Марьям стать его женой.
Он поднялся на рассвете, но Марьям опередила его, и уже готовила еду, замешивая в блюде первый луч солнца, вливающийся в узкое окно.
«Марьям, ради ребёнка тебе надо уехать туда, где тебя не знают, надо спрятаться, дочка», – начал Йосеф. И Марьям неожиданно согласилась. Йосеф говорил о соседях, обо всех, кто мог бы оскорбить незамужнюю мать. А Марьям думала о Гордусе. «Ты знаешь, как незавидна жизнь штук’и или мамзера? Я знаю, твоё дитя от Духа Святого, но не все поймут, дочка. Тебе нужно выйти замуж, но, конечно, так, чтобы ничего не изменилось, так, чтобы жить, как раньше, просто кто-то, твой муж, будет заботиться о тебе и малыше». Йосеф запнулся. У него язык не поворачивался заговорить теперь о себе. «Я понимаю. И не могу доверить дитя никому, кроме вас, раби Йосеф», – сказала Марьям, в третий раз в жизни посмотрев Йосефу в глаза.
Они выехали в этот же день, в марте, и заключили первый этап брака, эрусин, в Кфар-Нахуме, чтобы ни в Нацэрэте, ни в Байт Лехэме никто не знал, когда это произошло.
Покачиваясь на спине ослика, и провожая взглядом скучные, больше похожие на тропинки, улицы родного города, Марьям не сомневалась, она ещё вернется в Нацэрэт. Не могла покинуть ни соседей, ни нищих из пригорода – свою семью – навсегда.
А Йосеф не знал, красива Марьям, или нет, он ни разу не задумался об этом, понимая, что в её случае земная красота не имеет значения. Йосеф не смог бы сказать, какого цвета глаза у Марьям, но долго мог бы говорить о её взгляде. Покойном, как гладь моря, и настолько же добром, насколько море глубоко. Он видел в нём радостную печаль, исключающую как тоску, так и беспечность, думал, что Марьям смотрит на него просто и открыто, как ребенок, но и заботливо, как мать.
26. Марьям-Старшей уже было тридцать. Поздний ребёнок, она ходила за старыми родителями и не заботилась о женской привлекательности, посвятив молодость тем, кто дал ей жизнь. Йосеф не раз пытался устроить брак сестры, но она всегда отказывалась, и он не настаивал, видя, какой материнской любовью дарит она своих стариков, и вместе с сестрой веря, что это угодно Господу. Кфар-Нахумский сборщик пошлин Халфай заметил её случайно, в Ершалаиме, в праздничные дни. Она терпеливо возилась с кем-то в доме, и лепетала ласковые слова, которых Халфай не слышал, но узнавал по движениям её лица. «С ребёнком», – подумал Халфай. И: «Какая красивая». И тотчас был поражён, увидев, что девушка укладывает на ложе старика, который капризничает, как младенец, худыми и морщинистыми, похожими на верёвки из пакли, ногами сбрасывает одеяло, а девушка вновь нежно накрывает его.
Когда Халфай посватался, Йосеф сначала отказал ему. Но из Кфар-Нахума пришли ходатаи. Это были рыбаки, с которых Халфай и взимал пошлину. От них пахло рыбой, и чешуйки, навсегда забитые ветром в швы даже их лучшей одежды, поблёскивали как единственное украшение этих людей. Рыбаки сказали, Халфай – добрый мытарь, и, если у них нет денег, вносит плату из своего имения. Тогда Йосеф согласился. Марьям-Старшая твердила, что не покинет родителей, и Халфай даже был готов взять их в свой дом, но старики быстро отошли, жена за мужем, словно решили, наконец, отпустить дочь.
Йосеф сразу полюбил Халфая, и считал брак младшей сестры более удачным, чем старшей, вышедшей за коэна, который теперь стал первосвященником и тестем царя. Йосеф предпочитал навещать ту сестру, что поселилась в Кфар-Нахуме. В семье Йосефа её звали Старшей, а Младшей Марьям была одна из двух его дочерей, но в Кфар-Нахуме Марьям-Старшую знали как Марьям Халфаеву. Трёхлетний Левий, сын Халфая от первого брака, давно уже звал её мамой, а сама она ждала первенца, когда Йосеф и Марьям пришли в её дом.
Навстречу Марьям поднялись две женщины, и каждая держала в руках живую серебряную рыбу: у Халфая гостила его шестнадцатилетняя сестра Саломия, вышедшая за рыбацкого старосту Зеведея. Беременны были все трое, и они все сразу поняли это, и улыбнулись друг другу, как заговорщицы.
Двое будущих апостолов встретили Йешуа в Кфар-Нахуме, находясь так же, как и он, во чревах матерей: Иаков Зеведеев и Иаков Халфаев. Самый шумный и самый тихий, Сын шума и Сын тишины.
«Душа моей жены как вода, Кфар-Нахум думал Халфай. – Чистая, тихая, глубокая, и жена всё время следит, как бы не расплескать её, а излить по назначению, на того, кто нуждается в заботе». И сыновья её вышли такие же, – Яаков и Йоси, которого вообще не было слышно и видно, хотя он и находился всегда рядом с Йешуа. Безмолвно любил, ни слова не промолвив Учителю, не задав ему ни единого вопроса, он только в молитве просил ответы, речи предпочитая созерцание.
Женщины сидели и чистили рыбу, и светильником им служило озеро, отражавшее солнце в узкое окно. Обе Марьям молчали, а Саломия говорила, и говорила, и когда она замолкала, чтобы быстро облизнуть пересохшие губы, было слышно прибрежное шипение озера.
Когда Зеведей увел Саломию домой, в Вифсаиду, Йосеф сказал сестре и зятю, что Бог исполнил молитву Марьям, и как теперь они намерены поступить. Марьям-Старшая и тут промолчала, но Йосеф увидел по её лицу, что она безусловно поверила ему. «Что ж, и такое бывает», – сказал Халфай. И мускулы его лица задвигались, словно морщины принялись толкаться, выражая внутреннее борение.
Йосеф заметил: Марьям-Старшая и Марьям похожи, как родные сёстры, несмотря ни на разницу в возрасте, ни на то, что они двоюродные. «Марьям-Старшая всегда выглядит так, будто она одна, и её никто не видит. А Марьям так, будто она всегда с кем-то, кого любит больше жизни, и ей некогда подумать о том, как она выглядит».
27. В Кфар-Нахуме, в доме мытаря Халфая Йосеф и Марьям совершили первый этап брака – эрусин.
Свидетелями, не состоящими в родстве друг с другом, женихом и невестой, были двое коллег Халфая, будущие отцы апостолов Фомы и Матфея.
Когда зачитали ктуббу, оказалось: обычный текст потерпел урон, – в брачном контракте отсутствовал пункт о супружеских обязанностях. «Ты упустил один важный момент, рабби Йосеф», – сказал мытарь, сына которого прозовут Фомой, и прищурился так, что каналец морщины соединил уголок глаза с основанием уха. «Если я ошибся в чём-то, Господь поправит», – дрогнувшим голосом отвечал Йосеф. Всем стало жалко его, и никто не настоял на изменении документа. Брак был засвидетельствован миньяном мытарей. Ещё во чреве матери Иисус возлежал с ними.
Марьям подала Йосефу талес, который сама соткала, – в нём и похоронили Йосефа, – а Йосеф подарил Марьям омофор замужней женщины – её единственный омофор; его, ветхий и штопаный, она и простирает над нами.
Когда Йосеф взялся за края покрывала, чтобы опустить его на лицо Марьям и назвать её «альма» – сокрытая ото всех мужчин, кроме мужа, он явственно ощутил, что не может этого сделать: нет ни у него, ни у какого другого человека силы, чтобы, ухватившись за край почвы, нависший над долиной с вершины горы, стянуть его ниже, прикрыв даль в тумане, и каменные крылья ущелий, и облака, забившиеся в ущелья как цветочный пух в развешенные на берегу влажные сети… Можно взобраться на гору один раз, можно каждый день подниматься на её вершину, но пригнуть вершину к земле – невозможно человеку. Руки Йосефа дрожали, и ногти впивались в ладонь сквозь покрывало. Марьям низко, как лань на водопое, наклонила голову – и тяжёлая ткань сама сползла на её лицо.
Супружеское сожительство в промежутке между двумя брачными актами – эрусин и ниссуин – запрещено законом, но юридически брак совершён. Так Марьям приобрела статус «альма» – молодой жены, и исполнилось пророчество Исайи, формулировка которого не сообщает нам, говорится в нем об альме до или после ниссуин, о деве или молодой женщине.
Полагается, чтобы после эрусин чета надолго рассталась. Муж отправляется на заработки, или, по крайней мере, удаляется, чтобы пристроить к дому отца покои для своей семьи, оставляя жену в родительском доме. На это уходит год, или больше. А Марьям на три месяца осталась в Кфар-Нахуме, Йосеф вернулся в Байт-Лехем – приготовить горницу для неё и постараться приучить своих детей к мысли, что Марьям теперь – их мачеха.
28. В мае Марьям сидела на высоком холме в окрестностях Кфар-Нахума и сортировала растения – лечебные, съедобные, и просто для украшения дома, которые рвали и охапками приносили ей Марьям-Старшая и Саломия. Беременные собирали травы и присаживались отдохнуть по очереди, но и сидя вязали пучки и плели гирлянды. Внизу лежало озеро, и, даже опустившись на землю, Марьям видела сквозь путаную сетку стеблей его вытянутые вперёд синие лапы. Маленькие дикие цветы, колючие, как щёточки; бледные, недавно родившиеся бабочки и другие насекомые, бессчётные, названия которых никто не знает, почти неразличимые на первый взгляд, но такие разные, если приглядеться, нравились Марьям ещё и потому, что мало кто замечал их. «Какое блаженство! Эти травы и жучки, муравьи с мушиными крылышками, и маленькие осы, и красные паучки меньше горушечного зерна, должно быть, встречают святых Господних в раю, – какова их безвестность на земле, такова должна быть слава на небе», – сказала Марьям Саломии, положившей перед ней букет розовых кашек. «А я думаю, в раю только самые красивые цветы – лилии и розы, такие большие, каждый цветок – как мой живот, ведь кто на земле царствует, и в раю останется царём, как Давид и Соломон. А я бы хотела, чтобы люди были как птички, с крыльями вместо рук. Тогда никто не брал бы лишнего, и не собирал богатства, и не строил бы дворцов – что построишь без рук? Разве что гнездо, если носить веточки ртом. Не было бы лишней работы, летай себе целый день, ищи пищу. Нашёл яблоню – а не сумеешь огородить её забором и назвать своей, можешь съесть только одно яблоко, а остальные съедят другие. Все жили бы одинаково, пусть бедно, зато летали бы. Ты бы сейчас летала выше нас – у тебя живот пока меньше. А я чувствую, как ворочается младенец, он такой бойкий, как карп в сетях, бьётся и изворачивается, если бы не был такой большой, выпрыгнул бы у меня изо рта». Яркие веснушки покрывали щёки Саломии, словно тень кудрявой виноградной лозы всегда лежала на её лице. – «Будто я спала лицом в миске с гречневой кашей», – говорила она. Казалось, Саломия всё время улыбается, как всегда кажется про конопатых, если же они хмурятся, никто не думает, что всерьёз. «Птицы, бывает, дерутся, и клюют одна другую, и гонят друг друга из гнезда, и крошки выхватывают из-под клюва у тех, кто послабее», – сказала Марьям-Старшая, она тяжело села на бок, и как бы свила из собственного тела гнездо вокруг своего большого живота. – «Лучше бы люди были как полевые лилии, и не могли сходить с места. Ни трудов, ни забот. Ничего, кроме молитвы, ведь только Господь посылал бы тогда людям пищу с небес, тепло и одежду». «И человек может не заботиться о себе больше, чем нужно на сегодняшний день, как птица, и жить, прославляя Всевышнего, как цветок, – сказала Марьям. – Ведь Господь раньше нас знает, что нам нужно. И всё, что есть в мире – и солнце, и цветы, и тень, и вода, и птицы, и колючки, и песок, и крошечные паучки, которых даже и не видно, – всё создано Всевышним для того, чтобы помогало человеку уйти от греха и жить свято. И за прозрачной спинкой этой мошки можно спрятаться от соблазна, и с этой пушинкой одуванчика взойти на небо». Беременные подруги сидели рядом и смотрели на отпущенную Марьям пушинку. Она поднималась ровно вверх. Марьям взглядом опережала её движение, словно прокладывала ей путь, Саломия и Марьям-Старшая глазами следовали за точкой, которая уже исчезла в небе, но всё ещё казалась им заметной.
29. На подступах к Байт-Лехему дорога шла по долине, обрамлённой холмами, по сухому хребту, выделяющемуся посередине низины, как позвоночник – на худой спине. А на обочинах посверкивала слякоть, мокрый песок натекал тяжёлыми волнами, как мёд. Справа вдалеке показалась вышедшая из маленького селения похоронная процессия, слева из другой деревни потянулся свадебный поезд. Разделённые возвышением посередине долины, скорбящие и ликующие не могли приметить друг друга, и ветер не доносил до одних плача и воплей, а до других – смеха и пения. Но Марьям и Йосеф оказались свидетелями и невольными участниками одновременно двух таких разных событий, и чувства Йосефа смешались. Оглядываясь через плечо, он, ведущий под уздцы ослика, видел то один, то другой профиль Марьям. Она поворачивала голову направо, налево, – ни тех, ни других не могла обойти молитвой, – и лицо её менялось в зависимости от того, куда она смотрела. Тихая скорбь и тихое веселье посменно касались её черт, и Йосеф читал в лице девушки: печалится она не только о незнакомом усопшем, но и о тех, кому дыхание сдавила тоска, и радуется не только о невидимых новобрачных, но и о тех, кто устраивал свадьбу, и чьи сердца прыгают сейчас весенними воробьями.
Когда впереди забелел первый квартал Байт-Лехема, Йосеф и Марьям оказались в маленьком караване других путников. По всей стране составлялись списки для присяги Гордусу и Августу, теперь переписчики пришли и в Байт-Лехем, и уроженцы города и окрестных деревень ехали сюда, чтобы быть записанными. За тех, кто отсутствовал, брали штраф с родни или даже с соседей, – чиновникам было всё равно, кто заплатит.
Тишину сменил гомон. Путешественникам надоело молчать в пути и, встретившись, они враз заговорили, не покидая сёдел и поворачиваясь друг к другу. Ослы потеряли ориентир и затоптались на дороге, хаотично сближаясь и позволяя седокам обращаться то к одному, то к другому спутнику. Караван замедлился, сильно пылил и галдел. Суматоха придала Йосефу решимости, и он сказал: «Стань старшей сестрой малышу Йоде. А мне дочерью. Да ты мне и так дочь, моя Марьям младше тебя на один месяц». И Марьям согласно улыбнулась.
Ниссуин они так и не совершили, чтобы не нарушать брачный закон Торы, – уклонение от супружеского ложа после ниссуин – грех. Но они не нарушили Закона. Промежуток между эрусин и ниссуин может быть сколь угодно долгим, и он продлился до самой кончины Йосефа.
Марьям и Йосеф не посвящали в эту странность их союза никого, кроме самых близких: в Кфар-Нахуме и Нацэрэте считали, что хупу они поставили в Байт-Лехеме, а в Байт-Лехеме думали, что в Кфар-Нахуме или Нацэрэте.
Когда первосвященник услышал о браке шурина и Марьям, его передёрнуло от отвращения. «Нечестие – достойный плод гордыни. Только бы царь не узнал о таком позоре моей семьи», – подумал Шимон Бен Байтос, отворачиваясь от жены, удивлённо трясущей перед его лицом письмом от сестры, Марьям Халфаевой. Движение её руки то приближало, то удаляло запах духов и розового масла. «Ну и родственнички у тебя, кого ни возьми», – сказал Шимон, и ароматы тотчас ослабли: обиженная женщина вышла из комнаты.
30. Трое сыновей и одна дочь Йосефа были старше Марьям. Йосеф долго думал, что и как сказать детям, и решил не открывать тайны своего брака: пусть бы они и поверили, но молодость болтлива. Йосеф не сказал удивительной правды, и ложь получилась так неприглядна, что с тех пор старик стыдился смотреть детям в глаза. Только что похоронили мать, и уже беременная мачеха, ровесница Марьям-Младшей. Яакову исполнилось двадцать два, он давно хотел жениться, но денег не хватало. И вдруг женился отец, и отдал жене лучшую комнату, которую ещё при матери пристроили как будущий брачный покой Яакова.
Старшие дети встретили Йосефа мрачно. Они сгрудились у порога, словно вышли не приветствовать отца, а преградить ему вход в их дом, и не улыбались. Лицо Ханы-Младшей было заплакано. Небо над белёными стенами стояло такое синее, что васильки под окнами казались серыми. Майны, переговариваясь, топтались на плоской крыше и свешивали с карниза красные клювы, будто, не доверяя крыльям, хотели спрыгнуть на землю, но не решались.
Первым к Йосефу подбежал девятилетний Йода, и бросился на руки, обдав запахом маковой питы, крошки которой отец ощутил сквозь одежду у него за пазухой. За ним подошла Марьям-Младшая. Она бы и подбежала, но стеснялась ровесницы-мачехи, ей хотелось быть такой же взрослой, или даже взрослее, и она испытала прилив гордости, увидев детское лицо Марьям.
«Совсем ребёнок», – подумал Яаков и понял, что осуждает отца так, как только можно осуждать человека, укравшего чьи-то молодость и счастье.
«Она добрая, и совсем не виновата в том, что случилось с отцом. Какие-нибудь люди устроили их брак из потехи», – эта мысль порадовала Шимона-Младшего, подозревавшего раньше, что мачеха коварно склонила отца к свадьбе.
А Йоси решил, что подружится с Марьям, которая станет ещё одной его сестрой, – ему больше нравилось дружить с девушками, чем с парнями.
Только Хана-Младшая не взглянула на мачеху. Она лишь отца сверлила взглядом: он предал мать.
Йосеф помог Марьям сойти с ослика, и она одной рукой погладила по голове Йоду, нежно, будто отёрла большой спелый персик, а другой придержала покрывало, склонившись перед детьми Йосефа в глубоком поклоне, которого они не ожидали, и юноши оторопело раскрыли рты, а Хана-Младшая резко отвернулась, чтобы не видеть глубины поклона.
Дети Йосефа быстро поверили тому, что сказал отец. Тому, что сначала выглядело как жалкая попытка оправдаться: он женился на Марьям, чтобы она не пропала с голоду в Нацэрэте. Марьям действительно так щедро делилась с соседями, и даже малознакомыми людьми, что дети Йосефа поняли: живи она одна, раздала бы всё. Но в доме Йосефа Марьям не делала ничего, что причинило бы ущерб домочадцам. Они не заметили никакого, тем более постыдного пристрастия отца к молодой жене, Йосеф почти не отличал её от дочерей, и дети приняли мачеху как сестру, милую, немного странную, словно чем-то больную. Они полюбили Марьям, но полюбили бы её гораздо сильнее, если бы она была не из их семьи. Им были не понятны её внимание к посторонним, и забота о незнакомцах. Марьям всегда готовила больше, чем надо, кормила чужих детей и брала узел с лепёшками на водонос, – для голодных странников. По ночам, сидя во дворе, при свете звёзд ткала, пряла или шила что-нибудь для соседки, поднимая руки к луне, чтобы на её фоне вдеть в иголку нить. Могла принести воду чужому ослу, а за водой из Байт-Лехема ходили к ручью, далеко в долину. Мир для Марьям не делился на своих и всех остальных, ей все были свои, и те, для кого она была своя, чувствовали себя обделенными тем сильнее, чем больше любили Марьям, хотя она и не пренебрегала заботой о них.
Больше всех на Марьям обижалась Хана-Младшая: хотела, чтобы мачеха стала копией матери. Когда Марьям вышила соседской невесте почти такое же покрывало, что и Хане-Младшей, Хана-Младшая не вынесла оскорбления. Рыдая, и протягивая покрывало отцу, так, словно Марьям не вышила, а испортила его, и оно говорит само за себя, и не нужно других объяснений, Хана-Младшая требовала наказать Марьям.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.