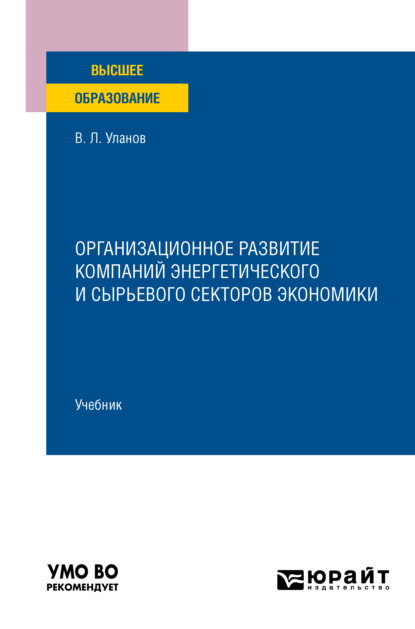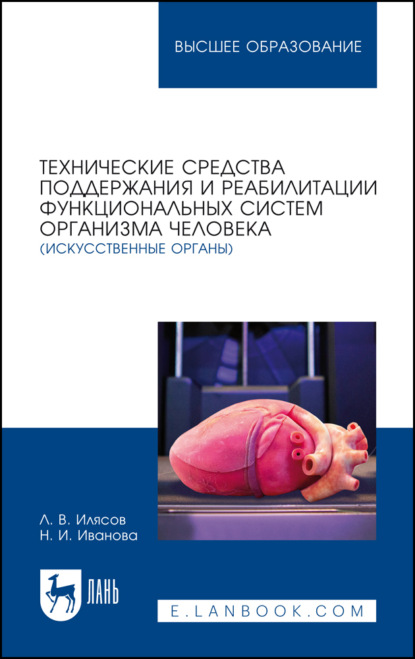- -
- 100%
- +

Что есть
у нас кроме
способов
самоуничтожения?
Люба Макаревская
«Ещё один опыт сияния»
я тебя рожала в муках
Аня листает красный блокнот. Среди списков дел, телефонов администраторов, волонтёров, техников, среди спиралей, которые сами собой раскручиваются, стоит Ане позвонить кому-то, не выпуская карандаш из пальцев, выделяются написанные почему-то красной ручкой (где она её вообще взяла?) строчки:
– Я тебя рожала в муках.
– Почему?
– Я тебя рожала в муках.
– Зачем?
– Я тебя рожала в муках.
– Зачем?
– Зачем я тебя рожала в муках.
Аня не помнит, когда она это написала, – возможно, на площадке во время очередного ночного монтажа декораций.
Стержень скользит по бумаге:
– Берём розовое, тебе идёт, в нём ты нежная красивая девочка.
– Я не люблю розовые платья. Я не ношу розовые платья. Хочу чёрное.
– В чёрном ты как на поминках.
– Не ношу розовое.
– Я тебя рожала в муках.
– Я чёрное ношу.
– Я тебя рожала в муках.
– Мне идёт чёрное, в розовом – это не я.
– Зачем я тебя рожала в муках.
– Берём розовое.
Февраль 2015
1.
Аня ёрзает на пассажирском сиденье, пытается усесться так и этак, но громоздкие берцы не позволяют менять позы. Глядя в зеркало заднего вида, поправляет серёжку-штангу в брови, проверяет, всё ли в порядке с колечком в носу. Рассматривает выбритый левый висок и выкрашенные в синий пряди. Постукивает ногтями по дверце.
– Аня, прекрати.
– Окей, – сцепила ладони в замок.
Вика уверенно крутит руль, следит за знаками, машинами, пешеходами. Юбка впивается в бёдра и не даёт свободно двигаться, но, конечно же, Викуля не носит штанов, прям как мамочка, мамочка считает, что истинная женщина может носить брюки только в крайних случаях.
За окном проплывает ЦУМ, желтеет огромный плакат «Сегодня -30% на всё!» Плотные потоки входящих и выходящих из здания людей похожи на голову и хвост бесконечной змеи из игры, в которую Аня часами играла, просиживая лето в детском лагере.
– Так куда ты там едешь, Ань? – Вика бросает короткий взгляд на сестру.
– Высади меня на «Купаловской».
– Собеседование?
Аня, молчи. Она и так всё прекрасно знает. Не ведись. Не позволяй ещё больше себя растормошить, вон и так сердце колотится. Не позволяй, Аня. Как там было у Маргарет Этвуд?
не дай ублюдкам себя доконать
– Вик, – и всё же ты не выдерживаешь, – не надо цирка, я всё слышала, как вы с мамой меня обсуждали.
– Не совсем, – Вика улыбается, поправляет длинные волосы, ровно падающие на плечи, – скорее мама говорила, а я слушала. Я же от тебя не слышала, что это и где. Расскажи.
– Всё ты знаешь.
Будь Аня другой, будь у неё другая сестра, будь у них другие отношения, Аня бы говорила:
Вика, это театральный фестиваль, называется «Слёзы Брехта», меня зовут помогать в его организации, сколько денег не знаю, но, скорее всего, мало, что именно надо делать, тоже не знаю, что скажут делать, то и буду, просто это мечта – там работать, Джульетта Громовская легендарная, она привозила в Минск крутейшие спектакли, и мне страшно, мне так страшно, но я хочу попробовать, я должна попробовать, Вика, поддержи меня, скажи, что понимаешь меня, скажи, что у меня всё получится.
Машина скользит мимо кафетерия «Каравай», красные буквы названия нависают над высокой аркой. Пару месяцев назад, ещё в Варшаве, Аня мечтала, как вернётся в Минск, придёт в «Каравай», вдохнёт запах выпечки и кофе, торжественно съест пирожное «Бисквитное» и этим скажет городу: привет, я снова тут, встречай!
«Каравай» был с Аней всю жизнь. Здесь она прогуливала уроки, запивая пирожные горьковатым кофе. Взваливала на плечи рюкзак, в руке – пластиковая чашечка, осматривалась – нет ли поблизости знакомых взрослых. Достать из кармана куртки белую пачку с синей полоской Winston, прикурить и идти дальше, балдея от головокружения.
Прогулы были лучшим, что случалось с Аней в старших классах. Проще простого: приходишь в школу в джинсах с огромными дырами на коленях, стоящая на входе женщина с начёсом орёт своё фирменное «марш домой переодеваться!», ну, и до школы, конечно, больше не доходишь.
Аня поступила в университет в Варшаве. Первый курс – съёмная комната в пропитанной старушечьим запахом квартире. Пары до девяти вечера и слёзы в трамвае, рассекающем город под чёрными дождями. И учёба: писать тексты, читать тексты, писать про прочитанные тексты. Второй тире четвёртый год – легче. Уже есть пара подружек, знакомец с забористой травой, редкие тусовки в общаге. Дешёвое мартини из горлышка на улицах Stare Miasto, пара таблеток чего-то расширяющего сознание в клубе и даже одна кинки-пати, с которой, правда, Аня быстро сбежала.
Заканчивался последний курс, на выходные Аня приехала домой. Семейный совет, решение принято. Анастасия Евгеньевна рассказывала подруге по телефону:
– Да, Анюся завтра уезжает. Да, будет учиться в магистратуре и работать у Дашки, помнишь, подруга моя по нархозу? Бизнес свой у неё в Польше. Да какая разница? Не знаю, в европах этих нужно магистра иметь, это ценится, а уж магистра чего – никому не важно. Напишет, защитит, что, мозгов у неё нет? Ну и потом уже работу серьёзнее будет искать, у Дашки расти там, конечно, некуда.
Это был редкий момент, когда мама рассказывала об Ане без этой привычной и ненавистной не-понимаю-что-это-за-девочка нотки. Она говорила… с гордостью? Раньше эту интонацию Аня слышала, только когда мать упоминала свою старшую Викулю.
В офисе Дарьи Александровны Аня продержалась шесть месяцев. В её обязанности входило: готовить кофе начальнице и её мужу, мыть за ними чашки, мыть тарелки – они ели десерты с липким кремом, проверять почту, складывать счета в специальный лоток для главбуха, а предложения о сотрудничестве – в лоток для маркетолога, помогать дочке начальницы делать уроки (со временем глагол «помогать» обрёл значение «делать всё за неё»).
Аня закончила учёбу, защитила магистерскую, уволилась. Вид на жительство в Польше заканчивался, и она вернулась в Минск.
– Аня, ты с жиру бесишься, понимаешь? Все хотят в Европу, у тебя и работа была, люди о таком вообще только мечтают, ты это понимаешь? А ей, видите ли, «чашки мыть не нравилось»! Ты вообще никто, Аня, без опыта, чем ты теперь будешь заниматься?
– Знаешь, Вика, лучше бы ты меня не встречала.
– Слушай, Ань, – машина стоит на светофоре, Вика поворачивается к сестре, – ты же можешь запросто пойти к Ване работать. Писать вроде умеешь. Пофигачила бы копирайтером, опыт получила, и – вперёд.
– Куда вперёд, Вик?
– Ну, это тебе виднее. О чём магистерскую писала?
– Репрезентация гендерных отношений в постдраматическом театре.
– Это набор слов?
– Это… Вика, я тебе не объясню.
– Ясно, гуманитарные ваши штучки, никому не нужные. Тут?
– Ага.
Машина тормозит вдоль проспекта.
– Когда ты на права пойдёшь, Анюся?
– Не знаю. Зачем?
– Надо.
– Кому?
Вика смотрит на сестру устало, перегибается и открывает дверь.
– Спасибо, Вик, я бы и сама справилась, – Аня выпутывается из ремня.
Аня хлопает дверью машины чуть громче, чем необходимо.
*
Офис компании «Арт энд блад» находится на последнем этаже Музея довоенного искусства. Пышное четырёхэтажное здание, сталинский ампир со скульптурами мускулистого рабочего и фигуристой крестьянки на крыше.
Объясняет вахтёру, что она на собеседование. Он указывает на лестницу слева от входа в выставочный зал.
Проходит первый этаж, второй, третий. Ступеньки высоченные, пахнет, словно где-то завалялась куча сырого белья. Лестничный пролёт. Аня проводит по экрану телефона: 12:57. Руки дрожат. Вот и чёрно-красная вывеска: «Арт энд блад». Аня тянет дверь на себя.
Не открывается. Ещё раз проверяет время и день – четверг, 12:58. Сообщение в почте – приглашаем в четверг, в 13:00.
Тянет ещё раз – дверь не поддаётся.
вибрирует
телефон
незнакомый
номер
– Это Анна Горелочкина? Из «Арт энд блад», – голос занятой и запыхавшийся. – Вакансия закрыта, Анна, уже взяли человека, она у нас несколько лет была волонтёром. Алло? Аня?
2.
Аня открывает дверь квартиры, запах жареного бьёт в нос.
– Ну что, Анют, как прошло?
Аня расшнуровывает ботинки.
– Что, с матерью поговорить не хочешь? – Анастасия Евгеньевна выходит в коридор.
На ней, как всегда, юбка до колен, блузка застёгнута на все пуговицы, поверх – белоснежный передник.
Аккуратное каре и идеально уложенная чёлка, словно женщина прилетела из Америки эпохи идеальных домохозяек. И в то же время – главный бухгалтер в международной корпорации, «второй человек после генерального», как она иногда «ненавязчиво» упоминает.
– Мама, ну что – как? Никак.
И теперь же не отстанут, пристроют её к Ване, Викиному муженьку, писать чушь вроде:
идеальное платье для вашего особенного вечера, тонкий шёлк грациозно струится по ногам, в меру глубокое декольте оставляет простор воображению избранника
Аня входит в свою комнату, дверь захлопывается слишком громко.
– Явилась! Мать-то тут при чём? А я курицу пожарила! – хлопает дверь в комнату матери, ухают книги на полках в комнате Ани.
В третьей комнате за столом, заваленным папками, стопками бумаг, книгами, сидит отец. Он, возможно, мог бы и спросить, как прошло собеседование, но наверняка передумал, услышав повышенные тона и хлопки дверями. Как он обычно выражался: «бабы снова орут, две истерички». При слове «отец» первая картинка, которую видит Аня: его спина и захлопывающаяся дверь в его комнату. С каждым годом Аня заходила в эту комнату всё реже, чуть ли не неделями могла с отцом не видеться, живя с ним в одной квартире. Аня помнит какое-то совместное времяпрепровождение в детстве: куда-то он её возил, как-то с ней разговаривал – и всё как будто закончилось в момент, когда Аня начала взрослеть и превращаться в женщину. Она хорошо помнит, как надела летом топик, сквозь который уже явно просвечивала подростковая грудь, они должны были ехать с отцом в кино, но он бросил на неё такой брезгливый взгляд, что Ане тут же захотелось одеться как минимум в куртку, а лучше – вообще исчезнуть. Тогда он не взял её с собой, и больше с тех самых пор не брал.
*
Аня изучает вакансии, но ничего похожего на «Арт энд блад» нет. Требуются копирайтеры к рекламщикам, журналисты-новостники, официанты и бариста. И ради этого она защитила магистерскую и вернулась в Минск? Целыми днями Аня валяется в кровати, смотрит сериалы, обновляет сайт с вакансиями. Деньги заканчиваются, лишний раз она избегает ездить на метро, почти везде ходит пешком. Подруги иногда угощают напитками в кафешках, но и их терпение заканчивается. У родителей просить наличные Аня не может, хотя из холодильника еду берёт.
Сходила на собеседование на администратора в галерею современного искусства. Ей не перезвонили.
Проходит ещё пара недель, и не признать уже невозможно: условия, которые предлагает Иван, и правда щедрые на фоне всего остального (куда её даже и не зовут).
Как только Аня произносит это матери и видит выражение ликующей правоты на её лице, сразу хочется передумать.
3.
Офис Ивана: бледно-жёлтые стены, как в школе, два ряда составленных впритык столов, некоторые отделены друг от друга пластиковыми перегородками. Людей много, но они не разговаривают, а открывают рты и шуршат.
Женщина с жёлтыми крашеными волосами и облупившимся красным маникюром шёпотом объясняет Ане, как работает админка сайта, куда заливать тексты, как прописывать html title и description страницы. У неё изо рта пахнет выпитым только что кофе, сидит она слишком близко.
Вибрирует телефон, Аня извиняется и выскакивает в коридор.
– Анна? Горелочкина? – говорят громко и энергично. – Это из «Арт энд блад». Ты ещё хочешь у нас работать? Есть место на таможне, интересно?
– Д-да.
– Подъезжай завтра к одиннадцати утра, введём в курс дела, – короткие гудки.
Возвращается в кабинет, губы невозможно заставить стянуться обратно.
– Парень позвонил? – понимающе кивает женщина.
– Не совсем. Знаете, мне, пожалуй, нужно уйти. И я, скорее всего, сюда уже не вернусь. Ивану передайте, пожалуйста.
Аня сгребает пуховик и выскакивает на улицу. На крыльце обматывает шею шарфом, надевает шапку, дотягивает молнию до подбородка. Ну что, «Арт энд блад», here I come!
4.
– А вот и наша Аня!
С порога её встречает светящаяся в лучах солнца девушка с волнистыми волосами до лопаток и красивой фигурой, подчёркнутой обтягивающими джинсами и жакетом до талии. Представляется Венерой, помощницей арт-директора фестиваля «Искусство ради искусства».
То, что предстоит работать именно на этом фестивале, для Ани новость. Работа на таможне – сказали по телефону, а Аня и не выяснила, что вообще надо делать.
Большое помещение с несколькими столами, стен почти не видно за театральными афишами. Прямо напротив входа и слева от него – две тяжёлые деревянные двери.
Венера проводит Аню мимо людей, не обращающих на неё внимания, и распахивает дверь слева.
На стене белеет растяжка с фигурными красными буквами:
Дирекция фестиваля визуальной культуры и перформанса «Искусство ради искусства»
Плакаты и афиши повсюду: Art Basel, La Biennale di Venezia, Московская биеннале современного искусства… На одном из плакатов изображено огромное серое здание, всё такое официозное и помпезное, а перед ним пьедестал: на таких обычно стоят статуи героев, но здесь вместо статуи… огромная рука с обрезанными пальцами, кроме одного, гордо торчащего вверх – среднего. Маленькими буквами в нижнем углу подписано: «L.O.V.E.» by Maurizio Cattelan.
Это знак! Это же точно знак. «Фак ю, фак ю вери вери ма-а-а-ач», – играет в голове что-то из Лили Аллен. Это её, Анин, средний палец торчит так гордо и решительно, ха!
Ещё плакат – совсем небольшой, со всех сторон как будто спрятанный, что неудивительно! Имя художницы – Dorothy Iannone. В центре изображена обнажённая женщина, её правая рука поднята вверх, соски нарисованы очень ярко, а вульва в треугольнике волос – розовая, крупная, решительная. Вокруг женщины – другие обнажённые люди, их тела сплетены в самых разных позах.
Аня краснеет, отводит глаза, есть в этой картине что-то ужасно стыдное, отталкивающее, как будто она часть какого-то другого, параллельного мира, в который Ане доступа нет.
закупоренная
Слово волной прокручивается в голове и исчезает.
«The next great moment in history is ours», – гласит надпись сверху.
«Наш, наш, наш!» – кричит что-то внутри Ани.
И вся стена – в таком! Яркие, разные, сногсшибательные картинки. Аня всматривается в имена художников, пытается заучить на память, чтобы вечером дома погуглить их всех. Мышцы икр и ступней сокращаются и расслабляются, большие пальцы ног пляшут, надёжно скрытые мартинсами.
За одним из столов сидит мужчина, Аня видела с ним несколько интервью на Youtube. Пётр Дубовский, бессменный куратор «Искусства ради искусства». К его уху прислонена трубка, он слегка поворачивает голову и машет Ане, не переставая говорить:
– …творчество Абрамович – это не просто сидеть весь день и смотреть людям в глаза! Вы ознакомьтесь с этой кинокартиной, «В присутствии художника», там прекрасно показано, как филигранно, до фанатизма, Абрамович продумывает каждую акцию, каждый свой перформанс.
Венера проводит Аню за свой стол и что-то говорит, но Аня слышит только:
– …и она основательно работает с телом и собственной энергией. «В присутствии художника» – это не абы кто сел и предлагает вам в глаза посмотреть, нет! Люди рыдали после этой акции, она с ними совершенно невообразимые вещи творила одним своим взглядом!
– Аня, Аня? Я тут, алё! – у Венеры резковатый, но приятный смех. – Петеньку заслушалась? Понимаю, – синие глаза Венеры блестят, – но давай всё ж о таможне поговорим, ладно?
Аня усердно кивает, блокнот и ручка наготове, записывает:
экспресс-почта картины фотографии фильмокопии арт-объекты реквизит для перформансов
посылки – на таможню Я – ВСЁ (жирно подчёркивает это слово) доки для посылок и по таможне
Рука устала, Аня не пишет, слушает, кивает. Как всё запомнить? Инвойсы, накладные, таможенные процедуры, импорт – временный ввоз…
– Заполняешь заявления, берёшь у Фаины Петровны деньги на билеты и едешь на таможню. Там тебе нужно получить пропуск. Будь готова к очередям.
Звонок телефона прерывает разговор, Венера выдвигает ящик стола, ищет что-то среди ручек, бумаг, карандашей, визиток. Нащупывает картонную коробочку с надписью Gillette, смотрит на неё удивлённо, кидает в мусорку и продолжает поиск. Находит нужную визитку, выходит из кабинета. Дубовский успел куда-то испариться. Аня аккуратно достаёт из мусорки коробочку с лезвиями и кидает в свой рюкзак.
Белый шкаф во всю стену забит каталогами выставок, театральных и кинофестивалей, биеннале… Сколько выставок «Искусства ради искусства» Аня впитала, будучи школьницей и студенткой, сколько открытий о себе и о мире благодаря им было сделано! А ведь эти же люди проводят и театральный фестиваль «Слёзы Брехта»! Ради спектаклей Аня специально моталась на день-два из Варшавы в Минск, иногда даже родителям не говорила, что приехала, ночевала у подружки.
Аня вытягивает прошлогодний каталог «Слёз Брехта», открывает на случайной странице. На фото – лохматый кудрявый мужчина в растянутом свитере. Танцует, глаза прикрыты. Аня знает этого мужчину, она видела этот спектакль – «Орхидеи» итальянского режиссёра Пиппо Дельбоно. Он в тот вечер словно вспорол Ане живот, бережно вытащил кишки, печень, почки, сердце, что-то с ними сделал, как-то по-особенному их погладил, и так же заботливо уложил обратно.
На видео, проецируемое на огромный, на всю сцену, экран, лежала старушка с тоненькими, прозрачными руками. Мама Пиппо умирала в больнице и прощалась с сыном, а он рыдал и продолжал снимать это на камеру телефона. И потом включил видео в спектакль, а сам танцевал странный танец любви, отчаяния, прощения и прощания. Критики потом ругали его за «запрещённый приём», называли это дешёвкой, вульгарщиной, манипуляцией.
А Аня влюбилась. В такую жизнь, в такое искусство. Где боль можно сделать красивой, где через скорбь приходишь к бесценности жизни. Аня вышла из зала, лицо было залито слезами, она не помнила, как оказалась дома.
«Честь, честь, честь – это такая честь», – стучит в голове, пока Аня медленно перемещается по кабинету, всматриваясь в детали.
– По рюмашечке в честь почина? – возвращается Венера и снова улыбается.
Аня кивает, Венера достаёт из шкафа бутылку вина и два пластиковых бокала. Разливает вино по бокалам, протягивает Ане.
– Добро пожаловать в «Арт энд блад», Аня!
Расслабление растекается по телу.
вот оно – моё место
5.
Взмыленная женщина влетает в офис, с ноги распахнув входную дверь:
– Давид, ёб твою мать!
Аня отрывает взгляд от таможенной декларации. Боже, это же она.
– Привет, Аня. Давида сегодня видела? Он в офисе?
– Н-нет… Добрый день, Джульетта Алексеевна!
– Ага, добрый, – Джульетта сбрасывает пальто и садится за стол. Достаёт из сумки огурец, салат в полиэтиленовом пакете, вилку. Откусывая от огурца, зачерпывает вилкой салат прямо из пакета. По офису разносится резкий запах специй.
Хлопает дверь – на пороге парень. Худой, высокий, взъерошенные тёмные волосы, серые джинсы заправлены в мартинсы. Кожаная косуха накинута на чёрное худи. Ни шарфа, ни шапки – словно не с мороза пришёл, а прямиком из апреля.
– Ну надо же, явился! Давид, что за хуйня?! Мне Яблонский из «Рояла» телефон оборвал с самого утра, до тебя они дозвониться не могут, открытие выставки на носу, срочно нужны акты! Сколько можно с тобой возиться, ты же вообще ни хрена не делаешь, ничего не могу поручить, всегда херню какую-то получаю!
– Джульетта, – спокойно отвечает парень, – я же ещё вчера вам про акты всё сказал. Они готовы, я их отправил Алёне Васильевой. Яблонский там уже вообще ни при чём, он вам по привычке звонит поорать. Он, как всегда, скучает по вам и ищет повод, а вы всё никак это не поймёте.
За окном сталкиваются два автомобиля, но Аня не слышит визга тормозов и ругани водителей.
– Ну и что!.. – в голосе Джульетты пробивается растерянность. – Почему утром не напомнил? Почему я, как дура, не понимаю, что ответить Яблонскому? Ты знаешь, сколько у меня дел, я не могу всё в голове держать! Ты должен был напомнить!
– Ну я же не мог знать, что он вам с самого утра звонить начнёт, Джульетта, – парень смотрит на Джульетту, еле заметно улыбается, в его глазах пляшет… насмешка?
– Утро, Давид, это восемь ноль-ноль, а ты на работу к двенадцати припёрся, у некоторых людей уже обед в это время, задолбало меня такое распиздяйство, – к концу фразы голос Джульетты как будто затихает, запал иссякает, энергия рассеивается.
– Кстати, а вы слышали, что Аня Петрова беременна? Вот почему она на гастроли с Золотым театром не едет! – Давид вольготно усаживается в кресле напротив начальницы, разве что ноги на стол не закидывает.
– Да ты что! – Джульетта аж привстаёт со стула, теперь она – ребёнок, которому пообещали рассказать жутко интересную историю. – Так, а отец кто? Неужто Владик?
– А вот этого никто наверняка не знает, – улыбается Давид, покручивая в руках сигарету.
– С ума сойти, сколько ж ей лет? Тридцать восемь? Сорок? Обалдеть!
– Тридцать девять. Говорят, она давно пыталась.
– Ну а ты, как обычно, всё про всех знаешь, да, Давид? – Джульетта откидывается на спинку кресла и обращается к Ане:
– Ты с этим парнишей поосторожнее, никогда не знаешь, что у него на уме, – Джульетта улыбается, как гордая мать обаятельного хулигана.
*
– Так ты Аня, да? – Давид стоит возле стола, крутит в пальцах сигарету. От него исходит терпкий аромат – что-то травянистое, тяжёлое, горькое. На худи надпись «ИДИКОМНЕ», в нижней губе – пирсинг-колечко. – Куришь?
– Да, но своих у меня нет.
– Идём, я угощу.
Оказывается, курят не на ступеньках возле входа в музей, как Аня думала, а в огороженном бетонными стенами внутреннем дворике: две длинные деревянные скамейки со спинками, три серебристые урны для окурков и сундук с песком. Серое небо висит над головой и угрожает опуститься ниже, со стороны проспекта беспрерывно сигналят застрявшие в пробке машины.
– Держи, – Давид протягивает открытую пачку, возле мальчишеских неровно обрезанных ногтей кожа обкусана до крови.
Он молча рассматривает Аню, его взгляд – изучающий, холодный, проникающий под кожу. Под таким взглядом неуютно, как на рентгене, при этом Ане почему-то хочется показаться классной, умной, интересной под этим взглядом.
Аня отводит глаза и вообще жалеет, что не осталась в офисе. Давид рассказывает о себе: он в «Арт энд блад» с самого основания, Громовскую знает лет десять, ставит спектакли в своём андеграундном театре Freedom. Аня про него слышала, но на спектаклях никогда не бывала.
– Приходи. В субботу играем Сару Кейн. Напиши мне, я тебе приглос сделаю.
Как же Аня завидовала, когда видела, что кто-то проходит по пригласительным. Обычно это были модные юноши и девушки, наверняка они знали всех в тусовке, со всеми дружили, да и сами, скорее всего, были творческими и талантливыми.
Аня отвечает про жизнь в Варшаве скованно, односложно, ей нечего рассказывать. Давид сыпет именами (Тадеуша из Нового театра знаешь? Мы с ним так оторвались на прошлых «Слезах Брехта»!), но Ане они ни о чём не говорят. Давид упоминает, что вчера был на ретроспективе Михаэля Ханеке, смотрел «Пианистку» в который раз.
– Люблю этот фильм. Но концовка… Никак не могу её разгадать, есть ощущение, что Ханеке её просто… слил, потому что так и не придумал, чем ещё это всё можно закончить.
– А ты книгу читал?
– Нет, а есть книга? – в его глазах пробегает интерес.
Аня усиленно кивает.
– Ну, не знаю, и что? Хорошая? Я как-то не могу представить, что в романе сказано больше, чем Ханеке передал в кино.
Вот она, территория Ани, тема захватывает её, и в такие моменты стеснительность отступает.