Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
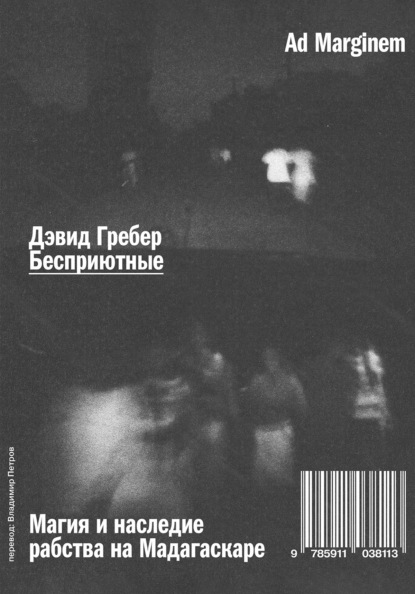
- -
- 100%
- +
Чтобы попробовать понять значение всего этого, можно применить различные подходы – например, предположить, что в культуре мерина содержится иное представление о государстве, чем в западной. Что если от государства просто не ожидают защиты собственности? (Тот, кто утверждает обратное, возможно, придерживается чуждых этой культуре принципов, навязанных французским колониальным режимом.) Но нет – доколониальное государство мерина строго относилось к собственности и всячески защищало ее. Король Андрианампойнимерина, его основатель, постоянно подчеркивал роль собственности в своих речах. Своды законов, начиная с принятого при Андрианампойнимерине, содержали положения о наследовании, покупке, аренде имущества и тому подобных вещах: это была одна из главных забот правителей. Даже регистрация земельных угодий началась в доколониальный период – а именно в 1878 году, за семнадцать лет до французского вторжения.
Одновременно имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что в ту эпоху сложной системе законов придавали гораздо больше значения, чем сейчас, хотя, похоже, никто ни разу не выступил против нее открыто. Как правило, люди не оспаривают законодательства, но применяют его очень избирательно. В большинстве случаев все продолжают делать свои дела привычным способом. Думаю, именно это обстоятельство дает наилучшую подсказку.
Позвольте сделать кое-какие обобщения. Столкнувшись с тем, кто олицетворяет нежелательную для него власть, малагасиец, скорее всего, охотно согласится с любыми его требованиями, а когда тот удалится, он будет жить дальше, точно этого случая не было. Пожалуй, можно сказать, что малагасийцы ведут себя так при встрече с любыми представителями власти. И, вероятно, такой образ действий характерен не только для Мадагаскара. Обычно это считается типично «крестьянской» стратегией, поведением экономически независимого человека, выслушивающего указания о том, как ему быть. Но есть и множество других путей: конфронтация, переговоры, подрывная деятельность, попустительство – во всевозможных сочетаниях. На Мадагаскаре испокон веков стремились избегать открытых конфликтов, поэтому излюбленный подход здешних жителей выглядит следующим образом: «Сделаем так, чтобы они были довольны, а потом не будем обращать на них внимания». Это отразилось даже в космологии: малагасийский миф о происхождении смерти гласит, что жизнь была получена от Бога в обмен на обязательство, которое люди не собирались исполнять. (Потому-то, говорят они, Бог убивает нас.)
Я считаю этот мифологический эпизод очень показательным. Можно утверждать, что всё это в конечном счете соответствует логике жертвоприношения. На Мадагаскаре (а может, и в других местах?) суть его нередко формулируется следующим образом: отдадим божественным силам часть принадлежащего им по праву, чтобы отдать остальное живым людям. Часто говорят, что Бог забирает жизнь животного, подразумевая, что тем самым мы сохраняем свою собственную. Теперь посмотрим на любопытное обстоятельство: по всему Мадагаскару для жертвоприношений – или их функциональных эквивалентов, таких как имеринский ритуал фамадихана[16],– всегда требуется разрешение властей. О том, что разрешение получено и все бумаги оформлены должным образом, часто сообщают во время самой церемонии. Вот отрывок из речи одного представителя этнической группы бецимисарака (восточная часть острова), произнесенной над телом жертвенного быка:
Этот бык – не из тех, кто ленится, пребывая в своем загоне, или гадит, вступая в деревню. Его тело здесь, с нами, но его жизнь – с вами, с властями. Вы, власти, подобны большому зверю, лежащему на спине: тот, кто переворачивает его, видит его огромные челюсти. Так и мы, друзья, не можем перевернуть этого зверя! Это официальное разрешение – пусть нож разрежет его шкуру, пусть топор сокрушит его кости, – исходит от вас, обладателей политической власти (Aly 1984: 59–60).
Государство выступает в роли насильника и его жертвы одновременно, но, кроме того, получение разрешения приравнивается к самому обряду жертвоприношения. Я хочу сделать акцент на автономии. Заполнение бланков, регистрация земли, даже уплата налогов – всё это можно считать эквивалентами жертвоприношения: мелкие ритуалы задабривания власти, благодаря которым человек получает автономию и продолжает жить как жил.
Тема автономии поднимается в ряде исследований, посвященных Мадагаскару колониального и постколониального периодов – например, в работах Жерара Альтаба (1969, 1978) о тех же бецимисарака и Джиллиан Фили-Харник (1982, 1984, 1992) о сакалава[17], проживающих на северо-западном побережье. Но у этих авторов она приобретает дополнительное измерение: оба полагают, что на Мадагаскаре наиболее распространенный способ достижения автономии – создание ложного ощущения господства. Логика здесь следующая: сообщество равных может быть создано только путем подчинения некоей всеобъемлющей силе. Обычно этой силе приписывают произвол и жестокость, примерно так же, как малагасийскому Богу. Но она в той же мере может быть далека от повседневных людских забот. Одной из самых драматичных реакций на колониальное господство среди обоих народов стало массовое распространение одержимости. В обитательниц всех общин вселялись духи древних королей, и считалось (по крайней мере, теоретически), что они обладают такой же властью, как при жизни. Одержимые женщины, говорившие от имени королей, наделялись властью, которой французские чиновники и полицейские не решались противостоять открыто. Образ действий всегда был одним и тем же: кому-нибудь удавалось учредить пространство свободы, позволяющее существовать вне досягаемости властей, создать иллюзию полного могущества – но именно что иллюзию, призрак, управляемый теми, кто якобы подчинялся ему.
Грубо говоря, можно сказать, что люди, которых я знал, занимались своего рода мошенничеством. Власти – по крайней мере, начиная с колониальной эпохи, – казались им чем-то чужим по самой своей сути, связанным с хищничеством и принуждением. Основным чувством, испытываемым при встрече с ними, был страх. При французах государственный аппарат был в первую очередь механизмом для извлечения денег и принуждения подданных к труду на благо властей; он давал мало социальных благ сельским жителям (а с их точки зрения, вовсе не давал благ). В той мере, в какой правительство заботилось о повседневных нуждах обитателей страны, оно сознательно старалось порождать новые потребности и видоизменять желания людей, чтобы усилить их зависимость от себя. После провозглашения независимости (1960) почти ничего не изменилось – установившийся тогда режим не стал менять практически ничего в этой политике и методах ее осуществления. Большинство населения думало, что государство надо задобрить и затем держаться от него подальше, насколько это возможно.
Положение начало меняться лишь после революции 1972 года, являвшейся по своей сути антиколониальным восстанием. После нее у власти находились военные правительства, поощрявшие государственный капитализм; с 1975 по 1991 год в политике доминировал президент Дидье Рацирака. Он вдохновлялся тем, что делал Ким Ир Сен в Северной Корее; в теории его режим был социалистическим, с упором на крайнюю централизацию и мобилизационную экономику. Однако Рацираку с самого начала не интересовал традиционный крестьянский сектор – стагнирующий, с небольшим революционным потенциалом. В сельском хозяйстве, как и в промышленности, правительство сосредоточило усилия на выполнении грандиозных (иногда даже рискованных) планов экономического развития, предусматривавших привлечение займов из-за рубежа. В 1970-е годы займы текли рекой. К 1981 году государство оказалось неплатежеспособным. С тех пор история мадагаскарской экономики сводится по преимуществу к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ).
Я не хочу вдаваться здесь в подробности планов жесткой экономии, навязанных МВФ. Достаточно сказать, что ближайшим их результатом стало катастрофическое падение уровня жизни во всех смыслах. Тяжелее всего пришлось чиновникам и другим государственным служащим (составлявшим основу среднего класса), но – если не говорить об узком круге приближенных президента, предававшихся бесконтрольному воровству, – обнищание было всеобщим. Сегодня Мадагаскар – одна из беднейших стран мира.
Для «крестьянского сектора», которым пренебрегал Рацирака – в сельскохозяйственных областях не производят базовых товаров, – это время ознаменовалось постепенным уходом государства. Самые обременительные налоги, введенные французами – подушная подать, налог на скот, налог на дом – с целью заставить крестьян продавать свою продукцию и тем обеспечить переход к денежной экономике, – были отменены сразу после революции. Режим Рацираки сначала игнорировал местную сельскую власть, а после 1981 года всё чаще перетряхивал ее. Государство, ресурсы которого постоянно уменьшались по мере урезания бюджетов, отныне управляло – предоставляя там минимальный набор социальных услуг – городами и территориями, которые правительство считало важными с экономической точки зрения, по большей части теми, что давали хоть какие-нибудь валютные поступления. Такие места, как Аривонимамо, где производство и сбыт почти целиком осуществлялись за пределами формального сектора, не представляли для него интереса. И действительно, трудно вообразить, что здесь произойдут события – если только эта территория не станет базой для вооруженных партизан, что очень маловероятно, – способные всерьез затронуть интересы истинных правителей страны[18].
Сельским районам перестали выделять деньги. К тому времени, как я оказался в Аривонимамо, сколь-нибудь существенные средства поступали только в образовательную систему. Но и они, по сути, были скудными: государство в основном занималось тем, что назначало учителей (жалованье им частично платили родительские ассоциации), присылало учебные программы и устраивало экзамены. Последние, особенно бакалаврские, очень заботили столичных чиновников, так как были пропуском в формальный, государственный сектор: те, кто успешно сдавал их, уезжали на военные сборы, длившиеся несколько недель, а затем в течение года находились на «национальной службе», то есть – как я уже отмечал – назначались на бессмысленные подсобные работы и большей частью бездельничали. И всё же мне кажется, что «национальная служба» играла важную роль. Она обозначала переход в ту сферу, где существовала реальная государственная власть, где исполнялись распоряжения. Тем, кто не был занят в образовательном секторе, государство не давало ничего[19] – но зато оно в целом не имело власти над ними.
Однако офисы государственных учреждений имелись даже в деревнях. Печатные машинки часто были на последнем издыхании, чиновники сами покупали бумагу, которой их перестали снабжать, но при этом люди, как и раньше, послушно заполняли бланки, прося разрешения на выкорчевывание деревьев или эксгумацию мертвецов, извещая о рождениях и смертях, сообщая о поголовье скота. Скорее всего, они понимали, что, если откажутся делать это, им ничего не будет. Зачем же они подыгрывали властям?..
Можно, наверное, говорить об инерции, о великой силе привычки: люди занимались привычными делами, задабривая государство и не замечая, что его огромные челюсти лишились зубов. Конечно, память о насилии колониальных времен была еще жива. Я не раз слышал рассказы о массовых казнях, о том, с каким страхом сельские жители переступали порог государственного учреждения, о непосильных налогах. Но мне кажется, что настоящий ответ выглядит сложнее.
Воспоминания о насилии важны преимущественно из-за того, что они определяют облик государства в глазах людей. При мне почти никто не утверждал, что государство (при всей его социалистической политике) должно предоставлять какие-либо услуги; во всяком случае, никто особенно не жаловался на их отсутствие. Казалось, люди молча соглашались с тем, что власть государства носит произвольный, хищнический, насильственный характер. Но при этом все воспринимали всерьез одну составляющую официальной идеологии: идею единства всех малагасийцев. По крайней мере, в горной местности люди ощущают себя малагасийцами и редко говорят о себе как о «народе мерина». Власти постоянно говорили о единстве малагасийцев, и именно поэтому, думаю, государственные флаги были непременным атрибутом любого мало-мальски значимого обряда (это свидетельствовало о том, что бланки заполнены и мероприятие разрешено). По-моему, именно тот факт, что государство было пустой оболочкой, позволял ему выступать в качестве объединяющей силы. Когда государство еще оставалось могущественным, в Имерине его считали чем-то французским, даже в первые годы после провозглашения независимости. Революция 1972 года была прежде всего попыткой добиться подлинной независимости, сделать государство истинно малагасийским. В горной местности, как я уже сказал, эта попытка увенчалась относительным успехом, хотя и по той причине, что государство в какой-то момент лишилось реальной власти. Иными словами, государство представляло из себя кое-что ровно в том же смысле, что и древние короли, о которых пишут Альтаб и Фили-Харник: абсолютная, носящая произвольный характер власть, сплачивающая людей в сообщество на основе принципа всеобщего подчинения и в то же время очень удобная для управляемых, потому что в непосредственном, практическом смысле ее не существует.
Условно автономная зонаСовременные анархисты часто говорят о «временных автономных зонах» (TAZ – temporary autonomous zones; Hakim Bey 1991). Идея заключается вот в чем: вероятно, на планете больше нет мест, которые не подчиняются Государству и Капиталу, но власть не совсем монолитна – в ней образуются временные трещины, расселины, недолговечные пространства, в которых могут возникать и постоянно возникают самоорганизующиеся сообщества: геологические возмущения, невидимые продукты вулканической активности. Такие пространства свободы появляются и исчезают. Они полезны хотя бы уже тем, что свидетельствуют о возможных – даже сегодня – альтернативах, о том, что человеческая деятельность не является чем-то застывшим.
Говоря о сельских районах Имерины, лучше употреблять термин «условно автономная зона», а не «временная»: с одной стороны, это подчеркивает, что речь не идет об открытом вызове внешней власти, как в случае с TAZ, с другой – нет оснований думать, что эта автономность является временной. Бетафо и во многом также Аривонимамо находились вне прямого контроля государственного аппарата, даже если люди, жившие там, перемещались между ними и в другие области – например, в столицу, которая в значительной степени находилась под властью государства. Их автономия была шаткой, неустойчивой и рухнула бы, если бы государству был обеспечен мощный приток денег и оружия; но притока не случилось. Кое-кто сочтет эту ситуацию возмутительной, я же расцениваю это как большое достижение. Планы жесткой экономии навязывались многим странам, но мало где правительство позволяло большей части населения существовать самостоятельно, управляя собой без внешней помощи, и мало где население было так хорошо подготовлено к этому.
Я не хочу приукрашивать положение дел. Ценой за автономию сельских общин стала ужасающая нищета; трудно наслаждаться свободой, если тебе изо дня в день едва хватает еды. Институты социального контроля – прежде всего, конечно, школы и христианские церкви, – по-прежнему функционируют и обладают всё тем же иерархическим устройством, хотя у них уже недостаточно власти, чтобы угрожать применением физической силы. И затем, в таких местах, как Бетафо, отношения между людьми совсем не выглядят равноправными – иначе не было бы всех этих столкновений и разногласий.
Чтобы понять случившееся в Бетафо, нужно уяснить себе, во-первых, что это место большей частью находится вне досягаемости государственной власти, а во-вторых, что государство всё же дотягивается до него. Несмотря на все попытки сохранить зоны автономии, принуждение уже изменило характер взаимодействия между людьми; в каком-то смысле оно теперь встроено в само это взаимодействие.
Почти все имеринцы считают себя христианами (около двух третей населения – протестанты, одна треть – католики). Многие регулярно посещают церковь. Пожалуй, власти больше не могут заставлять детей ходить в школу, но ее по-прежнему посещают почти все (по крайней мере, начальные классы). В то же время отношение к обоим этим институтам, особенно к школам, отмечено определенной двойственностью. Говоря о политике в области научных исследований, я указывал, что система образования в Имерине всегда рассматривалась как орудие в руках власти и отождествлялась с вазаха. Та система, которая существует сегодня, возникла при французах. Важно помнить: колониальный режим даже в отдаленной степени не мог претендовать на то, что выражает волю народа. Он был навязан населению и поддерживался лишь посредством постоянной угрозы применения силы.
Давайте немного отвлечемся и выясним, что такое эффективная угроза применения силы. Нужно не только иметь соответствующее обстоятельствам число людей, готовых использовать силу, а также вооружить и обучить их – но и скоординировать их действия: это первостепенная задача. Необходимо, чтобы эти люди могли прибыть в достаточном числе туда, где открыто бросают вызов власти, и чтобы каждый знал об их готовности прибегнуть к насилию. Задача нелегкая: требуется множество обученных чиновников, способных обрабатывать информацию, не говоря уже об инфраструктуре – дороги, телефоны, пишущие машинки, казармы, ремонтные мастерские, нефтебазы, – и обслуживающем персонале. В законченном виде эта инфраструктура может и, несомненно, будет служить различным целям. Дороги, построенные для переброски солдат, в конечном итоге позволят также возить кур на рынок и навещать больных родственников. Но если бы не солдаты, дороги никогда бы не появились, и люди, по крайней мере на Мадагаскаре, похоже, прекрасно это понимают.
Большинство тех, кто является частью государственного бюрократического аппарата – практически любого, где бы ни происходило дело, – в повседневной жизни гораздо больше озабочены обработкой информации, чем проламыванием черепов. Но это же относится и к солдатам, и к полиции. Не стоит усматривать в этом доказательство того, что насилие играет незначительную роль в деятельности государства. Лучше задаться вопросом: в какой мере эти информационные технологии являются частью аппарата насилия, важнейшими его элементами, гарантирующими, что горстка людей, желающих и способных проламывать черепа, появится в нужном месте, в нужное время? В конце концов, наблюдение – это способ ведения войны, а «Паноптикон» Фуко был тюрьмой с вооруженной охраной.
Если брать Мадагаскар, трудно отрицать изначально насильственный характер государства. Причина не только в колониальном прошлом страны, но и в том, что у большинства малагасийцев – по крайней мере, у тех, которых я знал, – стандарты восприятия отличаются от наших. Вот хороший пример: в отличие от большинства американцев, они почти не стыдятся собственных страхов. Мне очень сложно было привыкнуть к этому: например, взрослый мужчина смотрит на улицу и небрежно замечает: «Страшные машины» или «Я боюсь этих быков». Тех, кто получил воспитание вроде моего, это чрезвычайно сбивает с толку. Наверное, по американским меркам, мои родственники не считали себя такими уж законченными мачо, но меня воспитывали так, что мне неловко признавать собственный страх – во всяком случае, страх перед потенциальным физическим вредом со стороны других. Малагасийцы же, похоже, любят поговорить и пошутить об этом: они явно получали удовольствие, рассказывая мне, как люди страшатся вазаха, а порой – как они сами боятся их. Они понимают, что государство воздействует на своих подданных, внушая им страх. Думаю, представители социальных наук на Западе преуменьшают роль насилия отчасти из скрытого смущения: нам стыдно признавать, что наша повседневная жизнь во многом определяется страхом перед применением физической силы.
Школы, в конечном счете, являются частью аппарата насилия. В малагасийском языке образование – это не столько передача фактов и информации, сколько приобретение навыков: соответствующее слово, фахайзана, означает «навыки, уникальные умения, практические знания». Однако фахайзана, которую человек приобретает в школе, считается чем-то чуждым, фахайзана вазаха, которая противопоставляется истинно малагасийским умениям. То, чему учат в школе, рассматривается в основном как способ осуществления господства, отчасти потому, что сама школьная система являлась частью инфраструктуры насилия, будучи призванной готовить прежде всего чиновников и лишь во вторую очередь – технических специалистов. Стиль преподавания был сугубо авторитарным, с упором на заучивание, к тому же предполагалось, что навыки, получаемые учениками, будут применяться в конторах, мастерских и школах, устроенных исходя из социальных отношений определенного вида, которые можно назвать командными. Одни дают приказы, другие их выполняют. Иными словами, эта система не только транслировала умения и навыки, необходимые для поддержания инфраструктуры насилия, но и основывалась на социальных отношениях, совершенно непохожих на те, что господствовали в повседневной жизни, и существовавших лишь при помощи постоянной угрозы причинения физического вреда[20].
Поэтому двойственное отношение к исследованиям и книжному знанию проистекало из здравой оценки ситуации. Все полагали, что обретение знаний само по себе – полезный и даже доставляющий удовольствие процесс; все признавали, что навыки, вынесенные из школы, открывали возможность получения опыта, недоступного в иных случаях, приобщения к глобально распространяемой информации и всемирным коммуникационными сетям. Но эти навыки одновременно служили для того, чтобы осуществлять насилие. Обучая людей определенным методам организации тех или иных процессов и отбрасывая другие (как составлять списки и ведомости, как вести деловую встречу и т. д.), творцы системы делали так, что, независимо от поставленных целей, любая создаваемая ими масштабная структура, позволяющая координировать действия, будь то общество сохранения исторической памяти или революционная партия, почти неизбежно будет функционировать как бюрократическая система, основанная на принуждении[21]. Можно, конечно – и многие делали это, – попытаться использовать эти инструменты для работы в более дружеской и демократической манере (тот же Арман был членом партии, пытавшейся поступать именно так). Это возможно, но очень нелегко; и какими бы революционными ни были намерения людей, обученных таким образом, у них чаще всего выходило нечто вроде французского колониального режима в миниатюре. Неудивительно, что многие отвергали эти методы как иностранные по своей сути и старались изолировать их от «малагасийского» контекста.
Когда я говорю, что принуждение стало неотъемлемой частью опыта, я имею в виду среди прочего и это. Есть обширная область опыта, где господствуют методы крайнего принуждения, применяемые к другим людям, и каждый в какой-то мере использует их, даже если стремится уменьшить вызываемые ими негативные последствия. В Бетафо на это накладывалась еще одна проблема: данные виды знания ассоциировались в первую очередь с определенными людьми.
Среди тогдашнего населения Бетафо можно выделить три большие группы: состоятельная знать, бедная знать и рабы. Правда, это не вполне точные термины. «Знать» на деле не является знатью, «рабы», конечно же, перестали быть рабами. И всё же английские слова вызывают примерно те же ассоциации, что и малагасийские андриана и андево. Большинство андриан действительно считали, что их предки, богатые и влиятельные, состояли в родстве с королями; большинство «черных» полагали, что их предки были полевыми работниками, которых похитили из дома, продавали и покупали «как скот», подвергали любым наказаниям по воле хозяев – всё, что обычно вызывает в памяти английское слово slave, «раб».
В XIX веке большинство андриан были простыми фермерами, но существовало несколько очень богатых семей, владевших основной частью рабов. После французского завоевания и отмены рабства (1895) их представители в большинстве своем получили должности во французской администрации и на протяжении жизни одного поколения полностью покинули Бетафо. Бывшие рабы получили от аристократов часть земель, которыми владели последние, остальные же взяли в аренду. Сейчас потомки тех знатных людей живут в Антананариву или в Париже, принадлежа к совершенно другому общественному классу. Большинство бетафских андриан остаются, как и прежде, бедными фермерами, пусть и считают себя потомками господ-рабовладельцев; многие убеждены, что в целом, как социальная группа, они постепенно скатываются в нищету, тогда как «черные» процветают всё больше – и всё это из-за их былых провинностей.
В предыдущем разделе я говорил о том, что право на землю определяется не законом, а всеобщим согласием, обычаем, основанным на чувстве справедливости в широком смысле. Такого согласия всегда легче добиться в обществе, члены которого связаны родством или, по крайней мере, ощущением принадлежности к одной и той же общности. Если же община состоит из трех групп – двух, имеющих совершенно разное происхождение, как полагают все их члены, и третьей, обитающей в другом месте, не там, где эти две, – достичь согласия гораздо сложнее. Наличие категории «отсутствующих» изменило – по крайней мере, так было в Бетафо, – сам характер землевладения после того, как принуждение внезапно исчезло. Бывшие арендаторы и раньше понемногу скупали земли вокруг Бетафо, но теперь этот процесс резко ускорился. Если бы не приезд Миаданы и ее семьи, то к моменту моего появления у бывших «отсутствующих» не осталось бы почти ничего.

