Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
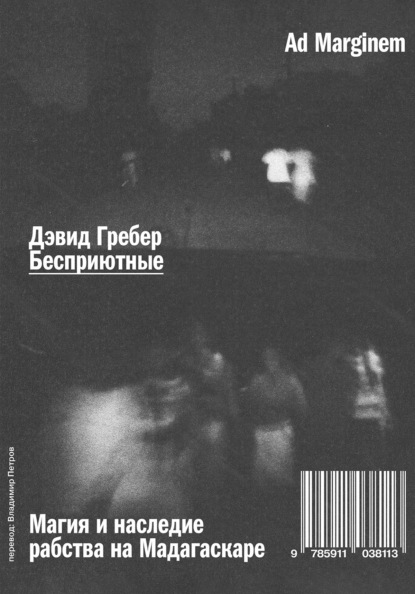
- -
- 100%
- +
Миадана, прекрасный человек, попала в невозможную ситуацию. Это была женщина, которой нравились научно-фантастические романы и классическая музыка, жена государственного служащего по имени Клод Раворомбато, которая путешествовала за ним по всему Мадагаскару и, по сути, провела всю жизнь внутри государственного аппарата. В 1980-х годах заработная плата повсюду снизилась, муж перенес ряд операций на желудке и досрочно вышел в отставку. У них было шесть детей, но ни один пока не достиг возраста, в котором становятся государственными служащими. Не имея источника дохода, они переехали в деревню, где жила мать Клода, и стали кое-как существовать за счет земли, которую до того обрабатывали потомки их бывших рабов.
Проведя всю свою жизнь в условиях, которые определяла государственная власть, они принялись выращивать рис в деревне, где этой самой власти попросту не было, среди людей, видевших в родственниках Миаданы продолжателей репрессивных традиций прошлого. Миадана и ее близкие искренне пытались ужиться с местными обитателями и старались не делать ничего, что могло быть истолковано как желание напомнить о своем превосходстве. И всё же многие соседи с самого начала отказались общаться с ними. После ордалии стало еще хуже. «Есть люди, которые называют нас злыми», – жаловалась Миадана, используя слово масиака («необузданный, жестокий, злобный»). Это слово обычно применялось к предкам и, в частности, к предку Миаданы, лежавшему в большой белой гробнице рядом с ее домом: гробнице, которой люди избегали, стараясь вообще не появляться в этой части деревни. Жалобы Миаданы превосходно отражают представление о слиянии предка с потомком: это и было настоящей причиной, по которой люди вели себя с ней так пугливо. Для них не существовало сколь-нибудь значимых различий между властью предка-рабовладельца и властью современных им бюрократов.
В исторических сказаниях, которые я собирал, о колониальном периоде говорится немного. Не затрагиваются в них – по крайней мере, прямо – и вопросы, которые я поднимаю в этом и предыдущем разделах. Но зато там есть предания о доколониальном прошлом, и, в частности, отношениях между рабами и их господами, из которых можно узнать многое о природе власти, основанной на принуждении. Я расскажу об этом подробнее в следующей главе. Пока что достаточно сказать, что в те времена принуждение было еще прочнее встроено в повседневную жизнь: само деление на «черных» и «белых» свидетельствует о долгой истории насилия. В Бетафо те и другие часто сталкивались внутри «автономной зоны», где атрибуты государственного насилия внезапно исчезли. Это вылилось в политическую борьбу, обернувшуюся крупномасштабным столкновением.
Но, как показывает история с ордалией, борьба эта велась при помощи нетрадиционных, с нашей точки зрения, политических средств. Конечно, периодически проходили выборы. Большинство «черных» поддерживало правящую партию AREMA[22], большинство «белых» – AKFM[23], в теории просоветскую. Но никто не воспринимал партийную политику всерьез. Официальные институты в местах, подобных Бетафо, сделались пустой оболочкой. Самая распространенная стратегия взаимодействия с властью заключалась в том, чтобы не подпускать ее близко и создавать свои, малагасийские, области существования, недоступные для нее, отделенные от всего «политического» и связанной с ним угрозы насилия. В результате зависящие от государства институты стали чахнуть, а новых не появилось[24]. Теперь всё относится к сфере политического и, в частности, стало «малагасийским». Манипулирование рассказами о прошлом, толкование снов, завуалированные намеки на свои громадные магические способности, запрет есть чеснок, налагаемый на других, приписывание странных погодных явлений своим действиями – такими теперь были основные инструменты, применяемые в политике.
Почему вы, возможно, захотите прочесть эту книгуЛюди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых.
Карл Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи БонапартаОставшаяся часть этой книги по большей части посвящена не отношениям между Бетафо и государством (реальным или воображаемым), а тому, как выглядит политика в этих необычных обстоятельствах. Это книга об отношениях между политикой и историей: о том, что значит действовать в контексте политики, о том, что значит действовать в контексте истории, о том, как одно начинает переходить в другое. Как любой антропологический труд, она основывается на предположении о том, что лучший способ дать ответы на эти всечеловеческие вопросы – изучить людей, которые, по всей видимости, делают одно и то же самыми непривычными способами. У жителей сельских районов Имерины неявным образом сложились представления об истории, о том, как прошлое формирует настоящее и влияет на него, сильно отличающиеся от тех, которые свойственны типичному обитателю Кливленда или Сингапура. Традиции отошедших поколений действительно давят на мозги живых людей, как кошмарный сон: зачастую в буквальном смысле.
Но я замыслил нечто большее, чем сравнение взглядов на значение истории. Я хотел написать этнографическую работу особого вида, в чем-то экспериментальную. Наверное, лучше всего объяснить это следующим образом. Обычных людей, таких как Арман, Миадана, Рацизафи, можно воспринимать как исторические персонажи. Я не хочу сказать, что в них надо видеть сущности, которыми они не являются, я утверждаю лишь, что они – человеческие существа, активно меняющие облик мира, в котором живут, хотя (подобно всем нам) им неизвестно, в какой степени мир меняется под их воздействием. Эти люди делают то, что нельзя предвидеть, пользуясь существующими схемами. Социальные науки достигли больших успехов в описании случившихся событий, и подразумевается, что их можно было предсказать заранее; однако на деле предсказать что-либо почти невозможно. Я хотел, чтобы мое повествование постоянно напоминало об этом, хотел, чтобы читатель ощущал, до какой степени поступки этих людей могут быть непредвиденными. Нет, я не собираюсь отрицать, что их жизнь во многом определяется действием сил, более могущественных, чем они сами, – но дело не только в этих силах. В каком-то смысле то, что я пытаюсь сделать, возможно, мало отличается от того, что, как уже говорилось, делают многие малагасийцы: выкроить для себя небольшую, не слишком устойчивую область автономии и свободы внутри социальной теории.
Вот почему мои рассуждения всё время сосредоточены на действии. Я задаюсь не вопросом «Что такое политика?», а другим – «Что такое политическое действие?». Меня интересует не история, а действия в ее контексте. Такой подход, несомненно, облегчается тем, что, в соответствии с малагасийской космологией, мир в конечном счете является результатом взаимодействия человеческих намерений.
В свою очередь, сосредоточение на субъектах действия подразумевает особое внимание к нравственной стороне дела, и это прослеживается повсюду. Немалая часть следующих трех глав посвящена тому, как жители Бетафо оценивают друг друга. В этом обществе человеческие намерения не просто играют громадную роль: люди активно обсуждают, насколько они хороши или плохи. А потому – как и в «Нравственных практиках» Майкла Лэмбека (1992), которыми я во многом вдохновлялся, – в моей книге большое значение придается политической нагруженности нарратива, слухов, тайн. Вот еще одно последствие: я говорю преимущественно о людях, которых нельзя назвать типичными членами общины, – об интересных персонажах, чудаках, оригиналах того или иного рода. Вероятно, это неизбежно: нравственная сторона жизни едва ли не любого сообщества заключается в бесконечных разговорах о таких людях, и они, как правило, принимают участие в важнейших политических событиях. Рассказав обо всём этом, я вкратце изложу историю Бетафо (глава 5) и в деталях поведаю о том, как там происходит политическое взаимодействие (глава 6). Бетафо, как я считаю, – необычное место, заставляющее задаться вопросом о самой сути политики, и большая часть этой главы будет посвящена теории политического действия и репрезентации, возможной в этих условиях. После этого можно будет рассмотреть отношения между местными андрианами и майнти (главы 7–11) и увидеть, как скрытое недовольство и непомерное честолюбие привели к катастрофе 1987 года.
Разумеется, я не предполагаю, что это единственно возможный способ подачи этнографического материала, и, более того, не думаю, что другие должны писать в том же духе. Пожалуй, всё, с чем вы ознакомитесь дальше, – это неизбежный результат интереса исследователя к истории, проявляющей себя в жизни полубунтарского сообщества, внутри предельно индивидуалистичной культуры, среди людей, распространяющих множество слухов – возможно, лучших в мире. Так или иначе, мне кажется, что только таким способом я могу воздать должное обитателям Бетафо.
2. Королевская власть
Остров Мадагаскар, протяженностью более тысячи миль, расположен в Индийском океане, напротив Мозамбика. По самым достоверным данным, имеющимся на сегодняшний день, он был заселен не ранее VIII или даже IX века до нашей эры; первые его обитатели пришли с островов, ныне входящих в состав Индонезии[25]. После этого была миграция из Африки, и население Мадагаскара основательно перемешалось; язык, на котором говорят повсюду, малагасийский, относится к австронезийской семье – его ближайший родственник, маандзан, распространен на Борнео[26].
Имерина[27] занимает северную часть высокого плато в центре острова. На протяжении большей части малагасийской истории она была чем-то вроде захолустья. Когда Никола Майер – первый европеец, составивший описание Имерины, – проехал через нее в 1777 году, он обнаружил, что она разбита на дюжину враждующих между собой княжеств. Уровень технологического развития был довольно высоким (местные кузнецы, по словам Майера, изготавливали мушкеты и даже подделывали европейские деньги), но при этом наблюдалась политическая раздробленность. Пираты, приходившие с побережья, уводили жителей, чтобы продавать европейским и арабским рабовладельцам; те отправляли их на Маврикий и Реюньон для работы на принадлежавших европейцам сахарных плантациях.
Всё начало меняться после того, как король Андрианампойнимерина (1789–1810) объединил разрозненные территориальные образования Имерины, создав сильное централизованное государство. Через семь лет после смерти короля ко двору его сына, Радамы I (1810–1828), прибыли британские посланники и предложили признать его повелителем Мадагаскара, если он согласится наложить запрет на вывоз рабов. Они также выразили готовность предоставить деньги, учителей-миссионеров, чтобы можно было создать систему образования и заполнить гражданские должности, снабдить имеринскую армию оружием и провести военное обучение. В течение десяти лет мушкетеры Радамы в красных мундирах, обученные британцами, были размещены на военных объектах по всему острову, а Имерина превратилась из жалкого захолустья в настоящую империю, власть которой распространялась почти на весь Мадагаскар. После завоевательных войн Радамы стал наблюдаться не отток, а приток невольников. Вскоре немалая часть населения уже состояла из людей, силой приведенных с побережья. Это были предки «черных» людей, по сей день живущих в Имерине; даже после своего освобождения в 1895 году бывшие рабы так и не слились с остальным населением.
После смерти Радамы власть перешла к офицерской группировке, которая правила от имени ряда королев; первой была Ранавалона I (1828–1861), вдова Радамы. Ранавалона I известна главным образом тем, что разорвала союз с Англией, изгнала миссионеров и стала популяризировать «королевских идолов» (сампи), поклонение которым стало своего рода государственной религией, соперничающей с христианством. После нескольких робких попыток найти золотую середину Ранавалона II (1868–1884) приняла протестантизм, в честь чего сожгла «идолов». Затем последовали попытки восстановить отношения с Англией, которая в итоге проявила равнодушие к судьбе Имерины и не сделала ничего, когда в 1895 году французские экспедиционные силы вошли в Антананариву. Мадагаскар стал французской колонией.
По иронии судьбы, французы постоянно утверждали, что защищают побережье от мерина, и при этом опирались на чиновников из их числа. Наличие образовательной системы, существовавшей задолго до прихода французов, было огромным преимуществом Имерины. Большинство отпрысков представителей старой элиты – «меринская буржуазия», как их стали называть, – сумели быстро переориентироваться, став чиновниками, врачами, священниками, учителями, торговцами, фармацевтами и инженерами. Однако меня больше интересует судьба других имеринцев, тех, кого в Имерине называют олона цотра, «простые люди», то есть подавляющего большинства населения. Большую часть времени они проживают в маленьких городках вроде Аривонимамо, сельских общинах вроде Бетафо или бедных районах столицы, и даже те, кто относит себя к элите, обращаются к ним по «чисто малагасийским» вопросам. В следующих главах я попробую объяснить, как, с точки зрения этих «простых людей», работают механизмы власти, какие законные и незаконные способы действовать в этом мире существуют. Я начну с королевской власти. В Имерине уже сто лет нет королей, и, вероятно, важно не то, чем на самом деле было королевство Мерина, а то, как его воспринимают сейчас. Наверное, стоит для начала рассмотреть королевские ритуалы – они позволяют понять базовые представления о природе общества и мироздания в целом, которые до сих пор служат основной для действий людей.
«Королевские идолы»«Когда в начале нынешнего века европейцы впервые добрались до провинции Имерина, лежащей во внутренних районах острова, – писал миссионер Джеймс Сибри в 1880 году, – они обнаружили множество идолов, почитаемых народом». Помимо «домашних идолов, или сампи, имевшихся в каждом доме, и тех, которые пользовались особым почитанием в разных деревнях и областях», насчитывалось пятнадцать или шестнадцать идолов, которые, как считалось, защищали государя и королевство в целом (Sibree 1880: 298).
Эти идолы, как отмечает Сибри, были всего лишь усовершенствованными предметами под названием оди – слово, обычно переводимое как «амулет» или «оберег». Существовало бесчисленное множество оди: одни предотвращали нападение крокодилов, другие сулили успех путешествию, третьи вызывали сексуальное желание, четвертые заставляли противников по судебному разбирательству запинаться во время выступления и так далее. Таким образом, они имели очень специфическое предназначение. Сампи давали защиту целым социальным группам. Носители таких предметов время от времени собирали людей, находившихся под их покровительством, и кропили водой, предварительно омывшей сампи, чтобы предохранить от колдовства, болезней и прочих напастей. Считалось, что королевские сампи (сампинандриана; см. Domenichini 1977, Berg 1979) способствовали сплочению страны и защищали ее от града, саранчи, разбойников, чужеземных войск, колдовства, голода, мятежей и заболеваний. Будучи предметными воплощениями королевской власти, они были при монархе во время публичных церемоний и военных кампаний. В 1877 году в Имерину прибыли миссионеры, которые окрестили сампи идолами и приступили к их уничтожению – и с этого времени начался непреходящий политический кризис.
Трудно понять, почему они вообще вызвали ассоциацию с идолами. Да, в какой-то мере они напоминали ветхозаветных идолов. То были предметы, наделяемые чертами мыслящего существа: причудливые куски дерева, иногда в форме человека или животного, и одновременно – невидимые духи с собственными именами и личными качествами. Сампи имели хозяев, в чьих домах обитали, порой их даже «кормили» и «одевали», как месопотамских или библейских идолов. Но это сопоставление выглядит странным по крайней мере в одном отношении. Осуждение идолов в Ветхом Завете основано на том, что они представляют собой изображения – зримые предметы, противопоставляемые вездесущему и невидимому Богу. Сампи же изображениями не являются. «Трудно ответить на вопрос об очертаниях и обличье национальных идолов малагасийцев, – пишет один миссионер (Ellis 1838 I: 399), – ибо они не выставляются на всеобщее обозрение, а потому попытка увидеть их считается нечестивым поступком». Как и оди, сампи изготовлялись из кусочков редкого дерева, коры или корней, а также бусин и серебряных украшений, и всегда хранились внутри рога, коробки или мешочка. Даже когда сампи привязывали к концам шестов и выносили, чтобы показать народу, их заворачивали в красную шелковую ткань.
Такие предметы относятся к категории фанафоди – магических предметов или лекарств, стоящих в одном ряду с травяными отварами; и действительно, даже королевский сампи погружают в воду, которой кропят подданных монарха. Всё же в большинстве малагасийских источников (см., напр., Callet 1908: 82–85) осторожно утверждается, что сила сампи проистекает не от свойств ингредиентов, но от воли действующего через них невидимого духа.
Одна из особенностей малагасийской картины мира – представление о том, что духи, населяющие мир, по большей части невидимы, бесформенны, безымянны, бесплотны. За немногими исключениями, это существа в самом общем смысле, вовсе лишенные отличительных черт. «Духи» олицетворяют возможность творчества, действия, роста – силу, которая в малагасийском языке имеет название хасина. Будучи чистой возможностью, они не поддаются определению; духи – существа, в общем смысле невидимые, которые прячутся в глубоких пещерах или могут быть замечены лишь краем глаза и пропадают, стоит лишь посмотреть прямо на них. Подобная двусмысленность сама по себе подразумевает, что они могущественны: им нельзя дать определения, можно лишь говорить об их способности действовать, создавать что-либо или оказывать ощутимое влияние на мир (Graeber 1996b).
Если дух обретает имя или какие-либо качества, то лишь потому, что связывается с тем или иным предметом – камнем, деревом, оди, – через который может действовать. Такие предметы называются масина. Это слово обычно переводят как «священный», но главное их свойство – наличие хасины, то есть как раз незримой способности влиять на мир зримым способом (Delivre 1974: 144–145). Итак, сила оди или сампи приписывается духу или бесплотному разуму: к нему можно взывать в молитвах, с ним в целом можно обращаться как с разумным существом. Но без амулета сила, обитающая в духе, остается чистой абстракцией. Сила же амулета зависит от его составляющих (скорее даже от их имен): именно они определяют, как проявится потенциал хасины[28]. Логика ритуала предполагает, что именно недоступность составляющих для взгляда дает им способность к действию.
Намерения, желания и своеобразный общественный договорДумаю, надо проговорить две очень важные вещи. Во-первых, оди – это возможность. Оно почти никогда не действует на своего обладателя, но дает ему возможность оказывать воздействие на других. «Противооружейные» амулеты не делают их носителей неуязвимыми в отношении пуль, а отклоняют пущенные в них пули. Любовная магия не делает того, кто ее применяет, красавцем, а пробуждает желание в другом человеке. Скрытые составляющие амулета не воздействуют на владельца, а в конечном счете отождествляются с его способностью воздействовать на мир.
Во-вторых, всё это связано со смутным осознанием того, что именно люди создали мир, в котором они живут. Духи сами по себе – ничто, всего лишь непроявленный потенциал. Они становятся конкретной силой – способностью делать что-то конкретное, а не абстрактной способностью – только благодаря ассоциации с конкретным предметом[29]. Что еще важнее, связь между предметом и духом не случайна, она всегда проистекает из действий человека: кто-то создал предмет, или посвятил его чему-то, или делает ему подношения, или приносит ему клятвы – в общем, так или иначе наполняет его хасиной. Если кусок дерева предотвращает град, а родник помогает от бесплодия, то лишь потому, что кто-то этого захотел. Даже невидимые силы, таящиеся в камнях и деревьях, в конечном итоге являются результатом человеческих намерений[30].
Слыша рассуждения местных жителей о «магии», я часто думал, что от социальной науки их отделяют всего один-два неуверенных шага. По их представлениям, сфера социального определяется человеческими намерениями и, более того, во многом зависит от могущества слов. Если слова убедительны, считается, что в них есть хасина (Delivre 1974: 143), и в конечном счете именно названия предметов, составляющих оди (бусина, «способная объединять», корень, способный «отвести»), определяют его возможности.
В XIX веке, обращаясь к невидимым силам, человек подкреплял свои слова демонстрацией предмета – деревяшки, бусины, серебряного украшения, – форма которого наглядно показывала, о чем именно он просит. Чаще всего такой предмет клали в чашу на ритуальной полке в северо-восточном углу дома. Если мольбы получали отклик, предмет оставляли при себе, он становился оди, воплощением силы, способной действовать на постоянной основе. С этих пор его нельзя было хранить на виду – только в роге, коробочке или мешочке, обернутым в красный шелк, либо найти другой способ скрыть его от чужих глаз (Graeber 1996; ср. Ellis 1837, 1: 435; Callet 1908: 56; Chapus and Ratsimba 1953: 91n134).
Оди создавались и по-другому, даже чаще всего по-другому. Но этот пример показывает, до какой степени оди и сампи являются обращенными вовне намерениями, материальными воплощениями желаний и целей их создателя. Однако в большинстве случаев речь идет о коллективном процессе, основанном на соглашении. Эдмундс (1897), еще один миссионер, утверждает, что большинство оди освящались путем принесения «клятвы верности» теми, кто собирался их использовать: «До тех пор, пока не совершился обряд освящения и не дана клятва, амулет, хоть и выглядит законченным, если говорить о его устройстве и общих свойствах, представляет для них всего лишь кусок дерева» (op cit: 62). В конечном счете именно действие и общественное соглашение, достигнутое опять же с помощью слов, придавали ему силу. Все оди и сампи – даже самые известные – должны были поддерживаться при помощи ритуалов (также называемых манасина)[31], иначе со временем они переставали приносить пользу людям.
Всё это ярче всего проявилось в королевском ритуале. В XIX веке глагол манасина чаще всего обозначал преподнесение денежных подарков государю. Отчасти это объясняется тем, что цельные серебряные монеты, которые дарили на таких церемониях, именовались хасина[32]. Хасина подносилась всякий раз, когда король появлялся на официальном мероприятии. Для публичных собраний существовал тщательно разработанный протокол, согласно которому представители различных должностей, сословий и территорий королевства по очереди дарили хасину. Но, вручая монеты королю, они передавали ему хасину и в другом смысле. В составе амулетов (см. Graeber 1996b) монеты символизировали целостность и совершенство, а в этом случае – целостность королевства, надежду на то, что его единство сохранится в будущем. Таким образом, акт дарения монеты в знак верности можно рассматривать как процесс сотворения короля – или, по крайней мере, сотворения силы, с помощью которой он объединяет королевство, его хасины[33].
В текстах XIX века всегда говорится, что королевская власть есть «собирание людей вместе» (махавори или мамори), получение от них «согласия» (манайки) на королевское правление. Королевство виделось большим собранием людей. Но когда такие грандиозные собрания проводились на самом деле, присутствующие выражали согласие, поднося хасину, то есть сотворяя силу, собирающую их вместе. Народ становился народом, признавая короля, который воплощал его волю к единству.
Всё это напоминает европейские теории общественного договора, хотя, пожалуй, не стоит делать сравнений, способных завести слишком далеко. Но всякий раз, когда двое подданных государя заключали договор друг с другом, последнему действительно вручали хасину. Из юридических документов следует, что это был один из основных способов, посредством которых королевский ритуал становился частью повседневной жизни людей. Когда несколько жителей деревни договаривались о разделе имущества, усыновлялся ребенок, закладывалось поле, продавался раб, королю передавали хасину, иначе договор не имел силы. Выглядело это так, что королевскую власть нужно сотворять снова и снова. Народ должен постоянно сотворять власть, сплачивающую его в моральное сообщество[34], – сотворять силу, гарантирующую соблюдение этих принципов.

