Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре
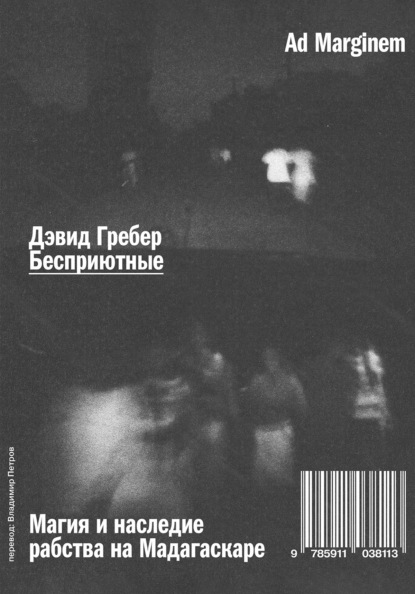
- -
- 100%
- +
Замечу, что эта сила воспринималась местным жителям как чуждая, грубая, отделенная от общества, для которого служила связующим раствором. «Король не имеет родственников», – гласит малагасийская пословица. В официальных документах, включая хроники, эта тема обходится, но сторонние источники (например, Раобмана) и европейцы ясно говорят о том, что власть монархов осуществлялась, в частности, при помощи впечатляющей демонстрации насилия: целые деревни подвергались ордалии с раздачей яда, а виновные забивались насмерть рисовыми пестиками; десятки придворных, подозреваемых в колдовстве, подвергались публичному отрубанию конечностей, а потом, будучи еще живыми, сбрасывались со скалы.
Последствия этого для морального сообщества будут рассмотрены в следующей главе. А пока вернемся к андрианам как социальной группе.
Что значит быть андрианойКороля можно назвать андрианой, но это слово обозначает более широкую социальную группу. Теоретически каждый андриана происходит от какого-нибудь короля народа мерина, причем от монарха его отделяют не более семи поколений. После семи поколений андриана становится хува – «общинником»: этот статус имеет большинство населения.
Меринский король Андрианампойнимерина (1789–1810) разделил всех андриан на семь групп по иерархическому принципу. Едва ли не в любой книге по истории Мадагаскара можно найти такой список:
1. Занак’Андриана
2. Зазамаролахи
3. Андриамасинавалона
4. Андриантомпокоиндриндра
5. Андрианамбонинолона
6. Андриандранандо
7. Занад-Раламбо
Вообще-то все эти группы сильно разнятся по своему положению. Первые три стоят ближе всего к землевладельческой знати, в нашем понимании. Почти все они владеют земельными угодьями – менакели, – в пределах которых имеют право собирать налоги, требовать повинностей, вершить суд и так далее. Первые две группы состоят из ближайших родственников самого Андрианампойнимерины и их потомков. Третья, как считалось, состоит из потомков некоего короля XVIII века, хотя на самом деле в нее входили преимущественно потомки мелких меринских правителей, которые признали власть Андрианампойнимерины и таким образом сохранили некоторые полномочия внутри своих старых владений. Они были разбросаны по всей Имерине и редко общались друг с другом.
Остальные четыре группы мало напоминают благородные кланы, стоя ближе к территориальным десцентным группам[35] – демам, как их называет Морис Блок. Основатель каждой будто бы был королем или его ближайшим родственником, но в остальном они почти не отличаются от простых общинников, не считая определенных привилегий (право носить красные коралловые бусы, не платить большую часть налогов и быть казненным путем удушения шелковым шнуром). Почти все они проживают на землях, расположенных неподалеку от столицы. В остальной части Имерины тоже имеются похожие группы, притязающие на происхождение от королей, более того, их много. Но официальная иерархия признает только потомков Андрианампойнимерины.
До объединения типичное королевство представляло собой сложную структуру, состоявшую из демов – андриана, хува и майнти[36]. У каждого дема были свои традиции – тантара, в основном связанные с тем, как его члены вступили в союз с правящей династией, был свой набор привилегий и льгот, были свои разновидности почетной службы королю (Delivre 1974). Члены одного дема имели исключительное право покрывать черепицей крыши королевских гробниц, другого – делать обрезание королевским младенцам, третьего – предоставлять определенные растения или определенных животных для жертвоприношения во время важных ритуалов. Это было неотъемлемой частью положения дема внутри королевства и составляло основу его тантары.
За королями оставалось последнее слово в этих делах. Кажется даже, что меринские монархи тратили немало времени, определяя, как быть с той или иной группой. Можно ли наделить ее членов статусом андриан? Есть ли у нее основания пользоваться юридической неприкосновенностью, якобы полученной от какого-то предыдущего короля? И так далее. Любое решение подкреплялось установкой оримбато, особого камня, который навсегда водружался на землях дема. Итак, королевская власть сотворялась вновь и вновь, но одним из ее главных достижений было придание ей постоянного характера.
Всё это, конечно, осталось в прошлом с упразднением монархии. Камни сохранились, но (если место, в котором я жил, можно назвать типичным в этом смысле) никто не помнит, что они значили. С концом королевских ритуалов стало незачем помнить, кому принадлежат какие ритуальные привилегии: я не нашел никаких следов этого в современной устной традиции. В то же время устная традиция перестала быть единственной: с началом колониального периода власть над прошлым перешла от королей к историкам и их сочинениям.
Первые исторические записи стали делаться в 1860-х годах теми мерина, которые учились у миссионеров. В 1870-х годах Калле, миссионер-иезуит, собрал обширную коллекцию исторических рукописей и затем издал их под названием «История государей Имерины» (Callet 1908). Это издание стало самой популярной книгой на малагасийском языке после Библии, послужило основой для бесчисленных исторических исследований и официальных курсов истории Мадагаскара, от начальной школы до университетов.
Обитатели Имерины хорошо образованы и любят историю. Сельские жители нередко хранят в сундуках старые пыльные книги по истории Мадагаскара на французском или малагасийском и часто доставали их для меня. Но одна из причин этого интереса заключается в том, что письменные исторические сочинения служат подтверждением статуса человека – во всяком случае, того, кто утверждает, что происходит из какого-нибудь знатного меринского рода (это касается многих образованных людей в столице). Те, кто, по их словам, разбирается в этом, часто выполняют те же функции, что некогда короли: выносят авторитетные заключения относительно статуса той или иной группы. Достаточно полистать «Фиракетану», меринскую энциклопедию, составленную в середине XX века двумя протестантскими священниками: становится ясно, что это мир высокообразованных людей, но многие статьи содержат объяснение того, почему претензии той или иной группы на статус андрианы являются необоснованными.
Время от времени я слышал то же самое в Аривонимамо. Больше всего мне запомнился довольно высокомерный приятель одного школьного учителя из Бетафо, приехавший из города: мы обсуждали историю Имамо. Так называется область к западу от столицы, по имени существовавшего там древнего королевства; она вошла в состав Имерины лишь на рубеже XVIII и XIX веков. Первоначально население Имамо, сказал он нам (перейдя при этом на французский), состояло «не из индонезийцев или полинезийцев, а из арабов». Когда разговор зашел о местных андрианах, он торжественно сообщил нам, что обсуждал этот вопрос с известным преподавателем малагасийского языка в Антананариву и тот сказал, что, поскольку Имамо стал частью меринского королевства очень поздно, притязания на статус андрианы, восходящие ко временам до царствования Андриамасинавалоны (1675–1710), не могут быть подтверждены. Иными словами, единственное надежное доказательство – это связи с королевским родом центральной Имерины, зафиксированные в письменных источниках, таких как «История» Калле.
Но даже по этим строгим стандартам бетафские андрианы законно именуют себя таковыми. Они принадлежали к Андрианамбонинолона, пятой по важности группе андриан, происходившей из Фифераны, области к северу от столицы; человек, основавший Бетафо, якобы был выходцем оттуда, и, хотя письменных свидетельств этого не сохранилось, Андрианамбонинолона стали считать, что дело обстоит именно так. В этом жители Бетафо похожи на Андриандранадо, представителей шестой по важности группы андриан, проживающих на северо-западе, за горами: предки последних были родом из центральной Имерины, и поэтому их имена встречаются в учебниках истории. Большинство других групп в регионе, присвоивших себе статус андриан, как отметил тот преподаватель, не имеют на это права, так как происходят от ветвей королевского рода, не фигурирующих в источниках.
Вопрос статуса – один из немногих, где ученая традиция сильно влияет на народную. Поэтому я питаю некоторую тревогу: мое исследование в конечном счете может быть использовано как подтверждение статуса андриан, проживающих в Бетафо. Сельские жители не без основания полагают, что при решении подобных вопросов следует обращаться к книгам, ведь последние связываются в их сознании с тем видом власти, которую олицетворяет собой знать; однако народные представления об этом виде власти крайне неоднозначны.
Знать и воиныКогда я закончил работать в столичных архивах и перешел к сбору устных историй в окрестностях Аривонимамо, я знал уже довольно много терминов, вынесенных мной из источников по истории королевства Мерина в XIX веке. Организующим началом для королевства являлась фаномпоана – «служба». Каждый служил тем или иным образом: свободные люди – государю, рабы – своим хозяевам. Свободные мужчины делились на две категории – боризано, гражданские, и миарамила, солдаты. Боризано несколько месяцев в году выполняли общественные работы; миарамила могли быть в любое время призваны и включены в состав войска. Знатнейшие вельможи владели поместьями – менакели, а жившие на этих землях простолюдины (порой также называемые менакели) выполняли отработки в пользу хозяев. Обладателей поместий называли томпоменакели («владельцы менакели»). Все эти термины входили в состав базового словаря, служившего для описания властных отношений; они постоянно встречаются в официальных документах, и я, месяцами читая, расшифровывая и пролистывая такие документы, привык к ним. Начиная свои расспросы относительно местной истории, я время от времени выдавал: «А что за фаномпоану выполняли здесь? Входила ли эта деревня в состав менакели? Кем был ее томпоменакели?»
Слыша такие вопросы, информанты почти всегда замолкали, потом отвечали осторожно, взвешенно, слегка нахмурившись, словно речь шла об очень щекотливом предмете. Вскоре я понял: им кажется, что я интересуюсь не королевской службой, а рабством.
Вообще-то почти все вышеперечисленные термины – миарамила, фаномпоана[37], менакели, даже томпоменакели – сегодня стали эвфемизмами для обозначения понятия «раб». В устной традиции все властные отношения – или, во всяком случае, все отношения, связанные с прямым подчинением, – стали рассматриваться как проявления рабства.
Особенно поразительно то, что рабы отождествляются с солдатами-миарамила, ведь в XIX веке рабам строжайше запрещалось носить оружие. И всё же причина очевидна: «солдаты» – это люди, выполняющие приказы. Отношения офицеров и солдат – это квинтэссенция отношений подчинения[38], и там, где существовало четко определенное понятие приказа, оно всегда связывалось с солдатами и институтами военизированного характера. Как я уже отмечал во введении, это по-прежнему верно для большинства сельских жителей из народа мерина.
Предка бетафского андрианы зовут Андрианамбололона[39]. Считается, что он переселился сюда из Фифераны много поколений назад. Рассказывая об этом, его потомки почти всегда указывают, что он пришел с несколькими «солдатами» (миарамила). Трое из этих воинов, как говорят, похоронены под большими гранитными плитами, которые лежат у подножия его гробницы. Андрианамбололону время от времени извлекают из гробницы, чтобы заново обернуть шелковой тканью, и то же самое делают с солдатами.
Узнав об этих солдатах-миарамила, я был взволнован и обрадован, поскольку давно подозревал, что основателями Бетафо были военные поселенцы из Фифераны, обосновавшиеся там по воле короля Андрианампойнимерины. Теперь, казалось, я нашел подтверждение этому. После этого у меня состоялось несколько довольно пустых разговоров, и наконец я выяснил, какую роль должны были играть эти «солдаты». Один из влиятельных бетафцев сообщил мне, что Андрианамбололону направило туда центральное правительство. Он был кем-то вроде чиновника. «А солдат послали с ним?» – «Ну, ему полагались солдаты для защиты». Но на самом деле все люди здесь были такими, потому что все они были его слугами (мпаномпани).
Однажды мы с Шанталь беседовали с Рацизафи, старым астрологом, который доказывал, что его предок был равен Андрианамбололоне – у обоих имелись томпоменакели – только не держал рабов, как и всё его семейство. «А кто такие эти томпоменакели?» – спросил я.
Рацизафи. Томпоменакели – кто-то вроде солдат. Однако те, что вон там [рядом с Андрианамбонинолоной], были работниками знатных людей [мпиаса].
Шанталь. То есть это были его менакели?
Дэвид [всё еще плохо понимающий, что томпоменакели и томпоменакели для местных – одно и то же]. Значит, менакели
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вторая по численности этническая группа на Мадагаскаре после мерина. – Примеч. ред. Далее, кроме особо оговоренных случаев, – примечания автора
2
Все малагасийцы имеют смешанное афроазиатское происхождение, но «белые» представители народа мерина склонны подчеркивать тот факт, что у них прямые или волнистые волосы; у майнти, «черных» (предположительно – потомков рабов, вывезенных с побережья), таких волос нет. Вообще-то примерно у половины «черных», которых я знал, волосы были прямыми или волнистыми, так что по внешнему виду не всегда можно определить, кто перед тобой – «черный» или «белый». Однако родственники и друзья Армана отличались нехарактерной для тех мест африканской внешностью, как любили замечать некоторые высокомерные горожане.
3
Свободные граждане. – Примеч. ред.
4
Фоконтани – низшая административная единица. В колониальные времена эта должность называлась «деревенский староста».
5
Ордалия – суровое испытание, способ формального определения виновности или невиновности обвиняемого посредством болезненных или опасных испытаний (в т. ч. пыток, поединков и т. д.). – Примеч. пер.
6
Все обширные цитаты, если они не взяты из письменных текстов, являются моим переводом с малагасийского. Оригинальные малагасийские тексты содержатся в приложении к моей диссертации (Graeber, 1996).
7
По некоторым свидетельствам – вместе с градом.
8
Ее манера выражаться – прекрасная иллюстрация того, как характер предков сливается с характером их живых потомков.
9
Аэропорт Аривонимамо передали военным, но они редко использовали из-за отсутствия денег.
10
Есть и другие причины: множество занадрано, или медиумов, обычно стекаются в города размером с Аривонимамо; в мире медиумов всё структурировано по регионам – везде есть свои места паломничества, которые часто находятся возле дорог; и так далее. Когда я находился в Аривонимамо, то по большей части жил в семье, возглавляемой известным местным целителем, что давало очевидные преимущества.
11
В конце концов, Миадана стала кем-то вроде моего ассистента: она не только находила для меня всевозможные документы в сундуках и на чердаках – в Бетафо и других местах, – но и разыскивала обрывки легенд и других сведений.
12
У него есть и другое определение: «Предприятие, требующее постоянного управления». [Цит. по пер. А. Филиппова. – Примеч. пер.]
13
Расправа с Анри, к примеру, стала возможной только после разговора с его отцом, давшим понять, что он останется в стороне.
14
В течение большей части нашего столетия практика была неупотребительной, но в 1980-е годы стала повсеместно возрождаться. До меня даже дошли слухи, что некоторые фокон’олоны тайно начали проводить тангены – печально известные ордалии при помощи яда, прекратившиеся в XIX веке. Но я не нашел никакого подтверждения этому.
15
В Аривонимамо был некто, носивший жандармский мундир; время от времени его услугами пользовались ростовщики или торговцы, чтобы запугать людей и потребовать от них уплаты долга или отказа от залога. Один мой бетафский знакомый был страшно напуган, когда однажды он заявился к нему вместе с известным ростовщиком – хотя соседи объяснили ему, что это вряд ли настоящий жандарм: даже если бы вы нашли стража порядка, готового отправиться в деревню по такому пустяковому делу, ссужать деньги под проценты противозаконно, и настоящий жандарм скорее арестовал бы ростовщика.
Этот случай подчеркивает, что правоохранители почти не обращали внимания на экономические дела; обычно мало что раздражает их больше, чем человек, выдающий себя за полицейского. Такой поступок наносит удар по самой сути их власти. Но этот самозванец действовал внутри области, которая не интересовала жандармов. В конце концов, жандармы никогда не делали ничего, чтобы защитить лавочников от Анри, и это происходило в городе. Лжеофицер, похоже, промышлял почти исключительно на селе.
16
Ритуальная церемония почитания мертвых. – Примеч. ред.
17
Этническая группа на Мадагаскаре. – Примеч. ред.
18
Время от времени жандармы проявляют рвение в преследовании бандитов, возможно считая, что они – единственная организованная вооруженная группа, способная стать во главе восстания, как бы маловероятно это ни было. Случалось – главным образом в XIX веке, – что бандиты действительно превращались в повстанцев. Но я подозреваю, что причина их обеспокоенности – глубокое понимание сути государства. В королевстве Мерина бандиты (в официальных документах их называли просто фахавало – «враг»), наряду с колдунами, были архетипическим антигосударством, тем, против чего выступала законная королевская власть. Если в таких случаях имеются в виду и колдуны, это объясняет тот загадочный факт, что жандармы Аривонимамо не проявляли беспокойства по поводу бесчинств Анри, но решили задержать и допросить девочку-подростка, подозреваемую в том, что она стояла за вспышкой амбалавелона – одержимости злыми духами, от которой в 1979 году пострадало целое общежитие, где разместили учеников государственной средней школы.
19
Так, медицинские услуги в теории бесплатны, но на деле это не так из-за коррупции, ставшей всеобщей, когда государственное жалованье повсюду обратилось в ничто.
20
На Западе это в большей степени относится к мужчинам, чем к женщинам, на Мадагаскаре – наоборот.
21
Таким образом, формирование компетенций, на мой взгляд, играет более важную роль в воспроизводстве структур неравенства, чем любые усилия по насаждению идеологии через систему образования, даже самые малозаметные. Подозреваю, что это даже важнее, чем манипулирование желаниями. Но Запад завоевал мир, делая то и другое. В конце концов, для создания зависимых обществ попытки изменить желания населения не обязательно должны быть успешными. Французский режим на Мадагаскаре, бесспорно, сознательно намеревался создать новые потребности и желания у малагасийцев – с переменным успехом. Но для того чтобы создать зависимое общество, нет нужды модифицировать потребности и желания всего населения, абсолютно необходимо лишь одно – изменить потребности и желания людей, которые поддерживают работу аппарата принуждения. Я не утверждаю, что в прошлом существовало общество, в котором эта единственная прослойка была бы полностью интегрирована в мировую экономику, – не могу вспомнить ни одной такой прослойки, – я говорю лишь, что этого было бы достаточно.
22
Союз возрождения Мадагаскара (франц. Association pour la renaissance de Madagascar – AREMA) или «Опора и структура спасения Мадагаскара» (малаг. Andry sy Rihana Enti-Manavotra an’i Madagasikara) – левая политическая партия Мадагаскара. – Примеч. ред.
23
Партия конгресса независимости Мадагаскара – Демократический комитет поддержки хартии Малагаси́йской Социалистической Революции (AKFM – Antoko’ny Kongresi’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara – Komity Demokratika Mandrana ny fototra lorenan’ny Revolisiona Sosialista Malagasy, франц. Parti du Congrès de l’indépendence de Madagascar) – левая революционно-демократическая и антикапиталистическая (большую часть своего существования коммунистическая) политическая партия Мадагаскара. – Примеч. ред.
24
Некоторые образованные люди – в частности, Арман и его товарищи по MFM, партии, основатели которой намеревались сформировать низовые демократические институты, – разумеется, пытались сделать это, но все предложения по созданию кооперативов и им подобные обычно встречали такой же отклик, как и правительственные инициативы: все соглашались, потом расходились и занимались своими делами, так, словно ничего не произошло.
25
Происхождение малагасийцев до сих пор является спорным вопросом. Хотя Мадагаскар расположен примерно в четырехстах километрах от восточного побережья Африки, на нем присутствуют культурные, языковые и генетические черты как Юго-Восточной Азии, так и Восточной Африки. Генетический анализ показал, что население Мадагаскара сформировалось при смешении предков африканского происхождения (банту) и восточноазиатского (индонезийцы с Борнео); предполагается независимая колонизация Мадагаскара из Африки и Азии, а не заселение уже смешанным населением. – Примеч. ред.
26
Историки Мадагаскара любят теории миграции. Большинство из них полагают, что мерина, жители провинции, расположенной на центральном плато Мадагаскара (которую иногда называют Имерина), явились на остров позднее многих других, переселившись из Малайзии. Насколько я могу судить, этому нет никаких доказательств, кроме того факта, что они, как правило, отличаются более азиатской внешностью, чем другие малагасийцы, и, как правило, имеют прямые волосы. Лично мне кажется, что жители внутренних горных районов острова должны больше походить на его коренных обитателей, чем жители побережья. Но здесь я, кажется, расхожусь почти со всеми.
27
Сегодня в повседневной речи никто не употребляет слово «Имерина», все именуют эту область по названию столицы провинции – Антананариву
28
Вообще-то, даже имя того или иного оди либо сампи, отражающее его сущность, не было именем какого-то конкретного духа. Имя, которое звучало в обращенных к нему молитвах, было просто названием самого важного куска дерева, из которого он состоял.
29
Ключевое слово здесь – манасина, означающее «дать хасину», «придать чему-либо хасину» или даже «создать хасину». (Из всех малагасийских слов оно стоит ближе всего к нашему термину «ритуал».)
30
При этом, как станет ясно позже, сам этот человек может быть уже мертв.
31
«Их амулеты постоянно обновляются под воздействием сил невидимого мира и смазываются касторовым маслом и медом, затем следует обряд, во время которого убивают курицу или овцу и приносят ее в жертву могущественным божествам» (разумеется, о последних ничего не говорится: Haile 1893: 12). Такие ритуалы называются фанасинана, и во время моей первой встречи с Миаданой я тщетно пытался узнать, где происходит хотя бы один из них. Именно это поддержание силы сампи миссионеры окрестили «почитанием» или «поклонением».
32
В качестве платежного средства использовались зарубежные серебряные монеты. Для большинства сделок монеты разрезали на более мелкие части (до 1/360 серебряного доллара).

