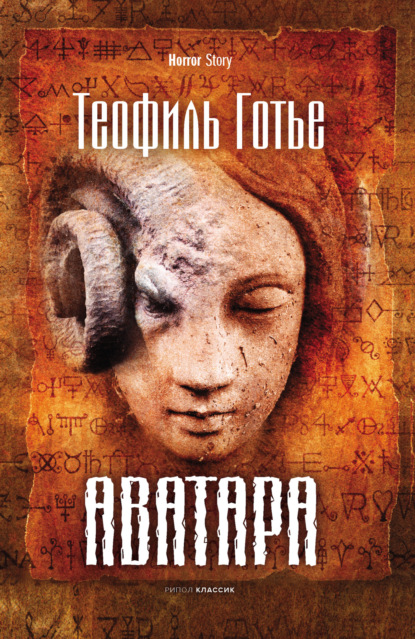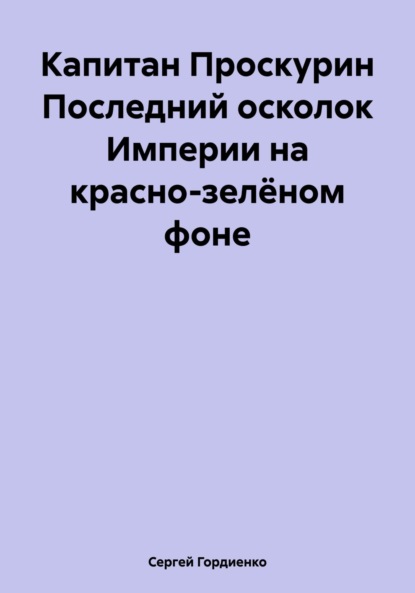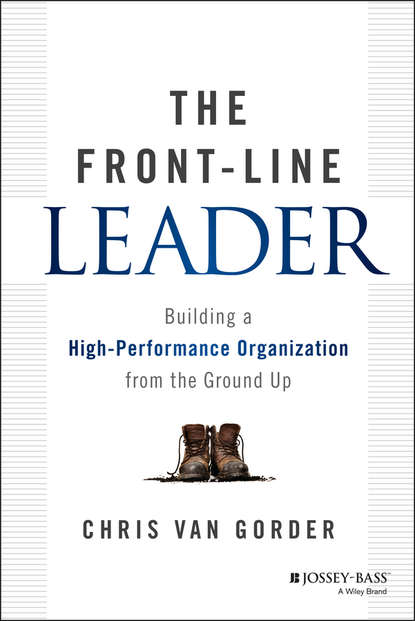Монах

- -
- 100%
- +

© Storyside, 2021
© Перевод. Ирина Гурова, наследники, 2021
© Вступительная статья. Александр Марков, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
* * *Энциклопедия готических преступлений: о «Монахе» М. Г. Льюиса
Английского писателя Мэтью Грегори Льюиса (1775–1818) обычно называют автором одной книги. Но так называли его еще при жизни: знакомые и не очень обращались к нему «монах Льюис», на что он не обижался – все же своему бестселлеру он был обязан немеркнущей с годами славой. Постоянные переиздания, с исправлениями, вносимыми по требованиям читателей и критиков, восторженно-опасливые отзывы современников, начиная с Кольриджа, наконец, мода на все страшное и таинственное не позволяли автору скрыться. Еще несколько десятилетий назад государственный деятель счел бы позорным для себя занятие художественной литературой, но мы смотрим на обложку канонического издания 1796 года и видим на ней не только имя автора, но и указание на его государственную должность – M. P., Member of Parliament, член парламента. Это было второе издание, первое Льюис выпустил анонимно в 1794 году в Гааге, где служил атташе. И действительно, современникам Льюис запомнился как безупречный аристократ, путешественник, собиратель фольклора во время первой дипломатической миссии в Германию, советчик молодых авторов, парламентский оратор. Итогом его жизни стала работа на Ямайке, где прежде вел дела его отец, с 1815 года: писатель показал себя настоящим реформатором, отменившим позорное рабство и создавшим промышленность.
Конечно, мнения младших современников были разноречивы. Вальтер Скотт, считавший себя отчасти учеником Льюиса и обязанный ему вниманием к первым шагам в литературе, равно как и стратегиями создания книжных сенсаций, вспоминал Льюиса как слишком общительного и великосветского человека, ищущего знакомств со всеми министрами и желающего обратить на себя внимание короля. Конечно, человек с Ямайки мог казаться слишком суетливым в лондонском обществе, но нужно понимать, что это взгляд профессионального литератора на того, кто литератором в полном смысле не был, – кто писал на досуге до того, как романтики окончательно утвердили литературную деятельность как профессию, отдельную от государственных, политических, ораторских заслуг. Благословленный Льюисом Байрон считал, что Льюису немного не хватало воображения, но это тоже взгляд свободного человека, существовавшего среди подготовленных читателей, делающего из собственной жизни поэму, на автора, которому еще только предстояло научить читателей правильно воспринимать художественные произведения, например не считать, что если в романе есть «безнравственные» сцены, то его автор – безнравственный человек.
Так что хотя после Льюиса литература быстро пошла вперед, следует понимать, что этот бестселлер – одно из лучших в мировой литературе исследований границ художественного вымысла как такового: исследование того, до каких границ может доходить художественная литература и как сами литературные эффекты «фантазии», «подражания» или «творческой личности» могут проявиться в реальном сцеплении событий. Создавая скандальный роман, Льюис выяснял прежде всего то, почему старая эстетика, эстетика «подражания образцам», уже не работает в современном мире.
Конечно, Льюис равнялся на прежнюю традицию готического романа, образцовое произведение которой «Замок Отранто» Горация Уолпола (1764) представляло собой расширение эстетического принципа правдоподобия. Уолпол показал, что правдоподобным может оказаться не только обыденное – поведение данного характера в данных обстоятельствах, – но и чрезвычайное и исключительное, например если люди Средних веков верили в призраков, то их встреча с призраками оказывается вполне правдоподобной. Готический роман еще не был в строгом смысле историческим, доказывающим, что люди других эпох могут мыслить и чувствовать иначе, чем наши современники, но он делал то же, что в философии делали Монтескье и Юм, – показывал, что нет людей, которые не были бы лишены предрассудков, так что сама естественность поведения оказывается тоже подражанием довольно искусственным моделям.
Несколько дальше пошла главная соперница Льюиса за внимание публики Анна Радклифф, создательница жанра сенсационного романа, то есть хоррора, романа, заставляющего сильно переживать. Она показывала, как вполне тривиальные характеры могут оказываться в непривычной обстановке из-за действия роковых механизмов в обществе, в которых при этом нет ничего мистического: это может быть большое наследство, семейная тайна о давнем убийстве или загадка происхождения – вещи довольно земные, но вдруг запускающие большую интригу помимо собственного содержания характеров. Так отступал век Просвещения, с его классификацией характеров и поиском естественного в человеке, и наступала романтическая эпоха, в которую всем приходится быть участниками всемирной исторической драмы.
Льюис сделал большой шаг вперед: по сути его роман, чтобы не пересказывать отдельные эпизоды, это большой трактат о том, как усвоенные со школы эстетические понятия, вроде «подражания», «влечения сердца», «вечного искусства» и другие, могут роковым образом срабатывать, увлекая героев в пропасти. По сути, этот роман, написанный девятнадцатилетним юношей за невероятные десять недель, это расставание со всем школьным антуражем литературного опыта и постановка его под вопрос: всегда ли этот опыт полезен или нужно, чтобы читатель свободнее смотрел на все старые образцы и самостоятельно принимал жизненные решения?
Именно с этим связан самый скандальный для современников эпизод романа, где мать дает дочери читать только цензурированную Библию, опустив все жестокие и непристойные эпизоды. Строго говоря, в Испании чтение Библии мирянами не особо поощрялось – считалось, что опасно читать текст без толкований, – но для протестантской Англии, где Библия понималась как моделирующая правильное поведение любого человека, независимо от упомянутых в ней преступлений и пороков, сама мысль о таком поведении матери казалась оскорблением и религии, и литературы, так что в конце концов Льюису пришлось стилистически смягчить и этот эпизод, как и натуралистическое описание гибели главного героя, – непосредственное вхождение злого и ужасного в нашу социальную реальность, что, оказывается, нормативные тексты могут спровоцировать насилие и пытки, а среди людей может явиться сам дьявол, вызвав грозу, потоп и человеческие страдания, было еще немыслимо для тогдашних читателей, приходилось иногда немного отступать.
И действительно, в романе мы видим, как попытка подражания образцам всякий раз оборачивается преступлением. В романе прямо пародируется платоническая по происхождению эстетика, требующая восходить от прекрасных образов к постижению истинной реальности красоты: икона Мадонны оказывается для испорченной души поводом к эротическому соблазну. Подражание многовековым образцам святости не просто угрожает гордыней и катастрофическим падением, как в средневековых житиях, но само уже есть нечто недолжное, что-то вроде самозванчества. Вместо возвышающей платонической любви, переходящей от прекрасного тела к прекрасной душе, мы, напротив, видим инцест и убийство.
В конце концов только сам Сатана объясняет главному герою, какие преступления он на самом деле совершил, что его жертвами стали мать и сестра, потому что ни из логики характеров, ни из логики образов, понятных герою, это не следовало. Это следовало из той сделки со злом, которую он совершил с самого начала, сочтя, что не существует по-настоящему добрых людей, поддавшись тем самым эффектам речи, которая только обличает других и вытесняет других из мира твоих собственных желаний. Тем самым это роман о крушении прежней риторики, требовавшей от всех держать свое поведение в рамках: оказывается, что само устройство благонамеренного желания, поощряемого речью, может стать убийством другого.
Можно читать этот роман как выворачивание наизнанку всей эстетики, в которую верили многие поколения от Античности до Просвещения, когда вдруг самые прекрасные способы отношения к действительности, вроде любования, увлечения или восторга перед чистотой, оказываются самыми преступными. По сути, книга Льюиса, как мы уже сказали, это большое исследование, как стандартная топика, вроде «монастырь – это место подготовки к смерти», «любовь преображает тело человека» или «воображение – это пылкое чувство», на которой строились многие прежние романы и вообще отношение к жизни, вдруг реализуется так, что приводит к действительным катастрофам, и, например, столкновение воображаемого и действительного образа возлюбленной оборачивается отравлением, которое и должно создать вечно мертвый образ, – пародирование классических статуарных идеалов сквозит на многих страницах романа.
Конечно, самый сильный спор с концепцией подражания идеалу – это побочная линия с призраком Окровавленной монахини. Оказывается, что и простые размышления об этом призраке могут материализовываться, а попытка действовать в логике призрака, вытеснить призрак в область чистого воображения, оборачивается кошмаром, иначе говоря, собственной неподражаемой жизнью призрака. Именно в этой побочной линии показаны возможности выйти из порочного круга подражания: с одной стороны, вводится фантастический герой, Агасфер, который, как живой свидетель дел Иисуса, только и может разрушить все миры ложного подражания, только и выступить как защитник реального переживания, с другой стороны, происходит народный бунт, не начинающий, но останавливающий последние пережитки кровной мести, которую и творили монахини уже как духовную месть, замуровывая невинных женщин.
Поворот к испанской теме вообще не случаен – на Испанию тогда смотрели как на страну закрытую и исполненную тайн, примерно как сейчас смотрят на успехи Китая – нынешняя всемирная слава романов Мо Яня, с описанием пыток, насилия и каннибализма, наиболее близкое соответствие тогдашней славе Льюиса. Испанско-монастырская тема, конечно, найдет продолжение в знаменитой новелле П. Мериме «Кармен» (1845), конструирующей уже один из первых образов роковой женщины и тем самым частично реабилитирующей подражание и эстетику эротического влечения как допустимую – зло уже причиняют вновь характеры, а не само подражание. Продолжателей Льюиса было много – от Пушкина с его Рыцарем Бедным, для которого образ Мадонны стал спасением, а не соблазном, до французских сюрреалистов, видевших в Льюисе и де Саде (с восторгом прочитавшем роман «Монах») своих предшественников. Сейчас и мы будем читать славную книгу, объясняющую уже не только романтизм, но и некоторые тупики взаимопонимания, возникающие в наши дни.
Александр Марков, профессор РГГУПредварение
Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую – это отрывок из подлинной датской баллады. А «Дурандарте и Белерма» – перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».
Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.
Предисловие
Somnia, terroes magicos, miracula, fagas,Nocturnos lemurs, portentaque.HORATIUS [1]Подражание Горацию(Послание 20, кн. I)Никак, тщеславия полна,Глядишь ты, Книга, из окнаНа Патерностер знаменитый.Известность мнишь там обрести ты,Где авторы за славу бьются,Но чаще с носом остаются.Мечтаешь ты, как в позолотеИ самом лучшем переплетеВ витрине выставит на светТебя Стокдейл или Дебретт.Иди ж, гордынею объята,Туда, откуда нет возвратаДля дерзких неразумных книг!Тебя там отругают вмиг,Коль все-таки окажут честьНе сразу бросить, а прочесть.Суровым критиком избита,На пыльной полке позабыта,Припомнишь, мучаясь тоской,Меня, свой ящик и покой!Гадателя возьму я роль,Свою судьбу узнать изволь!Запомни же мои слова:Чуть перестанешь быть нова,То в темном и сыром углуВаляться будешь на полу.И будет червь тебя точить.А то и в лавку, может быть,Твои страницы попадут,В них свечи ловко завернут.Но коль замечена ты будешь,Коль интерес к себе пробудишь,Глядишь, читатель благосклонныйЗаймется и моей персоной.Ответь ему, раз слушать рад,Что я не беден, не богат,Страстей игрушка, тороплив,Мал ростом, очень некрасив.Немногим нравлюсь я вполне,Немногие по сердцу мне.Когда люблю иль ненавижу,Пределов никаких не вижу.Мне неприятных не терплю,Тех, кто понравится, люблю.В сужденьях чересчур поспешен,Ошибками нередко грешен.Не предаю друзей моих,Но сам измены жду от них.Считать научен нашей эройЯ дружбу чистою химерой.Безмерно пылок, горд, упрям,И не прощаю я врагам.А вот за тех, кем я любим,Пройду сквозь пламя и сквозь дым,Коль спросят вдруг без лишних слов:«Но возраст автора каков?»Ты прямо говори в ответ,Что мне сравнялось двадцать лет,Когда у рубежа столетийГеорг сидел на троне Третий.Что ж, Книга милая, прости!Иди! Счастливого пути.М. Г. Л.Гаага, 28 октября 1794 годаТом I
Глава I
Граф Анжело и строг и безупречен,Почти не признается он, что в жилахКровь у него течет и что емуОт голода приятней все же хлеб,Чем камень.«Мера за меру»[2]Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины – поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десяток его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь непроизнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.
Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья – пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.
Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней взывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» – пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.
– Пресвятая Дева! – разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. – Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.
Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, взывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.
– О, конечно! – ответила ее спутница. – О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.
Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.
Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилось в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.
Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.
– Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, – сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. – Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались не замеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.
Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременного ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:
– Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?
Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:
– Нет, сеньор.
– Вы намереваетесь остаться в столице на долгое время?
– Да, сеньор.
– Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, – сказал он себе, – ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)
Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.
Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости – гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.
Спустя минуту-другую он сказал:
– Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.
И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.
– Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.
– Но что тут плохого, хотела бы я знать? – перебила ее спутница резким тоном. – Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит…
– Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.
– В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедля, ты знаешь, я не терплю возражений…
Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы – длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.
Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за mauvaise honte[3]Антонии:
– Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу и по матери.
– И столь неразумна? – спросил дон Кристобаль с притворным изумлением. – Как странно!
– Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей… Ну, считать-то она считала, но вот была ли?.. Да если бы я хоть вполовину так прихорашивалась, как она… Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.
– Что за ужасный старик, сеньора!
– О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.
– Какая нелепость! – вскричал дон Кристобаль. – Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.
– Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.