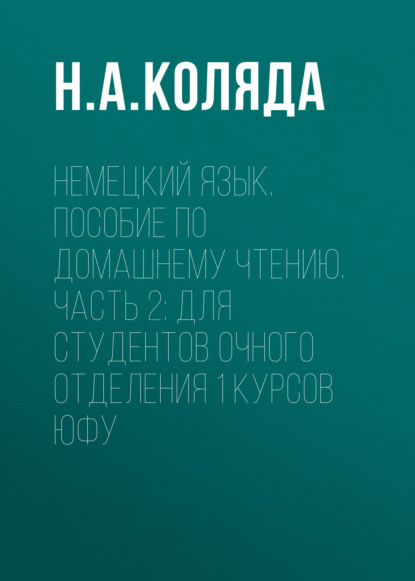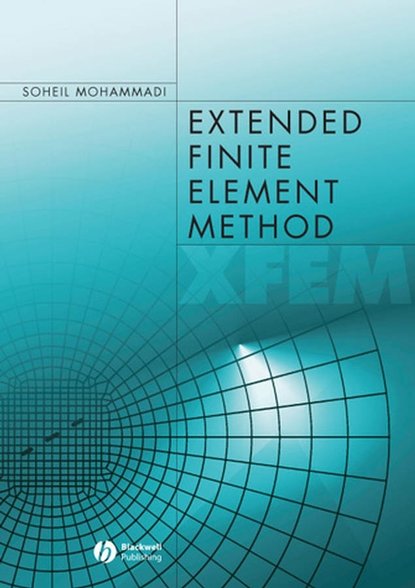Непокоренный. От чудом уцелевшего в Освенциме до легенды Уолл-стрит: выдающаяся история Зигберта Вильцига

- -
- 100%
- +
«Понимаете, – рассказывал Зигги интервьюеру, – я мог перехитрить охранников и поэтому чувствовал свое превосходство. Я ненавидел их. Я ненавидел их жестокость, их бесчеловечность. Я считал себя сильнее и умнее и с детства был уверен в себе. С детства я считал себя очень умным человеком. Так что, несмотря на их оружие и все эти убийства, я чувствовал свое превосходство. В этом, безусловно, была определенная наглость – частично оправданная, а частично нет, но даже в такой безнадежной ситуации я смотрел на них сверху вниз».
С 1933 по 1945 год в нацистской Германии было создано около 42 000 различных лагерей для заключения евреев и других «врагов рейха», собранных со всей Европы: концентрационные лагеря, трудовые лагеря, лагеря для военнопленных, пересыльные лагеря, а также центры убийств, именовавшиеся лагерями уничтожения или лагерями смерти[13].
Освенцим был не только крупнейшим концентрационным лагерем, но и самым большим лагерем смерти.
Чтобы дать место растущему числу узников, немцы освободили около 47 квадратных километров земли от местных жителей. После эвакуации жителей шести близлежащих деревень площадь Освенцима составила более 4000 гектаров. В трех километрах от главного лагеря находилась станция, куда днем и ночью приходили поезда с депортированными. В Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,3 миллиона человек, включая синти и рома («цыган»), советских военнопленных, политических заключенных и «антисоциальные элементы». Но девять из десяти жертв Освенцима были евреями.
Изначально убийства мужчин, женщин и детей, прибывавших в Освенцим, происходили в импровизированных газовых камерах, но вскоре их оказалось недостаточно, потому что число жертв постоянно росло. В начале 1943 года в Биркенау было построено четыре крупных и эффективных крематория, в каждом из которых была своя газовая камера. Эти новые газовые камеры были вместительными: в каждую можно было втолкнуть по 2000 человек за раз. К концу февраля, когда прибыл эшелон Зигберта, казни вручную в Освенциме были заменены конвейерными линиями, которые «производили» более 4000 жертв в сутки.
Более чем из миллиона евреев, отправленных в Освенцим за пять лет существования лагеря, всего около 200 000 были отобраны для принудительных работ, поселены в лагере и зарегистрированы в качестве заключенных. Обнародованные после войны документы свидетельствуют, что в одном эшелоне с Зигбертом прибыло около 3800 человек. Он стал одним из шести сотен переживших первый отбор, во время которого начальство лагеря решало, кто пригоден для рабского труда, а кто нет – и, соответственно, должен быть казнен. За последующие двадцать три месяца он пережил еще с десяток таких отборов, два из которых были проведены под руководством зловещего доктора Менгеле[14].
В Буне-Моновице Зигберт был одним из примерно 80 000 подневольных рабочих, трудившихся на немецкую военную промышленность. День начинался в половине пятого утра, когда узники должны были выбегать из своих бараков наAppelplatz, то есть площадь для переклички, где стояли по нескольку часов независимо от погоды, пока не завершится подсчет заключенных. Каждого, кто был слишком слаб, чтобы стоять, уводили на казнь.
Следующим пунктом в распорядке дня была сама работа. Узники должны были маршировать к рабочим местам, расположенным как внутри лагеря, так и за его пределами, подчас даже в десяти километрах. Рабочий день длился по двенадцать часов и больше; отдых не разрешался. Зигберт должен был копать дренажные канавы, укладывать кабели и таскать камни для мощения дорог[15]. Материалы привозили на грузовиках, и охранники бдительно следили за тем, как Зигберт пытается разгрузить мешки с цементом весом по полцентнера и длинные металлические арматурные прутья. Каждый из таких прутьев несли трое заключенных. При любой возможности Зигберт старался оказаться средним из них, что позволяло немного освободить плечи, так как основной вес приходился на более высоких мужчин по краям прута. Когда охранники велели ему становиться вперед или назад, грубые металлические прутья прорывали его ветхую одежду, отчего плечи начинали болеть и кровоточить. Зигберт ждал, пока охранники отвернутся, отрывал уголки от бумажных мешков с цементом и прокладывал ими плечи.
«Если бы охранники увидели, как я разрываю мешки, меня бы непременно избили, – объяснял он. – Но боль в плечах была ужасной, так что я решил, что можно рискнуть. Работа была очень тяжелой и рано или поздно доконала бы меня, так что мне надо было найти способ как-то спастись».
Однажды утром, по дороге на работу, он услышал, что эсэсовцы приказывают группе заключенных поступить в бригаду каменщиков. Зигберт вышел из шеренги, подбежал к ним, стянул шапку и отдал честь.
«Класть кирпичи? – сказал он, сжимая шапку. – Я шесть месяцев работал каменщиком».
Он понимал, что заключенный не должен смотреть в глаза офицеру СС, даже если он при этом вызывается сделать какую-то работу. После войны многие узники клялись, что даже не знали, как выглядят их мучители, и могли сказать лишь, что все они носили ботинки, поскольку не осмеливались поднять глаза и посмотреть им в лицо, а не то что заговорить с ними: это было запрещено и могло стать поводом для сурового наказания. Ложное заявление о владении какими-то особыми навыками несло еще больший риск[16]. Охранники смотрели на полумертвого наивного подростка.
«Почему бы и нет?» – сказал один из них, пожав плечами.
Зигберта перевели в бригаду каменщиков и приказали ему научить остальных каменщиков всему, что он знал сам.
«Мне стоило больших сил не улыбнуться, – смеясь, рассказывал он впоследствии. – Я знал о ремесле каменщика не больше, чем вы знаете о танце живота. Но я учился, работая с ними, и каждый день я узнавал что-то новое. Поэтому я учил одних каменщиков тому, что узнавал от других. В Освенциме можно было либо пойти в газовую камеру, либо Всевышний оказывался на твоей стороне и подавал тебе идею, как пережить еще один день».
Кирпичи клали на открытом воздухе под дождем и на холоде, так что здоровье Зигберта быстро ухудшалось.
«Я хотел попасть в больницу для узников в Буне, чтобы получить работу получше и в помещении, – вспоминал Зигберт. – Врачи больницы даже не пытались спасти пожилых заключенных – их сразу отправляли в газовые камеры. Лечили только молодых. Но я был не так уж болен, так что меня тоже, скорее всего, не приняли бы. Чтобы попасть в больницу, мне нужно было обладать нужными навыками. Однажды я проник туда и услышал, как один врач из заключенных разговаривает с кем-то по-польски. Я немного владел польским и спросил: “Нужна помощь? Я раньше работал медбратом”. В общем, этот врач взял меня на работу. Он не озаботился разобраться, знаю ли я хоть что-то о работе медбрата. Его просто впечатлило то, что я умею говорить по-польски… В первый день в больнице, – вспоминал дальше Зигги, – капо заставили меня грузить пациентов-евреев в грузовик. Я до сих пор не могу забыть, как эти пациенты проклинали меня за то, что я не лгал охранникам, не говорил: мол, вот этот здоров, вон тот здоров… Узники думали, что медбрат вроде меня может их спасти. Но у меня не было такой возможности. Я просто грузил их в грузовик. Я знал, куда их везут, но отказывался сознавать, что это я отправляю их на смерть. Поэтому я говорил себе, что грузовик перевозит их поправляться в другую больницу или, может быть, в другой лагерь. Через три часа грузовик вернулся с их одеждой. Все люди были мертвы».
В больнице восемь пациентов распихали по койкам, предназначенным для четверых. Эти койки представляли собой деревянные поддоны, покрытые соломой, смешанной с фекалиями, мочой и гноем. Пациентов не мыли неделями, от их тел пахло так, что вонь чувствовалась издалека. Канализации в больнице не было, и узники облегчались в ведра, которые быстро переполнялись, так что пол превращался в болото из человеческих испражнений. Во всех помещениях больницы было множество блох и вшей. У врачей из числа заключенных не было никаких материалов, и раны перевязывали самодельными бинтами из клочков бумаги и грязных лохмотьев. Страдающим диареей предлагали проглотить кусок угля, а часто единственным средством лечения было ободряющее слово. Каждый день пациенты умирали десятками, а в мертвые тела, которые долго не увозились, вгрызались крысы.
«Ни в коем случае нельзя считать, что это была настоящая больница, – предупреждал Зигги. – Не говорите своим друзьям: “Эй, там явно было не так уж плохо, Зигги говорил, что там даже больница была!” В этой так называемой больнице при лечении отдавали предпочтение христианам, но если уж ты был евреем, то вряд ли мог выбраться оттуда живым».
Физическое уничтожение было предопределено всем евреям, здоровым и больным, с момента попадания в Освенцим, а немногие спасшиеся, подобно Зигги, всю жизнь терзались вопросом, как им это удалось.
Однажды врач взял Зигберта в палату, где пациенты были уже при смерти. Оглядевшись, Зигберт увидел на одной из нижних коек своего отца.
«Предположим, что в Освенциме содержалось около сотни тысяч человек, – объяснял Зигги. – Найти среди них моего отца было маленькое чудо. Он был сильно избит, до такой степени, что…» Вспоминая этот момент, он прослезился, а затем продолжил: «Я понимал, что он не поправится. Последними словами отца были: “Сын мой, в Берлине и ты, и твоя мать соблюдали кашрут, даже когда из еды оставались только хлеб да брюква. Но здесь тебе понадобится вся твоя сила, и ты остаешься один. Кто о тебе позаботится?”»
«Не беспокойся, у меня есть друзья», – уверил его Зигберт.
«На следующий день дежурный пришел с заключенными, которые несли огромную бочку с сырым тертым картофелем, – рассказывал Зигберт в интервью. – Представьте себе, что вы умираете от голода и вдруг видите тертый картофель, из которого ваша мать прежде делала латкес. Вы будете готовы отдать за него правую руку. Охранники, стоявшие рядом, приказали мне накормить заключенных, и мы скормили этим умирающим от десяти до пятнадцати столовых ложек этого сырого картофеля».
Зигберт передвигался по палате, зачерпывая порции для больных, включая его отца. Один пожилой заключенный отказался от своей порции.
«Этот старик сказал мне: “Ты что, идиот?” “Я не идиот”, – отвечал я. “Нет, именно что идиот, – возразил он. – Ты не понимаешь ничего. Возвращайся завтра, и ты все поймешь”. На следующее утро восемьдесят процентов больных были мертвы, у них страшно распухли животы. Всю ночь у них было кровотечение. Умер и мой отец. Картофель был отравлен. Просто понятия не имею, откуда эсэсовцы брали эти новые идеи, – рассказывал Зигберт. – Отравленная картошка! Похоже, я помог убить собственного отца»[17].
Юный Зигберт накрыл отца одеялом и ушел до того, как команда заключенных явилась, чтобы забрать тела в крематорий. «Я хотел запомнить его живым, – объяснял он позже, – а не трупом в куче мертвых тел». Когда тело отца забирали, он не плакал. Если бы он проявил эмоции, эсэсовцы затолкали бы его в повозку и отправили на кремацию вместе с трупами.
Исидор Вильциг умер 8 апреля 1943 года в возрасте пятидесяти семи лет. Он пробыл в Освенциме менее сорока дней.
Через несколько недель до Зигберта дошли слухи, что его мать отправили в газовую камеру прямо в день приезда. Зигберт обожал свою мать, которая преподала ему уроки мудрости и всегда любила его, несмотря ни на что. Что ж, по крайней мере, ее не мучили и не ставили на ней эксперименты, подумал он, вспомнив, что в лагерях случались вещи и похуже смерти.
«Эти ужасы нацисты творили с узниками из блока 10, – сказал Зигги. – Это был экспериментальный блок – и вот тут появляюсь я и выдаю себя за помощника врача. Я не мог спокойно смотреть даже на то, как режут цыпленка, а не то что на все эти пытки и мучения. Как-то утром эти так называемые врачи велели мне поставить на стол три стакана. Этот эксперимент вроде бы предназначался для исследования анестезии раненых солдат. В каждый стакан мне велели налить прозрачной жидкости из разных бутылок – выглядело это как три стакана водки. Потом привели узников и заставили выпить. Первый выпил и уснул на два или три часа. Второй выпил и проспал восемь часов. Третий выпил и сразу же упал мертвым. Каждую секунду мы не знали, чего и ожидать… На следующий день, – продолжал Зигги, – они взяли меня с собой искать людей с определенным типом лба – наклоненным вперед. Таких людей из Освенцима в Польше перевезли в городок у французской границы. После освобождения я узнал, что, когда в этот городок вступили американские и французские войска, они обнаружили заспиртованные головы этих людей. Можете себе представить? Ужасно!.. Они были не только злобными чудовищами, но их ум был настолько извращен, что в одно и то же время они экспериментировали на нас, как на подопытных кроликах, убивали – и предлагали дополнительную пайку хлеба, если мы согласимся сдать кровь. Судя по тому, что мне говорили другие заключенные, нашу кровь отсылали для переливания немецким солдатам на фронте. Это была та самая еврейская кровь, которая якобы загрязняла “чистую” арийскую расу. И должен признаться, что однажды за лишний кусок хлеба тот мальчуган, на которого вы сейчас смотрите, согласился сдать кровь. Но когда я узнал, что кровь используется для спасения немецких солдат, я больше ее не сдавал. “Нет, я не буду спасать нацистов и эсэсовцев. Заберите свой чертов кусок хлеба. Я лучше останусь голодным”».
В бараке Зигберта был паренек, с которым он учился в Берлине, пока для евреев не закрыли все школы. Зигги описывал его как умного мальчика, который остался с матерью после развода родителей. Его звали Александр Даргенберг; высокого, нескладного мальчика одноклассники прозвали Текелем (сленговое название таксы). Текель копил медяки и покупал на берлинском черном рынке джазовые пластинки. Его любимыми исполнителями были Дюк Эллингтон и Луи Армстронг, и в былые счастливые дни мать Зигги порой пела с ним дуэтом, например, песнюSome of These Days, получившую известность в исполнении американской певицы Софи Такер: And when you leave me, I know you’ll grieve me. You’ll miss your little honey – some of these days[18]. Текель стал для него связующим звеном с утраченной семьей.
«Он был не так религиозен, как моя родня, – вспоминал Зигги, – но, когда мой отец умер в Освенциме, я остался один и очень привязался к Текелю. Потом Текель сильно заболел. Ему было очень плохо, сильно лихорадило. Я насмотрелся в больнице на заключенных на пороге смерти и понимал, что он не выживет. У нас не было лекарств, я никак не мог ему помочь».
Зигги вспоминал, что незадолго до смерти Текеля кто-то умудрился пронести контрабандой кусочек вонючего сыра в деревянном коробке размером с половину сигарной пачки: «Это был сыр бедняков, он кишел червями. Снаружи он напоминал печенье, а внутри был белым, червяки превратили его в кашицу. Любители такого сыра говорили: “О, червяки – значит, хороший сыр, зрелый”. Ну да, зрелый. В общем, кто-то принес коробок с сыром больничному старосте, и Текель его унюхал. Он знал, что умирает, и настаивал, чтобы я урвал ему кусочек. Но съесть этот сыр, не запив его водой, было невозможно».
Вода из-под крана в Освенциме была отвратительной и даже ядовитой[19].
Зигги вспоминал, что в водостоке собиралась дождевая вода, так что наутро после дождя узники предпочитали лизать водосточную трубу, а не пить из-под крана. Но Текель умирал, и Зигги не мог отказать умирающему другу. «Я понимал, что он долго не протянет, и принес ему воды из-под крана и кусочек этого вонючего сыра. Он прожил еще два дня».
Зигберт подружился с другим заключенным – польским евреем по имени Макс, который тоже работал в лазарете. «В какой-то момент я умирал от двусторонней пневмонии, – вспоминал Зигги. – Меня сжигала лихорадка, я стонал, умоляя дать мне попить. В то время в комнате, кроме меня, был только Макс. Он не мог вынести моих стонов и вышел за дверь». Потом какой-то уборщик из числа заключенных зашел с керамической миской, полной темно-коричневой жидкости, и поставил ее на верхнюю полку шкафа. Когда он вышел, Зигберт с трудом взобрался на стул и снял миску. Жидкость на вид была похожа на эрзац-кофе, который давали узникам по утрам. Когда Макс вернулся и увидел, что его приятель собирается выпить, он подбежал к Зигберту и толкнул его. Миска вылетела у Зигберта из рук, а сам он упал.
«Это лизол![20] – закричал Макс. – Ты умрешь, если это выпьешь!»
Через несколько дней к Зигберту начали возвращаться силы, и его вновь направили работать в лазарет.
«С той поры у меня всегда было вдоволь прокисшего супа и черствого хлеба, – рассказывал он. – Как так получилось? Просто капо забирали еду у заключенных, которые были уже на пороге смерти и не могли больше есть, и выменивали ее на товары. Я никогда не крал еду у заключенных, но у меня всегда было на что выменять у капо еду или кусочек мыла, чтобы привести себя в порядок».
Заключенные были постоянно грязными. От всех чудовищно воняло. В коже заводились черви. Душа для заключенных предусмотрено не было, но, когда шел дождь, Зигберт выходил наружу и старался хоть как-то помыться, чтобы избежать судьбы многих других – медленной, болезненной смерти от разложения и гниения заживо.
Рассказывая Нартелям о своих друзьях в лагере, Зигберт вспомнил о пареньке из его блока 9, часто говорившем о своей матери, с которой его разлучили сразу по прибытии. Однажды мальчик выглянул из окна блока 9 и увидел, как его мать ведут в блок 10 – тот самый, экспериментальный. «Это моя мама!» – сказал он Зигберту.
«Кто-то сумел передать маме этого мальчика записку, чтобы она посмотрела в окно и увидела своего сына, – говорил Зигберт. – Каждый день он смотрел на нее из своего окна, а она на него – из своего. Это были горькие взгляды. Однажды женщина не подошла к окну. Мальчик несколько дней еще продолжал смотреть в свое окно, но я понимал, что она уже мертва. Насколько я знал, ни одна женщина не выбралась оттуда живой».
Зигберт не мог спокойно смотреть на горе мальчика и решил сочинить для него утешительную историю.
«Знаешь, – сказал он мальчику, – я видел, как твоя мать выходила из блока 10. Я видел, как она шла обратно в женский блок. На ней было то же платье, в котором она пришла. Она выглядела неплохо – разве что чуть похудела, ну буквально на пару килограммов».
«Это невозможно, – ответил мальчик. – Я не сводил глаз с ее окна. Как же так вышло, что ты ее видел, а я нет?»
«А тебя тогда не было. Это было во время поверки».
«А! – обрадованно сказал мальчик. – Значит, я был на поверке».
«Вот именно, – произнес Зигги, – на поверке. Она вышла с десятком других женщин».
Итак, еще один мальчик, такой же, как он, никогда не увидит свою мать.
«Я живо представляю его сейчас, – сказал Зигберт Нартелям, – вижу, как он стоит у окна и дышит на стекло, чтобы почетче разглядеть свою мать. Вскоре после этого мальчика забрали на отбраковку. Он не вернулся».
Через два месяца работы в лазарете Зигберту приказали ассистировать во время операции хирургу из числа заключенных. Фурункул размером с яблоко образовался у пациента под мышкой, и врач оперировал пациента в полном сознании: ни эфира, ни других анестетиков не было. Зигберту пришлось держать беднягу, когда доктор начал резать. Кровь и гной брызнули из разреза, пациент закричал. Зигберт упал в обморок.
«Да кто ты, – закричал врач, – медбрат или сапожник?»
Время Зигберта в больнице подошло к концу, так что для выживания требовалось придумать какой-то новый навык. На следующий день Зигберт услышал, как эсэсовцы обсуждают грядущую перевозку молодых узников из Буны-Моновица в главный лагерь Освенцим, где их будут учить на плотников[21]. Зигберт вернулся в свой барак и спросил старших товарищей, не вызваться ли ему добровольцем.
«В Освенциме никого ничему не обучают, – сказали ему, – там только газовые камеры. Тебе не выжить. Лучше уж беги и прыгай на колючую проволоку под напряжением, это не так болезненно, как то, что произойдет с тобой в главном лагере».
«Мне не нравились разговоры о том, что живыми оттуда не возвращаются, – сказал Зигги, – и я не хотел это слышать. Хотя разумом я понимал, что мне не выжить, Всемогущий Господь подсказал мне двигаться дальше. И я пошел вразрез с мнением остальных».
В лазарете Зигберт познакомился с доктором из заключенных, бывшим жителем Кельна, которого описывал как «отчасти философа». Зигберт пересказал ему то, что говорили эсэсовцы об обучении плотницкому делу в главном лагере, и спросил его мнения.
«Я не могу сказать тебе, что делать, – ответил доктор. – Там может оказаться так же плохо или еще хуже».
«Мне кажется, в Буне я долго не протяну», – пояснил Зигберт.
«Ты умный юноша, – сказал доктор. – Следуй своим инстинктам».
Этот совет Зигги будет помнить до конца своих дней.
«Выбор» в Освенциме всегда был для узников тяжелой дилеммой. С одной стороны, выбор, сделанный на основании надежной информации, мог спасти жизнь – например, если кто-нибудь говорил: «Не ходи мимо этого капо, он садист». С другой стороны, проверить саму надежность информации не было никакой возможности. «Правильный» выбор мог оказаться ничем не лучше любого другого – стать «выбором без выбора», между плохим и худшим[22]. В день отъезда Зигберт сделал выбор и объявил эсэсовцам, что хочет учиться плотницкому делу. На дороге стояли два грузовика.
«Выбирай», – сказали ему. Один грузовик следовал в Биркенау, второй – в главный лагерь. При этом никаких опознавательных знаков не было, никто не знал, какая машина куда поедет и какой будет судьба пассажиров каждого из грузовиков. В одном грузовике он увидел пять мертвых тел, в другом – несколько еле живых заключенных. Зигберт выбрал грузовик с трупами, машина тронулась и направилась в главный лагерь Освенцима. Впоследствии он узнал, что второй грузовик привез полуживых заключенных в Биркенау прямиком в газовые камеры.
Слева от входа в главный лагерь Зигберт заметил оркестр из заключенных, игравший популярную польку:Roll out the barrel, we’ll have a barrel of fun…[23] Грузовик въехал в лагерь.
В окнах барака справа Зигберт увидел молодых женщин.
«Это был блок 24, – рассказывал он Нартелям, – здесь находился бордель: женщины предназначались для эсэсовцев. Тех, кто находился в блоке 24 в течение шести или восьми месяцев, увозили неизвестно куда, а на их место брали новых молодых девушек».
За блоком 24 стояло другое здание – как затем выяснил Зигберт, блок исполнения наказаний. «Там вешали людей, – сказал он. – Таким образом, попадая в Освенцим, вы в первую очередь видели оркестр, бордель и виселицы».
В грузовике он подслушал разговоры эсэсовцев о том, что хорошо бы найти опытную прачку, чтобы стирать им белье. «Ой, да я же много лет работал в прачечной», – солгал семнадцатилетний подросток, придумав очередное объяснение того, как он приобрел свои рабочие навыки. Ему поверили, и некоторое время он стирал белье, пока не выяснилось, что он совершенно не умеет этого делать. «Да ведь я не стиркой занимался, – объяснил Зигберт эсэсовцам, – агорячей водой». И следующие несколько месяцев он подбрасывал лопатой уголь в шесть печей, где нагревалась вода для стирки.
В тот день, когда Зигги излагал свою историю родителям Лотара, снежная буря за окнами их дома нанесла почти семьдесят сантиметров снега на Нью-Йорк, похоронила под снегом автомобили и тротуары, пройти по улицам было невозможно. Из окна их гостиной Зигги видел, как снежное одеяло покрыло Игл-авеню. Через дорогу подход к аптеке скрылся под сугробами. Он приехал к Нартелям на одном из последних поездов метро перед тем, как мэр распорядился его закрыть, и теперь должен был остаться на ночь. Кэти Нартель готовила обед, а он продолжал вспоминать.
Заключенных, рассказывал он, заставляли стоять голыми на морозе, подчас по нескольку часов, пока врачи осматривали их, решая, кто будет жить, а кто умрет. Некоторые узники бегали на месте, доказывая, что у них еще остались силы. Тех, кого обрекали на смерть, выстраивали в шеренгу на узкой аллее, которая соединяла первый и второй блоки. Там как раз и находилась прачечная для заключенных, где Зигги работал в ночную смену. Прачечная была комнатой с двумя окнами с видом на аллею, где размещалось несколько труб и угольных печей[24]. По этой аллее эсэсовцы гнали узников на смерть в газовые камеры. Зигги рассказывал, как однажды он вместе еще с двумя работниками прачечной подождали, пока эсэсовцы окажутся на другом конце аллеи, высунулись в окна и втащили в прачечную всех подростков, каких смогли. Однажды самого Зигберта приговорили к смерти и поставили вместе с остальными в шеренгу ожидать смерти в газовой камере. Охранники подтолкнули шеренгу вперед, и Зигберта спасли товарищи, втянувшие его в то же окно.
Однако работа в прачечной, как и все остальные, не могла длиться долго, и вскоре Зигберта вновь отправили работать на открытом воздухе под дождем и в холод. Когда в Освенциме шел дождь, спускался туман, и в один особенно дождливый день, чтобы никто из бригады Зигберта не попытался бежать, скрывшись в тумане, охранники отвели всех узников в ближайший амбар. Один из охранников был хорошо известен заключенным как запойный пьяница.