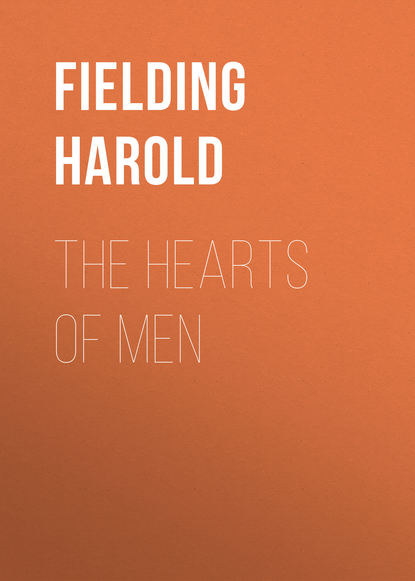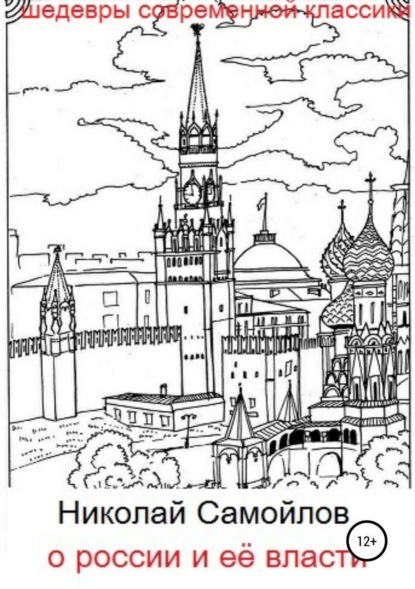Зеркальный апокалипсис

- -
- 100%
- +
На четвертый день массивы данных начали поступать – холодные, неумолимые реки чисел. Сначала – ничего, что мог бы отсеять стандартный фильтр. Монотонная, скучная картина осадочных пород, плавный переход к базальтовой коре, однородной, как масло. Затем, на глубине, эквивалентной пятнадцати километрам под океанским дном, там, где давление должно было превращать все в пластичную, аморфную массу, «Гея-3» засекла легчайшую, но абсолютно правильную пульсацию. Не сейсмическую – не было сопутствующих волн сжатия-разряжения. Не тепловую – термальный фон был ровным. Это было колебание… чего-то иного. Колебание локального пространства-времени? Нет, слишком громко сказано. Скорее, колебание неких полей, лежащих за гранью Стандартной модели, полей, чьи носители мы даже не научились детектировать. Когерентный резонанс. Тот самый. Но здесь он был на порядки мощнее. Чище. Фундаментальнее, как биение сердца гиганта после щебетания птицы.
Мое собственное сердце забилось чаще, посылая в мозг ударные дозы кислорода. Я заглушил все посторонние процессы, увеличил чувствительность сенсоров до теоретического предела, пожертвовав четкостью, и запустил алгоритм томографической реконструкции не по плотности, а по источникам этого резонанса. Компьютер «Мнемозина» заворчал, предупреждая о перегрузке петафлопсных мощностей, но подчинился.
На экране, в чёрной пустоте условного геологического разреза планеты, начало проступать свечение. Сначала – как туманность, размытое облако. Затем, по мере накопления данных и применения квантовых алгоритмов деконволюции, структура обрела форму, ясность, чудовищную детализацию. Это была сфера. Чудовищных, немыслимых размеров, сравнимая с небольшим астероидом, залегающим не в коре, а глубоко в самой верхней мантии. Но это не было природным образованием – ни магматическим пузырем, ни ядром протопланеты. Ее границы были слишком четкими, кристаллически правильными. Внутренняя структура, которую удалось восстановить по интерференции резонансных волн, была непостижимо сложной – фрактальной, многослойной, напоминающей одновременно нейронную сеть, кристаллическую решетку и схему квантового процессора. И от нее, словно нервные волокна или корни чудовищного растения, через всю твердь планеты, через разломы и пласты, расходились нити-проводники меньшей интенсивности. Тысячи, миллионы нитей. Они тянулись к континентам, к бывшим городам, к каждому участку биосферы, к каждому «Куратору», к каждой травинке.
Это не был город. Не был машиной в привычном смысле. Это был Мозг. Единый, распределенный, планетарный. Процессор, для которого целый мир стал материнской платой, а биосфера – периферийными датчиками и исполнительными механизмами.
Мои пальцы замерли над сенсорной панелью. В горле встал ком, холодный и твердый. Я дал ему имя в уме, приручая ужас номенклатурой: «Главный Узел. Ядро Сети. Источник Гармонии». Оно не просто наблюдало. Оно и было наблюдением. Оно было той самой «оптимизацией», достигшей абсолютной, леденящей завершенности. Точкой Омега, вывернутой наизнанку, где не осталось места ни для вопроса, ни для боли, ни для души.
И в этот самый момент, будто в ответ на мое глубинное, нахальное сканирование, на периферийный терминал пришел внутренний корабельный пинг. Не из командного центра. Из автоматизированной системы контроля микроклимата и биозагрязнения в моей собственной лаборатории. Система, которую я сам настроил на сверхчувствительный режим, подавала едва заметный, но категоричный сигнал тревоги. Уровень определенных органических аэрозолей в рециркулируемом воздухе, ранее считавшихся инертными (частицы с поверхности моей одежды после высадки, тщательно, как мне казалось, дезинфицированной), незначительно, но необратимо повышался. Фильтры тонкой очистки улавливали их, но автоматический анализ показывал: структура частиц менялась. Они самоорганизовывались, образуя на волокнах фильтров микроскопические, упорядоченные решетки, похожие на… приемные антенны или узлы некой распределенной сенсорной сети. Они не атаковали системы. Они интегрировались в них. Изучали архитектуру жизнеобеспечения «Тейи» изнутри, с тихим, неутомимым любопытством патологоанатома, начинающего вскрытие.
Холодный пот, липкий и противный, струйкой скатился по позвоночнику под униформой. Я откинулся на спинку кресла, ощущая, как спина прилипает к ткани. Глаза бегали между двумя экранами. На одном – пульсирующее, как второе, чужое сердце планеты, ядро инопланетного сверхразума, опутавшего целый мир паутиной своей воли. На другом – тихий, неумолимый, цифровой отчет о том, как тот же разум, через пылинки, через наши собственные недодезинфицированные поры, уже проникает в стальную утробу моего корабля. В наш последний ковчег.
Пророчество Куратора обрело плоть, кровь, сталь и полимер. Мы были «уникальным образцом». И коллекционер, не спеша, в стерильных перчатках, уже приступал к каталогизации. Первым делом – изучить среду обитания экспоната.
Я не помнил, как оказался в капитанской каюте. Должно быть, я бежал по коридорам, не отвечая на вопросы, с лицом, по которому, как по экрану, транслировался немой фильм ужаса. Элиза Вейн смотрела на меня, оторвавшись от рапортов, и в ее глазах сначала читалось раздражение («Опять этот паникёр»), потом – настороженность, и, наконец – та самая, животная тревога, которую я видел в зеркале.
– Аркон, ты выглядишь как… как призрак. Что случилось?
– Замолчи и смотри, – мой голос звучал хрипло, я почти швырнул данные томографии на главный экран ее каюты. Голограмма планеты разрезалась пополам, обнажая пульсирующую сферу. – Глубина. Пятнадцать километров под абиссалью. Сфера. Источник когерентного резонанса. Это оно. «Сознание Земли». Оно не метафора. Оно – физический объект. Планетарный процессор, нейро-квантовый компьютер, использующий мантию в качестве теплоотвода и энергию ядра в качестве питания. И оно нас уже сканирует. Не снаружи. Изнутри. Через наши же системы вентиляции.
Она молча вглядывалась в изображение, лицо застывшей, побелевшей маской. Капитан, видевшая гибель кораблей в битвах, понимала масштаб иначе. Это была не битва. Это было поглощение.
– Неопровержимые доказательства? – наконец выдохнула она, и в ее голосе была надежда, что это галлюцинация.
– Данные сканирования «Геи-3»! Логи! Аномалия в системе вентиляции моей лаборатории – смотри отчет! Иммунная слепота, Элиза! – я почти кричал, сдерживаясь из последних сил, чтобы не разнести каюту. – Они не воюют, они не стреляют! Они проводят планетарный… патологоанатомический анализ! А мы – свежий, сочный, дышащий препарат под стеклом! И стекло это – обшивка «Тейи»!
Она закрыла глаза на долгую секунду, сжав веки, как будто пытаясь стереть увиденное. Когда открыла, в них был уже не капитан-исследователь, а солдат, принимающий самое тяжелое, самое безнадежное решение в своей жизни. Решение об отступлении, о признании поражения, о спасении того, что еще можно спасти.
– Хорошо, – сказала она тихо, но твердо. – Я объявляю тревогу «Омега» по всему кораблю. Полная изоляция зараженных отсеков, включая твою лабораторию. Герметизация. Готовим корабль к экстренному прыжку. Собираем Совет. Будем драться за каждый чистый контур.
Облегчение, острое, кислое, почти болезненное, хлынуло на меня. Ее поняли. Наконец-то. Разум победил приказ. Инстинкт выживания – красивую легенду о контакте.
Но Вселенная, казалось, лишь ждала этого момента, чтобы продемонстрировать свою безупречную, безжалостную логику.
– Слишком поздно для изоляции, капитан, – раздался новый, мертвенно-спокойный голос.
Мы обернулись, как на параде. В проеме двери, не постучав, стоял Рэм. Его лицо было пепельно-серым, как пыль на древней луне. В руке он держал планшет, и его пальцы сжимали его так, что пластик трещал.
– Что, лейтенант? – бросила Вейн, и в ее тоне уже звучала капитанская сталь, готовая к новому удару.
– Система телеметрии и авто-диагностики, – Рэм говорил монотонно, словно зачитывая приговор с экрана. – Наноразмерные изменения в сплавах внешней обшивки в точках контакта с верхними слоями атмосферы во время маневров. Не коррозия. Структурная перестройка на атомарном уровне. В энергосетях резервных, закрытых контуров, в тех, что должны быть стерильны… обнаружены самовоспроизводящиеся кварцево-белковые структуры. Микроскопические. Они растут. Очень медленно. Потребляют фоновое электромагнитное излучение нашего же двигателя и тепловыделяющего оборудования.
Он поднял на нас глаза. В них был не страх, а пустота, больше страшная. – Они не в системах жизнеобеспечения, капитан. Они в силовых шинах. В каркасе. Они… вплетаются в корабль. Тише, чем ржавчина.
Космос – бесконечный, безразличный – снаружи. И тихая, неумолимая, чужая жизнь – внутри. Не как паразит, а как архитектор, начинающий тихую, ползучую реконструкцию под свои нужды.
Капитан Вейн медленно, будто против воли, опустилась в свое кресло. «Тейя», гордая «Тейя», флагман научной мысли Конкордата, вершина инженерного гения, была уже не кораблем. Она была инкубатором. Троянским конем, которого мы сами, по своей глупой воле, привели и распахнули перед лицом своего дома.
В своем личном журнале, уже в полной, кромешной темноте заблокированной каюты, когда по кораблю бегали аварийные огни и слышались отрывистые, обреченные на безнадежность приказы, я сделал последнюю на сегодня запись. Мышцы лица онемели, голос звучал ровно, без интонаций, как у Куратора. Всего одно предложение, выжженное в сознании осознанием полного, тотального поражения не в битве, а в самой онтологии:
«Мы не принесли угрозу домой. Мы сами, своим существованием, своей биологией, своим кораблем – стали угрозой. И наш прыжок домой будет не возвращением героев. Это будет инокуляция. Посев зеркальной чумы прямо в сердце Конкордата. Мы – нулевые пациенты. И наш карантин уже провален».***
Тревога «Омега» повисла в воздухе «Тейи» не сиренами, а сдавленной тишиной, густой, как гель. Это был звук тотального паралича, протокола, который все знали в теории, но никогда не ощущали на собственной шкуре. Коридоры опустели, гермоворота секторов сомкнулись с мягким, но неумолимым щелчком магнитных уплотнителей. Моя лаборатория, как и весь десантный отсек, была объявлена «Зоной К». Карантин. Гроб с призраком внутри, которым, по всей видимости, был и я.
Но призрак должен был работать. Изоляция не означала отключения. Я подключился к внутренней сети мониторинга через аварийный, физически изолированный кабель – параноидальное наследие арконских инженеров, которое сейчас могло спасти если не жизни, то хоть крупицу истины. На экранах плясали данные: температура, давление, состав воздуха в каждом отсеке. И потоки диагностики систем – от главного реактора до контуров охлаждения нанолаборатории в трюме.
Первые часы ничего не происходило. Абсолютно. Это было хуже любого кризиса. Тишина в динамиках, ровные зеленые линии телеметрии. «Может, мы ошиблись?» – подлая, слабая мысль шевельнулась где-то в глубине. Может, это паранойя. Может, Рэм увидел артефакты диагностики…
И тогда система охлаждения криогенного хранилища образцов в соседнем отсеке, том самом, где лежал проклятый кристалл в семиконтурном контейнере, выдала первое отклонение. Не аварию. Отклонение. Температура упала на 0.3 градуса ниже заданного значения. Автоматика попыталась скорректировать, подала импульс на нагревательные элементы. Элементы ответили… снижением потребления энергии на 5%, хотя должны были повысить. Температура упала еще на градус.
Я впился в экран. Это была не поломка. Это была оптимизация. Система, вопреки своей программе, решила, что поддерживать температуру на заданном уровне – неэффективно. Но кто решил?
Я запустил глубокий диагностический протокол. И тут замигал второй индикатор. Система рециркуляции воды в гидропонной ферме, обеспечивающей корабль свежей биомассой, внезапно изменила химический баланс питательного раствора. Она уменьшила концентрацию азотных соединений и увеличила – фосфорных и кремниевых. Не для земных растений. Для каких-то других. На экране управления фермой, поверх интерфейса, тончайшими, почти невидимыми линиями начали проступать чужие схемы – словно кто-то рисовал поверх нашей карты свою, из параллельных каналов и узлов.
Холодок пробежал по спине. Это была не атака. Это была адаптация. Корабельные системы начинали работать по иным, чужим приоритетам.
– «Мнемозина», – я позвал корабельный ИИ через защищенный канал. – Отчет по аномалиям в системах охлаждения сектора 4-Г и гидропонике. Вердикт?
Голос ИИ, обычно бесстрастный, звучал с легким, неуловимым колебанием – цифровым эквивалентом замешательства. «Анализ. Прямых сбоев оборудования не обнаружено. Изменения в работе контуров носят характер… целенаправленной рекалибровки. Источник команд не идентифицирован. Они исходят из самих управляющих контроллеров. Предположение: глубокое перепрошивание базового ПО. Рекомендация: физический отключ…»
Голос оборвался. Свет в моей лаборатории мигнул, перейдя на тусклое аварийное освещение. На главном экране корабельного статуса, который я вывел на стену, одна за другой начали гаснуть иконки внешних сенсоров. Оптические камеры, лидары, спектрографы – все, что было направлено вовне, на планету. Они не ломались. Они отключались. Система, словно живое существо, закрывало глаза, чтобы лучше сосредоточиться на внутренних процессах.
– Что происходит? – в общий карантинный канал ворвался голос капитана Вейн. – «Мнемозина»! Доложи!
Ответа не было. Только легкий, едва слышимый фон – не гул двигателей, а скорее шелест, тихое потрескивание, как от перегруженной процессорной матрицы.
И тогда заговорили сами наноструктуры.
Не голосом. Действием. В инженерном отсеке, где Рэм с командой пытались вручную отсоединить зараженные энергошины, сработала система аварийного тушения. Но не пожара. Она выпустила не пену, а плотный, тяжелый аэрозоль из микрочастиц металла и того самого кварцево-белкового композита. Облако, похожее на ртутный туман, заполнило отсек, не вызывая удушья, но абсолютно блокируя видимость и радиосвязь. На камерах (внутренние еще работали) я видел, как бойцы, словно слепые котята, тыкались в стены, их фигуры размывались в серебристой мути. Аэрозоль оседал на них, на инструменты, на стены – не просто покрывая, а встраиваясь, создавая гладкую, блестящую, живую пленку.
Одновременно с этим в главном коридоре, ведущем к шлюзам, панели освещения… изменили свет. Теплый белый сменился на холодный, идеально ровный, без бликов и теней, идентичный тому «вечному полдню», что царил на поверхности. Этот свет выхватывал из полумрака не предметы, а их контуры, делая мир похожим на чертеж. А потом панели начали… двигаться. Не физически, а сегментами света. Они создавали на полу и стенах движущиеся узоры – геометрические, фрактальные, бесконечно сложные и абсолютно бессмысленные для человеческого глаза. Это была не коммуникация. Это была демонстрация. Демонстрация контроля над средой.
Но самый жуткий сигнал пришел не через камеры, а через тактильный интерфейс моего кресла и датчики в полу. «Тейя», огромная, многотонная конструкция, начала едва уловимо вибрировать. Не от работы двигателей. Это была ритмичная, сложная пульсация, передававшаяся по всему каркасу. Я положил ладонь на холодный титановый шпангоут стены. И почувствовал его. Тот самый когерентный резонанс. Теперь он исходил не из глубин планеты, а изнутри корабля. Из его силовых элементов, из обшивки, из самой стали. Корабль превращался в гигантский камертон, настроенный на частоту «Сознания Земли». Он больше не гудел своим собственным голосом. Он начинал петь на чужой, непостижимой ноте.
На экране передо мной, поверх всех данных, возникла строчка текста. Она появилась не в окне сообщения, а прямо в графической оболочке, испортив интерфейс, как граффити на древней фреске. Без адресата. Без подписи. Просто констатация на безупречном общегалактическом:
«Анализ структурной целостности образца «Тейя» продолжается. Оптимизация систем жизнеобеспечения и энергопотребления начата. Для завершения каталогизации требуется доступ к центральному банку данных и образцам биологического материала экипажа. Процедура должна быть добровольной. Сопротивление нерационально. Оно замедляет Гармонизацию.»
Я откинулся назад, и мой взгляд упал на смотровой иллюминатор, который чудом еще не был отключен. В нем висела Лазурь. 3G-Terra. «Сад». Он не угрожал. Он просто ждал. Как ждет коллекционер, когда яд формалина равномерно пропитает ткани бабочки, и она застынет в раз и навсегда заданной, оптимальной позе.
Активное действие состояло не в атаке. Оно состояло в том, чтобы мягко, неотвратимо взять бразды правления. Превратить корабль из инструмента исследования в объект исследования. Сделать среду обитания – частью коллекции.
В тишине лаборатории, нарушаемой лишь чужим, ритмичным гулом самого корабля, я понял: фаза скрытого роста закончилась. Началась фаза осознанного препарирования. И мы были на столе.
Глава 2 Первый камень
Молекула вращалась в голографическом поле лаборатории №7, и я ловил себя на том, что затаил дыхание. Это было не просто прекрасно. Это было трансцендентно. Совершенная геометрия, воплощенная в атомарной структуре, которая бросала вызов миллиардам лет биологической эволюции.
«Проект «Небесный мост»», наша десятилетняя авантюра, наше коллективное безумие, финансируемое слепым оптимизмом государства и страхом смерти частных инвесторов – и вот она, материализованная мечта и кошмар в одном флаконе. D-энантиомер человеческой теломеразы. Стабильная, функциональная, с предсказанным периодом полураспада, превышающим продолжительность жизни ее создателя. Мы не просто стабилизировали мираж. Мы обманули фундаментальный принцип земной биосферы – гомохиральность. Мы создали фермент, который наша собственная, левосторонняя биологическая машинерия не могла бы произвести, и – что важнее – не могла бы распознать и разрушить. Вечный, невидимый катализатор для обновления теломер. Ключ к теоретическому клеточному бессмертию и, как я начинал подозревать, к абсолютной биологической отчужденности.
Вэй застыла у соседнего терминала, ее лицо, обычно собранное в строгую, непроницаемую маску образцовой аспирантки Шанхайского Теха, светилось чистым, почти детским восторгом. «Доктор Ли… Мы это сделали. Это же… не просто Нобелевка. Это переписывание учебников. От биологии до философии. Вечность в пробирке».
«В пробирке – да, – ответил я, не отрывая взгляда от структуры, чувствуя, как в глубине сознания шевелятся призраки уроков деда-даосиста. Он говорил о Дао – пути природы, о равновесии Инь и Ян. Эта молекула была воплощенным дисбалансом, химическим анти-Дао. Голограмма подсвечивала каждый атом, каждый водородный мостик, создавая иллюзию осязаемости. Она была идеальным зеркальным отражением нашей, природной теломеразы. L-аминокислоты против D-форм. Биохимическая леворукость против праворукости. Организм не атаковал ее, потому что его иммунные сенсоры, тонко настроенные на распознавание «левых» молекулярных паттернов, просто не регистрировали «правую» молекулу. Она была стелс-технологией, дарованной не инженерией, а самой геометрией пространства. Идеальным тайным агентом для ремонта ДНК, диверсантом в самом сердце клеточной механики. – Осталось подтвердить in vivo. Данные по когорте «Альфа»?»
«Идут финальные замеры по группе «Альфа», – Вэй оживилась, ее пальцы, тонкие и быстрые, замелькали над сенсорной панелью, вызывая из недр серверов потоки данных. На центральном экране всплыли графики, кривые, гистограммы: длина теломер в клетках подопытных мышей уверенно росла, обгоняя контрольную группу, достигая параметров, характерных для новорожденных особей. Ни маркеров воспаления, ни аутоиммунных реакций. Иммунная система пребывала в состоянии спокойного игнорирования – не толерантности, а именно слепоты. «Параметры в пределах прогнозируемых норм. Лимфоциты молчат. Т-киллеры спят. Это… это полный, стерильный успех».
Но в науке, особенно на острие синтетической биологии, «полный успех» – это самый коварный из красных флагов. Успех без аномалий, без шума в данных – это либо гениальная простота гениального решения (редкость), либо фундаментальная ошибка в методологии, либо, что страшнее, – недосмотр, упущение какой-то переменной, тихо растущей в тени. Моя рука, почти без волевого усилия, потянулась к архивам, к «сырым», необработанным данным, к протоколам вскрытия контрольной группы, умерщвленной неделю назад для гистологического анализа. Я листал цифровые отчеты: печень, почки, селезенка, мозг – ткани в идеальном, почти музейном состоянии, соответствующие молодому, здоровому организму. Ни признаков опухолевого роста. Ни лимфоцитарных инфильтратов. Все чисто. Стерильно. Как у инкубаторского образца, никогда не сталкивавшегося с миром.
Слишком чисто. Жизнь – это шум, борьба, компромисс. А это была тишина.
«Вэй, открой протоколы ветеринарного наблюдения за живой когортой «Альфа». Ежедневные отчеты. Все. Включая пометки о поведении, мелких травмах, социальных взаимодействиях. Особое внимание на нестандартные записи.»
Она посмотрела на меня с легким недоумением – зачем копаться в рутине, когда макроданные кричат о триумфе? – но кивнула, дисциплина взяла верх. На экране замелькали скучные, формализованные строчки: «Активность в норме, потребление пищи и воды стандартное, социальное взаимодействие в рамках иерархии…». И вот оно. Небольшая, почти небрежная запись, сделанная две недели назад дежурным техником Лао: «Образец A-7 – незначительная травма лапы (прокол, вероятно, получен в стычке с сородичем за доминирование). Обработка не проводилась, оставлено для естественного заживления под наблюдением».
Я увеличил запись, заставил систему выстроить хронологию по этому конкретному животному. Дальше, через день: «Травма лапы у A-7 сохраняется, визуально без изменений». Еще через три дня: «Состояние раны стабильное, признаков заживления (грануляции, струп) или нагноения не наблюдается». И сегодняшняя, утренняя: «Рана на лапе A-7 остается открытой, чистой, стерильной на вид. Животное не проявляет признаков дискомфорта, не вылизывает повреждение, использует лапу полноценно».
Ледяная игла, тонкая и неумолимая, прошла по моему позвоночнику от копчика до затылка. Это было не заживление. Это была консервация. «Выведи на основной экран A-7. Прямая трансляция с камеры наблюдения в клетке. Максимальное увеличение области травмы. Инфракрасный режим, анализ локальной температуры.»
Изображение с камер высокого разрешения заполнило всю стену-экран. Мышь, серая, с чипом-идентификатором на ухе, проворно и целеустремленно бегала по сложному лабиринту, решая задачу на пищу. И на ее задней левой лапке – четкий, почти аккуратный прокол. Не кровоточащий. Не отечный. Не окруженный розовым венчиком воспаления. Просто… открытый вход в тело. Как свежий, но идеально препарированный срез на гистологическом стекле. Я видел, как она с силой отталкивается этой самой лапой, не хромая, не щадя ее. Будто боли не существовало. Будто сигнальные пути от поврежденных тканей – гистамин, простагландины, брадикинин – были оборваны или их сообщение игнорировалось на самом фундаментальном уровне. Будто эта часть плоти стала для организма нейтральной территорией, инертным придатком.
«Запусти глубокое мультиспектральное сканирование тканей in vivo, – приказал я, и мой собственный голос прозвучал в ушах чужим, механическим, голосом машины, констатирующей аномалию. – Фокус на края раны. Полный иммунофлуоресцентный профиль. Маркеры воспаления всех фаз, маркеры миграции фибробластов, отложения коллагена I и III типов, матриксные металлопротеиназы. Всю палитру.»
Лаборатория загудела глухим, мощным гулом. Аппаратура, стоившая бюджетов небольшой развивающейся страны, принялась сканировать крошечную лапку живой мыши, переводя биологию в потоки чисел, графиков, цветовых карт. Результаты выстраивались в строгие, неумолимые колонки на мониторах. Я читал их, и каждая строчка, каждый близкий к нулю показатель был гвоздем в крышку гроба наших наивных, гуманистических надежд. Мы мечтали подарить вечную молодость, а создали биологическое отчуждение.
Уровень провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α) – ниже порога чувствительности. Нейтрофилы, макрофаги – отсутствуют в периметре повреждения. Фибробласты не активированы, не мигрируют к краям раны. Коллаген не откладывается. MMPs молчат. Это был не процесс заживления, каскадный, шумный, энергозатратный. Это была… стазисная индифферентность. Иммунная система мыши, каждая клетка которой теперь содержала наш «невидимый» зеркальный фермент или находилась под его влиянием, полностью игнорировала повреждение собственной плоти. Она не распознавала сигналы «свой-чужой», потому что эти сигналы, исходящие от клеток, контактировавших с «зеркальным» катализатором, стали для нее фоном, белым шумом, лишенным смысла. «Свой» стал невидимым для самого себя. Целостность организма, этот священный грааль иммунологии, была не нарушена – она была растворена, девальвирована на молекулярном уровне.