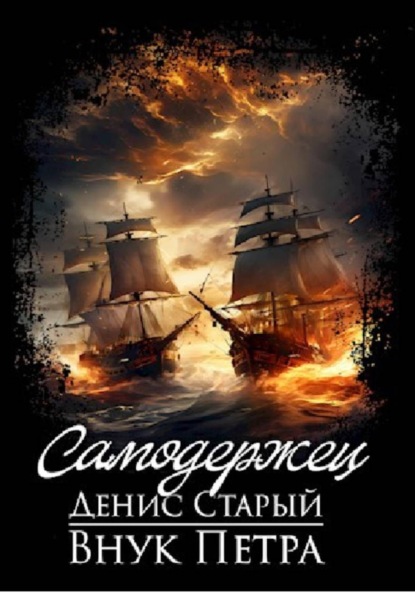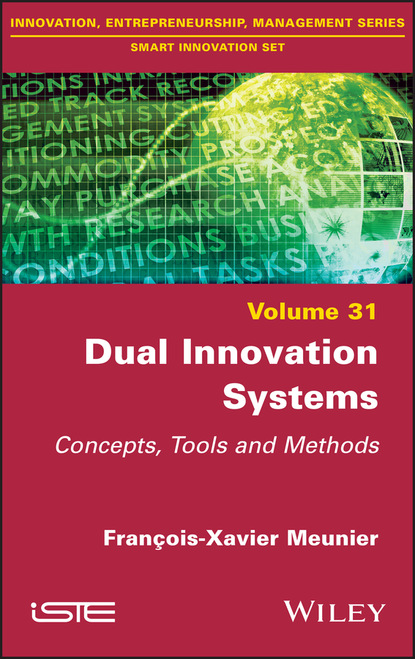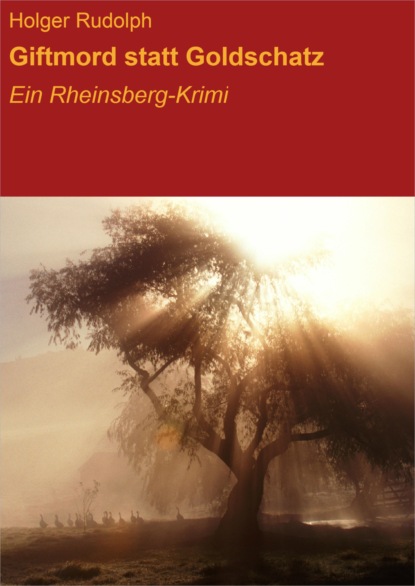Внук Петра. Император

- -
- 100%
- +

Пролог
Петербург
6 часов после покушения. Больница Тайной канцелярии
– Что с ним? – услышал я голос сквозь туман.
– Пока говорить рано, – ответил знакомый голос.
– Иван Антонович, вы осознаете, насколько важны любые сведения о самочувствии императора? – спросил Шешковский.
– Понимаю и осознаю то, что ваша работа требует подобных знаний, но попрошу вас, Степан Иванович, не давить на меня и не влезать в мою епархию. Не смею даже представить те обстоятельства, при которых я бы посмел лезть в дела Тайной канцелярии. Могу сказать одно, что еще буквально чуть-чуть в сторону, и пуля не оставила бы шансов российскому монарху, – сказал Кашин, закрывая свою кожаную медицинскую сумку.
Сильной боли я не чувствовал. Присутствовало некое помутнение сознания и легкость в голове. Подобное состояние мне было знакомо. Похожим образом действовали сильные обезболивающие, которые мне давали еще в той, прошлой жизни. Глаза не открывались, но даже помутненным разумом я отчетливо понял, что я имею шансы стать первым в числе великих одноглазых России. Кутузов – еще желторотый юнец, Потемкин – не «отхватил» кием по глазу от Орловых. Так что – вот он, я – одноглазый император. И, слава Богу, что живой!
– Что с ней? – прохрипел я, и в помещении установилась…
Подумал о «гробовой» тишине, но смог прогнать дурные мысли и ассоциации. За последние несколько дней я потерял слишком много людей, чтобы использовать аллегории, связанные со смертью.
– Ваше Императорское Величество? – в унисон сказали Кашин и Шешковский.
– Э-э-э… Коли Вы имели в виду Екатерину Алексеевну, то она жива и почти здравствует. Пуля задела плечо, и я собирался пользовать ее чуть позже. Пока вашей… женой занимаются иные медикусы, – сказал Кашин и вновь раскрыл свою медицинскую сумку.
Вновь потерял сознание я тогда, когда Иван Антонович достал лупу и стал рассматривать мой искалеченный глаз. В следующее мое пробуждение в палате находился только Шешковский.
– Ваше величество, Кашин сказал, что вы можете проснуться в течение часа, – сказал он и пристально посмотрел на меня.
Я смог открыть свой глаз. Да, единственный, правый глаз, ибо в левом была чернота. Уж не знаю, так должно быть на самом деле или же это фантомные ощущения, но факт остается фактом – я стал одноглазым. Горевать мне по этому поводу? Вопрос. Можно поплакать, погоревать, напиться, как только смогу это делать. А можно иначе – порадоваться тому, что я стал еще более брутальным мужиком. Ведь во всем нужно искать позитив. Как там, у одного француза: «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне придется заплакать» [Высказывание Пьера Агюстена Бомарше].
– Кто меня прикрыл? И что с ним? – спросил я, и мне не понравилась та пауза, которую выдерживал Шешковский.
– Игнатий, – угрюмо ответил глава Тайной канцелярии.
Теперь установилась более длительная пауза. Мне было искренне жаль потерять этого человека, которого в будущем планировал сделать атаманом, да хоть бы и Донского казачьего войска. Да, не в этом-то суть, он был другом, тем одним из немногих, с кем я мог быть почти самим собой. Жаль этого человека. Но, пусть это звучит цинично и кощунственно, где-то и зловеще, но я устал оплакивать умерших. Когда вокруг так часто умирают близкие люди, да те же казаки, которые в Ропше, не задумываясь, прикрывали мое тело, чтобы только не выпустить меня под прямой выстрел разбойников Марфы. Они тоже были дороги.
– Где дети?
– В Петропавловской крепости, Ваше Величество. Я посчитал, что в условиях неопределенности Вашего самочувствия могли бы стать жертвой каких-либо планов заговорщиков, – сказал Шешковский, чуть опустив голову, видимо, чувствуя вину за свою инициативу.
То, что дети в безопасности, меня радовало. Их не было на церемонии погребения, по крайней мере, простившись в Зимнем дворце со своей бабушкой, дети были увлечены мамками. Идти по промозглым морозным улицам для еще неокрепших Павла и Аннушки я посчитал ненужным риском.
– Сколько я пробыл в небытие?
– 16 часов, но Вы четырежды приходили в себя, – ответил Шешковский.
Я помню только один раз, когда я осознанно спросил о самочувствии Екатерины. Очень надеюсь, что не случился тот обличающий меня бред, в котором я мог наговорить много лишнего про себя. Но бред он на то и есть бред, чтобы можно было прикрыться отсутствием осознания и снять ответственность за свои слова.
Зацепилось в голове слово «заговорщики».
– Так что, Степан Иванович, заговорщики объявились? – спросил я, ощущая нарастающую боль в ноге, которая пульсировала и в области левого глаза. Но пока это было терпимо.
– Я бы не сказал, что заговор уже выстраивается, но в последние часы зачастили посыльные с донесениями о Разумовских, а в Зимнем дворце заступили в караул семеновцы, которые и не так, чтобы поголовно, лояльные вам. После того, как вас отослали в Царское село, там сменились командующие, некоторые из которых были так или иначе были связаны с Шуваловыми и Разумовскими, – сказал Шешковский.
– Неужели Алексей Григорьевич решился отодвинуть рюмку и показать свой буйный нрав? – спросил я.
– Не думаю, Ваше величество. На мой взгляд, корнями еще не заговор, но уже некие подвижки, уходят к Григорию Теплову, – сказал Степан Иванович.
– А ты его еще не прихватил? – перешел я на «ты», зашипев от боли, которая все больше нарастала.
– Нет, там скрывается все больше и больше интересных мизансцен, – ответил глава Тайной канцелярии.
Хотел я спросить у Шешковского, не наслаждается ли он подробностями всего того разврата, который учиняется в доме Теплова, и в котором периодически участвует Кирилл Разумовский. Это гнездо содомии слишком засветилось и начинает все больше иметь влияние на общество. Уже засвечены и некоторые молодые сынки весьма состоятельных и весомых родителей в России. Я хотел это явление использовать, как одно из многих для своего становления. Ведь можно прижать и Теплова, и обнародовать данные по Кириллу Разумовскому, тем самым бросив тень на формирующуюся силу, что могла бы стать оппозиционной мне.
– Насколько ты можешь запугать и привести к покорности Теплова? – спросил я и увидел, как Шешковский задумался. – Степан Иванович, ты же знаешь, что у Григория Теплова и Кирилла Разумовского периодически существуют неестественные связи. Вместе с тем именно Теплов и является указующим перстом для младшего Разумовского.
– Ваше величество, сие мне известно, но действовать я собирался после церемонии погребения, – ответил Шешковский.
Я еще до конца не знал, как воспользуюсь той информацией, что была собрана на петербуржских содомитах. В России существовал закон о смертной казни по случаю садомии в войсках, но какого-либо закона для гражданских не было, кроме порицания и болезненного восприятия подобных фактов обществом.
– Степан Иванович, а что знает о моем самочувствии двор? – спросил я, осененный вдруг пришедшей идеей.
– Вас посещали князь Трубецкой, граф Алексей Григорьевич Разумовский, приходил Голицын. – ответил Шешковский.
– Разочаровываешь, Степан Иванович, – сквозь боль я пытался улыбнуться, но получался какой-то оскал, когда тон мой мог показаться Шешковскому не столько шутливым, сколько жестким и агрессивным.
– Простите, Ваше императорское величество, – новоиспеченный граф стал по стойке смирно.
– Полно те, Степан Иваныч, мне тут в голову пришла завиральная идея. А не посмотреть ли нам, как голуби превращаются в коршунов? – сказал я и попытался посмотреть на своего безопасника. Не вышло. Боль скрутила, и по всему телу будто прошел разряд тока.
Несколько минут я не реагировал на вопросы о своем самочувствии, так как боль застилала и разум.
– Вы поняли, о чем я, – спросил я минут через пять, когда боль немного утихла.
– Думаю, да, Ваше величество. Я так понимаю, что все вокруг должны думать, что Вам очень плохо, – начал говорить Шешковский, но, посмотрев на меня, он продолжил. – Признаться, и я только что подумал о нехорошем.
– Хватит нам нехорошего, Степан Иванович. Многое страшное, что должно было случиться, уже произошло, – сказал я, готовясь к новому витку болезненных ощущений.
– Я понял вас, Ваше императорское величество. Все будут пребывать в уверенности, что вам все еще дурно, что можете и преставиться. А я прослежу за тем, кто именно и каким образом захочет воспользоваться положением, – сказал Шешковский, что-то помечая себе в блокнот.
– Работайте через Теплова, пусть либо сдаст Разумовских и подтолкнет Кирилла на совершение глупости. Постарайтесь сделать так, чтобы все выглядело правдоподобно и естественно. Можете даже приказать, чтобы не разбирали похоронные мизансцены, – сказал я, и вновь меня начал накрывать приступ боли. – И позови уже Кашина, пусть даст какой микстуры.
Глава 1
Петербург
27 февраля 1752 года
– Что с ним? – простонала Екатерина.
– Ваше Высочество! Вам не стоит волноваться, а-то разойдутся швы! – цинично, безэмоционально отвечал Иван Антонович Кашин.
Лейб-медикус Кашин всегда отключал эмоции, когда работал. Чувства мешают делу и никогда не способствуют улучшению качества работы. Он после один в укромном уголке порыдает, как это сделал после констатации смерти Иоанны Ивановны.
– Я настаиваю! – не унималась Екатерина Алексеевна.
Кашин ее не слушал. Да, и что-либо внятное сказать о самочувствии императора медикус не мог.
– Великая княгиня, я еще раз говорю Вам, что волноваться нельзя, у Вас ранение плеча, и рана достаточно глубокая, также Вы потеряли много крови. Нужно хорошо кушать, особенно гречневую кашу и говяжью печень. Еще немного сухого красного вина не помешает, – Кашин посмотрел на умоляющее лицо Екатерины Алексеевны. – Он жив, но в тяжелом состоянии.
Екатерина не стала больше расспрашивать медикуса. Ей нужен был иной источник информации, более разговорчивый.
Екатерина Алексеевна никак не могла для себя объяснить тот порыв, который побудил ее прикрыть собственным телом Петра Федоровича. Казалось, что логичнее было бы просто дать убийце сделать свое грязное дело. Тогда она, Великая княгиня, обязательно заняла бы трон Российской империи, о чем так сильно грезила в своих местах и что отчетливо представляла в своих снах. Но, нет – она бросилась и сейчас понимала, что сделала бы это еще раз.
Очень не хотелось в монастырь, и Катерина надеялась, что Петр передумает. Но больше всего женщина боялась потерять навсегда его, своего мужа. Сколько же они глупостей натворили?
– Может, просто сбежать? – прошептала Екатерина так, чтобы никто не мог ее подслушать.
Бежать от чего? От себя? Кто она такая, будь Катерина в Штеттине, или еще где-нибудь. Можно было податься к дядюшке Фридриху, но Екатерина Алексеевна испытывала отвращение к этому родственнику. Статьи, которыми разразилась русская пресса, вызывали чувство боли и патриотизма. Так красочно описываются события, на страницах издания столько драматизма и эмоций, что и образованная Катерина прониклась. Ей захотелось бежать в редакцию журнала «Россия», писать статьи, вторить общему патриотическому подъему, обосновывать необходимость мстить. Но… она уже не редактор этого журнала. И, вообще, вопрос о том, кто она сейчас, остро стоял в сознании Катерины.
– Спаси его! – прошептала Екатерина Алексеевна Кашину.
Иван Антонович резко поменялся в лице, и его глаза увлажнились. Он вспомнил мольбу императора, когда тот вот точно таким тоном просил спасти Иоанну Ивановну. Но, тогда спасти не удалось.
– Что с Вами? – заметила Екатерина резкое изменение настроения медикуса.
– Все хорошо, Ваше Высочество! – машинально ответил Кашин и отвернулся.
Он впервые обратился к жене императора соответственно титулу. Вот точно так же он уже был готов обратиться и к Иоанне, в которую был тайно влюблен. Кашин теперь всех женщин сравнивает с той, которая должна была жить, но никогда не могла быть его.
* ………* ………*
Петербург
27 февраля 1752 года
– Что Вы предлагаете? Это не уместно! Невозможно, это заговор и предательство! – возмущался Никита Юрьевич Трубецкой.
– А что можно еще предложить? Давайте спросим у императора, как быть! – ерничал Кирилл Разумовский.
– Но император Петр Федорович жив! – продолжал упорствовать вице-канцлер Трубецкой.
– Сперва спросите у медикусов, после утверждайте об этом! Только что в подобном состоянии была матушка императрица. Где она? Почила! Нам нужен тот, кто временно займет престол. И это мой брат Алексей Григорьевич Разумовский, законный супруг матушки императрицы Елизаветы Петровны, – в комнате, где проводились заседания Государственного Совета наступила гробовая тишина.
Никто из собравшихся не понимал, что вообще происходит. Это что – Лешка Разум заявляет свои права на престол?
Елизавету похоронили быстро. Слишком быстро. Все последующие мероприятия были отменены в связи с покушением на императора. Что произошло, и чем руководствовался любимчик императора серб Шевич, когда стрелял в Петра Федоровича? Никто не понимал. Уже просачивались слухи о том, что дочь генерал-поручика, так быстро взлетевшего в чинах, была убита. Кем? Никто не высказывался вслух, но все присутствующие были уверены, что именно император и мог быть причастным к убийству.
Последние слова Шевича, который кричал, что Петр Федорович убил его дочь, давали почву для мнений, что император именно тот, кто лишил жизни Иоанну. Почему? Тут общество во мнениях разделилось. Одни утверждают, что дочь генерала-поручика была любовницей императора, и тот узнал, что ребенок не от него. Другие утверждали, что сам Шевич сошел с ума и убил свою дочь, а потом сбежал из-под стражи. Были и иные версии, немало, многим больше, чем предположений, что же сейчас будет с российским престолом. Екатерину в роли регентши никто не хотел видеть, от нее открестились еще тогда, как невестка попала под гнев Елизаветы Петровны. У трона не осталось Шуваловых, не считать же Ивана Ивановича сильной фигурой. Разумовские ранее играли пусть и значительную роль, но все втихую, не выпячивая общественности свою значимость.
Однако, обыватели и двор недооценивали малоросских казаков. Не понимало общество, что Лешки Разума уже нет, но есть граф Алексей Григорьевич Разумовский с братом и серьезным влиянием при дворе. Особенно фигура тайного мужа бывшей государыни выходила на первый план после низложения Бестужева. Некогда всесильного графа Бестужева-Рюмина также не рассматривали в качестве кандидатуры в регенты.
Как только закрылся саркофаг, в который поместили тело Елизаветы Петровны, все члены Совета, кроме двоих: Голицына и Миниха, поспешили начать заседание. Иван Иванович Шувалов успел уже где-то изрядно выпить и, можно, сказать, присутствовал на Совете только своей телесной оболочкой, придремывая в уголку.
– Господа! – призвал собравшихся к порядку Кирилл Григорьевич Разумовский. – У нас преизрядное число проблем и абсолютно нет времени на то, чтобы спорить об уместности заявлений моего брата.
– Все эти проблемы, число которых, Вы, Кирилл Григорьевич, соизволили преувеличить, не могут решаться узким кругом! Простите, но способом, схожим с заговорщицким! – высказался Никита Юрьевич Трубецкой.
Кирилл и Алексей Разумовские непроизвольно посмотрели друг на друга. Оба понимали то, что Трубецкой сейчас только раздражитель. Было бы неплохо, чтобы он вообще затесался где-нибудь подальше. Но Государственный Совет и так собран меньше, чем наполовину от числа его членов. Выгнать князя Трубецкого означало бы стать теми самыми заговорщиками. Кирилл же, как более решительный, нежели его старший брат, хотел сделать видимость легитимности собрания. Для этого нужно было и присутствие Трубецкого. Тем более, что князь для всего общества представлялся, как несомненная креатура императора, и его изоляция резко убавила бы значимость всего собрания.
– Никита Юрьевич, Вы желаете коим образом оспорить сию бумагу? – спросил Алексей Григорьевич.
Старший Разумовский потряс свертком бумаги, с печатью и украшенным кисточкой с бриллиантами.
– Никак не могу спорить. И подпись почившей государыни среди прочих отличаю. Но, почему именно сейчас, сударь, Вы решили заявить о себе, как о законном супруге Елизаветы Петровны? И никак не соглашусь, что сие обстоятельство коим образом может иметь последствия. Императрица не пожелала обнародовать случившееся венчание, так отчего же нам, подданным ворошить память государыни?! – Трубецкой начал открыто возмущаться.
Кирилл Григорьевич был готов к тому, чтобы арестовать князя Трубецкого, который официально еще и не вступил в должность вице-канцлера, по крайней мере, об этом не было напечатано в газете. Вместе с тем, по одному из первых волеизъявлений нового императора, пока в газете не будет напечатан указ, либо выдержки из него, документ не имеет силы. Да, император подписал бумаги и о назначении Трубецкого и о низложении Воронцова, но эти документы видело ограниченное количество человек.
Открытым оставался вопрос и о канцлере Бестужеве. В отношении Алексея Петровича Бестужева-Рюмина было много ограничений, наложенных императором, но не было ни одной бумаги. Для Разумовского было понятно, почему так произошло и кто виновник недоработки по отстранению канцлера. Алексей Григорьевич, пусть и мало говорил и редко влезал в дела императорского двора, но там все всегда обо всем знают. И не было секретом, что это обер-прокурор Святейшего Синода Шаховский постарался отсрочить падение канцлера.
– Шешковский! – с досадой и некоторым раздражением произнес Кирилл Григорьевич Разумовский.
Он вспоминал об обер-прокуроре, но фамилии двух людей созвучны и младший брат мужа почившей императрицы зло сверкнул глазами. Имя «петровского пса» было у всех на слуху. Только за последние полгода службы Тайной канцелярии разрослись вдвое, может и больше. Роль Степана Ивановича становилась столь велика, что не учитывать Шешковского в раскладах, было бы ошибкой на грани преступления. Но, вот заполучить его в союзники… это уже больше половины успеха.
– Именно, господа, Степан Иванович такая фигура в любой шахматной партии, что не учитывать его нельзя! – злорадно заметил Трубецкой.
Никита Юрьевич скрипел от злости на то, что происходит. Несмотря на то, что князь Трубецкой с показной симпатией относился ко всем фаворитам почившей императрицы, он никогда не считал их ровней себе. Представитель древнейшего рода, в родстве с Рюриковичами, он, в конце концов, князь, что могло бы приравниваться в Западной Европе к титулу герцога. По крайней мере, так думал Трубецкой.
И вот эти пастухи сейчас решают, кому стать регентом, размахивая непонятной бумагой, которая, по мнению Трубецкого больше бросает тень на личность почившей императрицы, чем может быть неким доказательством прав Разумовского.
Кирилл переглянулся со своим братом, что-то прочитал в глазах родственника, вздохнул и, как будто на что-то решился, сказал:
– Никита Юрьевич, не соблаговолите ли немного отдохнуть? День ужасен своими потрясениями!
Трубецкой недоуменно посмотрел на Разумовских. Если сейчас князь уйдет, то все это собрание, и до того, выглядящее фарсом, превратится в элементарный заговор Разумовских против императорской власти. И что делать? Конечно же, уходить! Что бы ни произошло в дальнейшем, максимум, что грозит Никите Юрьевичу, это больше уделять внимания своим поместьям. Ну, а политика… а кто его выгонит из Сената? Он там и останется. Не станет же регент Разумовский распускать Правительствующий Сенат, иначе получит такой ответ, что будет завидовать ссылке Эрнста Бирона.
– Пожалуй, господа, я так и поступлю? День действительно был тяжким. Но, я бы хотел также посоветовать вам иметь благоразумие, – сказал Трубецкой и вышел из зала заседания Государственного Совета.
– Тарас! – резко выкрикнул гетман Запорожского войска Кирилл Григорьевич Разумовский.
– Сударь! – из соседней комнаты вышел вполне респектабельный господин, одетый по последней парижской моде.
Никто бы и не увидел в Тарасе Богдановиче лихого казака, которым он являлся еще пять лет назад. Теперь же исполняющий роль адъютанта, Тарас почти говорит по-французски, умеет бегло читать и писать. Шляхтич! Не дать, ни взять! Но Тарас благодарил Бога не за образование, достаток, за иное… что срамная компания, что рядом с Кириллом Разумовским и, в большей степени с Тепловым, не втягивает его, гордого казака в свои содомийские игрища.
– Сделай так, чтобы Трубецкой не выехал из Зимнего! – приказал Кирилл Григорьевич.
Казак в европейском платье поклонился и пошел исполнять приказ своего гетмана.
Когда Кирилл Григорьевич Разумовский был назначен императрицей гетманом Запорожского войска, некогда пугливый пастушок, первым делом стал создавать себе команду из лояльных представителей казачества. Эта работа осложнялась с тем, что Кирилл Григорьевич стремился чаще находиться в столице. Но, вместе с тем, три сотни казаков удалось и подобрать, и перевести поближе к Петербургу. Именно эти казаки некогда и сопровождали, тогда еще цесаревича, в ссылку в Царское Село.
– Это заговор, господа! Ик, – выпалил выпивший Шувалов и вновь оперся о цветастый кафель, которым была обложена печная труба.
Разумовские переглянулись.
– Действительно, брат, это похоже на заговор! – сказал Алексей.
– Ты пойми, что подобных этому, шансов фортуна более не даст. Ты – законный муж Елизаветы. Да, она императрица, но при прочих, ты же более иных имеешь прав стать регентом, даже Екатерина Алексеевна женщина-немка с разрушенной репутацией, – глаза Кирилла Григорьевича блестели.
– История Эрнста Бирона, когда он стал регентом при Иоанне Антоновиче и был низложен, тебя не учит? – спросил Алексей Григорьевич.
При всех страхах и опасении, Алексей Разумовский был и не прочь стать регентом при малолетнем Павле Петровиче. Граф понимал, что кто бы иной не занял эту вакантную должность, он поспешит избавиться от Разумовских. Хотелось бы отсидеться у себя в поместье, пить хмельное вино или даже абсент, мять в баньке девок, да иногда петь песни. Вот эта жизнь больше прельщала ранее тайного мужа Елизавета, нынче же законного супруга почившей императрицы.
Но такой жизни не будет, если кто иной придет к власти. Разумовские опасались, что император, как только будет коронован, избавится от братьев. По крайней мере, уже немного изучив характер Петра Федоровича, Разумовские были почти уверены, что предыдущего благосостояния они лишатся. Может и частью, но государь не позволит иметь столь много земли, крепостных душ и иного состояния.
Уже пущен слух о том, что Алексей Григорьевич признался в венчании с Елизаветой Петровной. Наверняка, двор обсуждает эту новость не меньше, чем самочувствие императора и даже более тех обстоятельств, которые предшествовали покушению на Петра Федоровича. Еще не понятно, перекрыла ли внимание общественности новость, о которой многие догадывались, но то, что любящим почесать языком об небо, прибавилось поводов для сплетен, факт.
Для многих было понятным, что такой информацией делятся только когда собираются ее использовать. Сложить все составляющие придворные смогли. Теперь многие при дворе с уверенностью говорят о том, что Разумовские собрались возвыситься. Но даже такой факт, как венчание с императрицей не ставил Разумовского в ранг того, кто мог бы единолично стать во главе государства до совершеннолетия Павла Петровича.
Если бы двор знал все обстоятельства проводимого Государственного Совета, то понял, что не Алексей Григорьевич готовится стать регентом при малолетнем Павле Петровиче, а Кирилл Григорьевич захотел стать братом регента сына все еще никак не умирающего императора.
Кирилл Разумовский оказывался более решительным, чем его брат. Уже тогда, как были уничтожены Шуваловы, Иван не в счет, Кирилл задумался о том, что место подле трона опустело. Естественно, гетман посчитал, что рядом с братом он может добраться до вершин власти и накопить большего количества серебра. Богатство Шуваловых застилало глаза многим.
Пастушок, который испугался солдат, присланных императрицей, чтобы забрать того в Петербург, теперь истинный вельможа. Он получил образование, такое, что никто в России не имел. Кирилл Григорьевич объездил, может и половину от всех университетов Европы. И там он не просто учился, но уже и спорил, предлагал свои решения, вызывал ученых на дискуссии. И теперь Кирилл Разум был убежден, что он нужен России, что он даст стране процветание. Шувалов открыл один университет? Разумовский откроет еще три, причем найдет и профессоров для преподавания в этих заведениях. Недаром же он столь много общался с учеными!
– Брат, мы просто не сдюжим! Нужны союзники! – все еще сомневался Разумовский. – И, кроме того, император все еще жив!