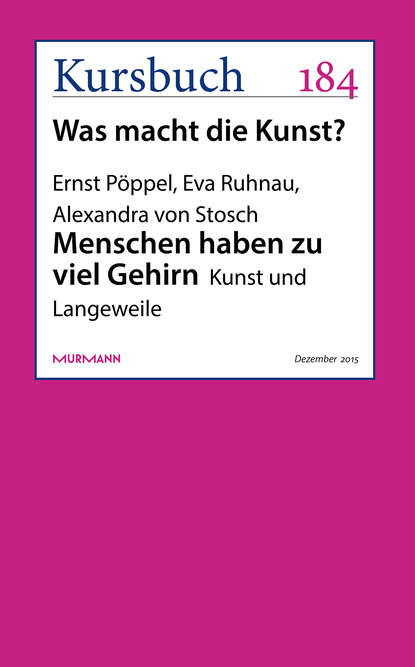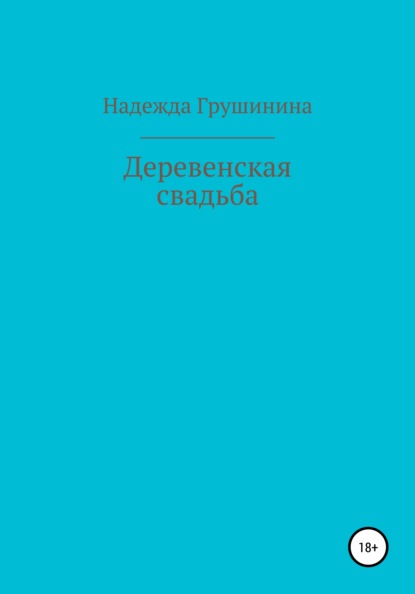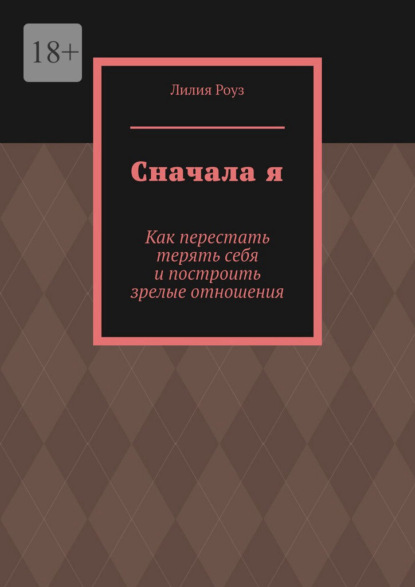- -
- 100%
- +
Им прислали быков, овец, цесарок, фрукты и люпины, а также копченый скомбри, тот превосходный скомбри, который Карфаген поставлял во все порты. Но они с презрением обходили великолепный скот и, пренебрегая тем, чего желали, предлагали голубя за барана или гранат за трех козлят. Пожиратели нечистот выступили в качестве арбитров и заявили, что их одурачили. Тогда они обнажили мечи, угрожая расправой. Комиссары Великого Совета записали количество лет, за которые каждому солдату полагалось жалованье. Но теперь уже невозможно было узнать, сколько наемников было нанято, и Древние были встревожены огромной суммой, которую им пришлось бы заплатить. Запасы сильфия должны быть проданы, а торговые города обложены налогами; наемники потеряют терпение; Тунис уже на их стороне; а богачи, ошеломленные яростью Ганнона и упреками его коллеги, призвали всех граждан, которые могли знать варвара, немедленно отправиться к нему, чтобы вернуть его дружбу и поговорить с ним начистоту. Такая демонстрация доверия успокоила бы их.
Торговцы, писцы, работники арсенала и целые семьи посещали варваров. Солдаты впустили всех карфагенян, но в один проход, такой узкий, что четверо мужчин в ряд толкались в нем. Спендий, стоя у барьера, приказал тщательно обыскать их; Мато, стоявший лицом к нему, разглядывал толпу, пытаясь узнать кого-нибудь, кого он мог видеть во дворце Саламбо. Лагерь был похож на город, настолько он был полон людей и движения. Две разные группы людей смешивались, не смешиваясь друг с другом: одни были одеты в льняную или шерстяную одежду, в войлочных шапочках, похожих на еловые шишки, а другие – в железных доспехах и шлемах. Среди слуг и бродячих торговцев двигались женщины всех национальностей, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как оливки, желтые, как апельсины, их продавали моряки, подбирали в притонах, крали из караванов, захватывали при разграблении городов, женщины, которые были пресыщены любовью, пока были живы. молодые, они подвергались ударам, когда состарились, и умирали в перестрелках на обочинах дорог среди багажа и брошенных вьючных животных.
На жёнах кочевников были квадратные рыжевато-коричневые одеяния из шерсти верблюда, ниспадающие до пят; музыканты из Киренаики, закутанные в фиолетовую марлю и с накрашенными бровями, пели, сидя на корточках на циновках; старые негритянки с отвисшими грудями собирали кизяк, который сушился на Солнце, чтобы разжечь костры; у сиракузянок в волосах были золотые пластины; у лузитанок – ожерелья из раковин; галлы носили волчьи шкуры на белой груди; и крепкие дети, покрытые паразитами, голые и необрезанные, бодались головами с прохожими или подкрадывались к ним сзади, как молодые тигры, чтобы кусать их руки. Карфагеняне прошлись по лагерю, удивляясь горам вещей, которыми он был завален. Самые несчастные пребывали в меланхолии, а остальные пытались скрыть своё беспокойство. Солдаты хлопали их по плечу и призывали веселиться. Как только они видели кого-нибудь, они приглашали его на свои забавы. Если бы развлекались метанием диска, то умудрялись раздробить ему ноги, а если занимались боксом, то тут же норовили сломать ему челюсть первым же ударом. Пращники наводили ужас на карфагенян своими пращами, псиллы – своими гадюками, а всадники – своими дикими скакунами, в то время как их жертвы, привыкшие к мирным занятиям, склоняли головы и пытались улыбаться всем этим безобразиям. Некоторые, чтобы показать себя храбрыми, блеяли, что хотели бы стать солдатами. Их ставили колоть дрова и ухаживать за мулами. На них надевали доспехи и, как бочки, с гоготаньем, катали по улицам лагеря. Затем, когда они уже собирались убегать, наемники с гротескными гримасами вырывали у себя волосы. Но многие по глупости или наивности наивно полагали, что все карфагеняне очень богаты, и ходили за ними по пятам, умоляя их чем-нибудь поедлиться. Они просили все, что им казалось ценным или красивым: кольцо, пояс, сандалии, бахрому от одежды, и когда разоренный карфагенянин восклицал:
«Но у меня ничего не осталось. Чего ты хочешь?»
Они отвечали: «Твою жену!»
Другие даже говорили, посмеиваясь: «Твою жизнь!»
Военные отчёты были переданы командирам, зачитаны солдатам и окончательно утверждены. Затем они потребовали палатки; они их получили. Затем полемархи Греции потребовали красивых доспехов, изготовленных в Карфагене. Большой Совет выделил денежную сумму на их закупку. Но те продолжили требовать – теперь справедливости, и всадники сделали вид, что республика должна возместить им ущерб за их лошадей; один потерял трёх при какой-то осаде, другой – пятерых во время такого-то марша, ещё один – потерял четырнадцать в пропастях. Им предложили жеребцов из Гекатомпилоса, но они предпочли деньги. Затем они потребовали, чтобы им заплатили деньгами (золотыми монетами, а не кожаными клочками) за всё причитающееся им годами зерно, причём по самой высокой цене, какую только можно было выручить за зерно во время войны; так что за меру муки они требовали в четыреста раз больше, чем раньше отдавали за мешок пшеницы. Такая наглость приводила власти в отчаяние, но, тем не менее, ей подчинялись. Затем делегаты от солдат и Великого Совета поклялись в возобновлении дружбы Гением Карфагена и богами варваров. Они обменялись извинениями и верительными грамотами с восточной демонстративностью и многословием. Затем солдаты потребовали, в качестве доказательства дружбы, наказать тех, кто увёл их от святынь Республики. Было заявлено, что их намерения не были правильно поняты, и они объяснились более определённо, заявив, что им нужна голова Ганнона. По нескольку раз в день они покидали свой лагерь и проходили вдоль подножия стен, выкрикивая требование, чтобы им бросили голову суффета, и расправляя свои подолы, чтобы получить её. Великий Совет, возможно, уступил бы, если бы не последнее требование, более возмутительное, чем все остальные: они потребовали в жены своим вождям девушек, выбранных из знатных семей. Эту идею выдвинул Спендий, и многие сочли её очень простой и осуществимой. Но предположение об их желании смешаться с пунической кровью вызвало негодование народа, и им было прямо сказано, что они больше ничего не получат. Тогда они воскликнули, что их обманули и что, если им не выплатят жалованье в течение трёх дней, они сами пойдут и заберут его силой в Карфагене.
Недобросовестность наемников была не такой уж абсолютной, как думали их враги. Гамилькар давал им экстравагантные обещания, правда, расплывчатые, но в то же время торжественные и постоянно повторяющиеся. Они, возможно, полагали, что, когда высадятся в Карфагене, город будет оставлен им, а сокровища разделены между ними; но когда они увидели, что жалованье им будет выплачиваться с трудом, разочарование затронуло их гордость не меньше, чем их жадность. Разве Дионисий, Пирр, Агафокл и полководцы Александра не были примерами удивительной удачи? Геракл, которого хананеи сравнивали с Солнцем, был идеалом, сиявшим на армейском горизонте. Они знали, что простые солдаты носили диадемы, а отголоски крушения империй навевали мечты галлам в их дубравах и эфиопам среди песков. Но была нация, всегда готовая проявить мужество.; и разбойник, изгнанный из своего племени, отцеубийца, скитавшийся по дорогам, совершивший святотатство, преследуемый богами, – все, кто умирал с голоду или в отчаянии, стремились добраться до порта, где карфагенский посредник вербовал солдат. Обычно республика выполняла свои обещания. На этот раз, однако, жадность этого народа привела его к опасному позору. Нумидийцы, ливийцы, вся Африка были готовы обрушиться на Карфаген. Только море было открыто для него, и там он встретился с римлянами; так что, подобно человеку, подвергшемуся нападению убийц, он чувствовал смерть повсюду вокруг себя. Было совершенно необходимо обратиться за помощью к Гиско, и варвары согласились на его приход.
Однажды утром они увидели, что цепи, ограждавшие гавань, спущены, и три плоскодонные лодки, проплывавшие по каналу Тэния, вошли в озеро. Гискон стоял на носу первой. Позади него возвышался огромный сундук, выше катафалка, украшенный кольцами, похожими на свисающие короны. Затем появился легион переводчиков, их волосы были причесаны, как у сфинксов, а на груди были вытатуированы попугаи. За ними последовали друзья и рабы, все безоружные, и в таком количестве, что они толкались плечами. Три длинные, опасно нагруженные баржи двинулись вперёд под крики толпы зевак. Как только Гискон сошёл на берег, к нему подбежали солдаты. Он приказал соорудить нечто вроде трибуны из рюкзаков и заявил, что не уйдёт, пока не заплатит им сполна. Раздался взрыв аплодисментов, и прошло много времени, прежде чем он смог заговорить снова. Затем он осудил зло, причиненное Республике и варварам; вина лежала на нескольких мятежниках, которые возмутили Карфаген своей жестокостью. Лучшим доказательством добрых намерений со стороны последнего было то, что именно он, извечный противник суффета Ганнона, был послан к ним глашатаем. Они не должны приписывать народу ни безрассудства, заключающегося в желании спровоцировать храбрых людей, ни неблагодарности, достаточной для того, чтобы не признать их заслуги; и Гискон начал платить солдатам, начав с ливийцев. Поскольку они заявили, что эти списки не соответствуют действительности, он эти списки отбросил. Они дефилировали перед ним в соответствии с национальностью, поднимая пальцы, чтобы показать количество лет службы, их по очереди помечали зеленой краской на левой руке; писцы опускали папирус в зияющий сундук, в то время как другие делали отверстия стилом на листе свинца. Ступая тяжко, как умудрённый бык, мимо прошёл человек.
– Иди сюда! – приказал суффет, уже подозревая ложь в грядущих словесах.
– Сколько лет ты прослужил?
– Двенадцать! – ответил ливиец. Гиско провел пальцами под подбородком, он знал, что под шлемом со временем образовывались две мозоли; они назывались рожковыми, а выражение «иметь рожки» использовалось для обозначения старого ветерана.
– Вор! – воскликнул суффет, – У тебя на шее должно быть то, чего у тебя нет!
И, сорвав с того тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточащими рубцами; это был чернорабочий из Гиппо-Зарита. Поднялся шум, и лжецу отрубили голову.
Как только наступила ночь, Спендий пошел, разбудил ливийцев и сказал им:
– Когда лигурийцам, грекам, балеарцам и итальянцам заплатят, они вернутся. Но что касается вас, то вы останетесь в Африке, разбросанные по своим племенам и без каких-либо средств защиты! Вот тогда Республика отомстит! Не доверяйте походам! Вы собираетесь верить всему, что здесь говорят? Оба суффета согласны, а этот навязывается вам! Вспомните остров костей и Ксантиппа, которого они отправили обратно в Спарту на гнилой галере!
– Что же нам делать дальше? – спросили они.»
– Поразмыслите сами! – сказал Спендий.
Два следующих дня были потрачены на то, чтобы расплатиться с жителями Магдалы, Лептиса и Гекатомпила; Спендий обошёл галлов. «Они откупаются от ливийцев, а затем уволят греков, балеарцев, азиатов и всех остальных! Но вы, которых немного, ничего не получите! Вы больше не увидите своих родных земель! У вас не будет кораблей, и они убьют вас, чтобы отнять вашу еду!»
Галлы пришли к суффету. Автарит, которого он ранил во дворце Гамилькара, задавал ему вопросы, но был выкинут рабами и скрылся, поклявшись, что отомстит. Требования и жалобы множились. Самые упрямые проникали ночью в палатку суффета; они хватали его за руки и пытались растрогать, заставляя смотреть в свои слезящиеся глаза, ощупывать свои беззубые рты, исхудавшие руки и шрамы от ран. Те, кому ещё не заплатили, начинали злиться, те, кто уже получил деньги, требовали больше за своих лошадей, а бродяги и преступники, объявленные вне закона, надевали солдатское оружие и заявляли, что о них совсем забыли. Каждую минуту налетали, так сказать, вихри людей; палатки трепыхались и падали; толпа, плотно зажатая между крепостными стенами лагеря, с громкими криками двигалась от ворот к центру. Когда суматоха становилась особенно сильной, Гискон опирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и неподвижно стоял, глядя на море и запустив пальцы в бороду. Мато часто отходил поговорить со Спендием; затем он снова становился перед суффетом, и Гиско постоянно чувствовал на себе его взгляд, словно две пылающие фаларики, устремленные на него. Несколько раз они бросали друг другу упрёки поверх голов толпы, но так, чтобы их никто не услышал.
Раздача тем временем продолжалась, и суффет находил способы устранить все препятствия. Греки попытались было возразить по поводу разницы в валюте, но он снабдил их такими объяснениями, что они безропотно удалились. Негры потребовали белые раковины, которые используются для торговли во внутренних районах Африки, но когда он предложил послать за ними в Карфаген, они приняли деньги, как и все остальные. Но балеарцам было обещано нечто лучшее, а именно женщины. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девушек, но поход будет долгим и займёт ещё по крайней мере шесть месяцев. Когда они станут жирными и хорошо натертыми Бенджамином, их следует отправить на кораблях в порты Балеарских островов. Внезапно Зархас, теперь уже красивый и сильный, как шутник, вскочил на плечи своим друзьям и закричал: «Вы оставили что-нибудь из них для трупов?» – спросил он, указывая при этом на ворота Хамон в Карфагене. Медные пластины, которыми он был увешан сверху донизу, сверкали в последних лучах Солнца, и варвары верили, что могут различить на нём кровавый след. Каждый раз, когда Гискон хотел что-то сказать, их крики возобновлялись. Наконец он спустился размеренными шагами и запёрся в своей палатке. Когда он покидал его на рассвете, его переводчики, которые обычно спали снаружи, не шевелились; они лежали на спине с закрытыми глазами, высунутыми языками и посиневшими лицами. Из их ноздрей текла белая слизь, а конечности были окоченевшими, как будто все они замерзли ночью на морозе. У каждого на шее была небольшая петля из тростника.
С этого времени восстание не прекращалось. Убийство балеарцев, о котором напомнил Зархас, укрепило недоверие, внушенное Спендием. Они вообразили, что Республика каждый раз пытается их обмануть. Этому нужно положить конец! Без переводчиков лучше обойтись! Зархас пел военные песни с перевязью на голове; Автарит размахивал своим огромным мечом; Спендий шептал что-то одному или давал кинжал другому. Самые смелые пытались заплатить сами, в то время как те, кто был менее рьяным, хотели, чтобы раздача продолжалась. Теперь уже никто не выпускал его из объятий, и всеобщий гнев вылился в бурную ненависть к Гиско. Некоторые встали рядом с ним. Пока они выкрикивали оскорбления, их терпеливо выслушивали; но если они пытались произнести хоть слово в его защиту, их немедленно забрасывали камнями или отрубали головы ударом сабли сзади. Груда рюкзаков была краснее алтаря. Они становились ужасны после еды и после того, как выпивали вино!
Это было развлечение, запрещенное в пунических армиях под страхом смертной казни, и они поднимали свои кубки в сторону Карфагена, насмехаясь над его дисциплиной. Затем они вернулись к рабам казначейства и снова начали убивать. Слово «забастовка», хотя и различалось в разных языках, было понятно всем. Гиско прекрасно понимал, что страна бросила его на произвол судьбы, но, несмотря на ее неблагодарность, он не хотел её позорить. Когда они напомнили ему, что им были обещаны корабли, он поклялся Молохом обеспечить их сам за свой счет и, сняв с себя ожерелье из голубых камней, бросил его в толпу в подтверждение своей клятвы. Затем африканцы заявили свои права на зерно в соответствии с обязательствами, заключенными Великим Советом. Гиско разложил отчеты о Сисситии, написанные фиолетовым пигментом на овечьих шкурах, и зачитал все, что поступало в Карфаген месяц за месяцем и день за днем. Внезапно он остановился, широко раскрыв глаза, как будто только что обнаружил среди письмен свой смертный приговор. Древние, по сути, обманным путем снизили их, и цена на зерно, продаваемое в самый тяжелый период войны, была настолько низкой, что, несмотря на слепоту, в это было невозможно поверить.
– Говори! – закричали они, – Громче! Ах! Он пытается солгать, этот трус! Не доверяйте ему!
Некоторое время он колебался. Наконец он вернулся к своему занятию. Солдаты, не подозревая, что их обманывают, приняли рассказы Сисситии за правду. Но изобилие, царившее в Карфагене, вызвало у них яростную зависть. Они взломали платановый сундук – он был на три четверти пуст. Они видели, как из него извлекались баснословные суммы, что думали, что он неисчерпаем; Гиско, должно быть, припрятал немного в своей палатке. Они полезли в рюкзаки. Мато повел их, и когда они закричали: «Деньги! деньги!»
Гиско, наконец, ответил:
– Пусть ваш генерал отдаст их вам!
Он молча смотрел им в лицо своими огромными жёлтыми глазами, и его вытянутое лицо было бледнее бороды. Стрела, удерживаемая за оперение, свисала с большого золотого кольца в его ухе, а с тиары на плечо стекала струйка крови. По знаку Мато все двинулись вперёд. Гиско протянул руки; Спендий связал ему запястья скользящим узлом; другой сбил его с ног, и он исчез в беспорядочной толпе, которая спотыкалась о тюки. Они разграбили его палатку. В ней не нашли ничего, кроме предметов, необходимых для жизни, а при более тщательном осмотре – трёх изображений Танит и чёрного камня, упавшего с Луны, завернутого в обезьянью шкуру. Многие карфагеняне решили сопровождать его; они были выдающимися людьми и все принадлежали к военному отряду. Их выволокли за пределы палаток и бросили в яму, служившую для сбора нечистот. Их привязывали железными цепями к массивным кольям и предлагали еду на острие копья.
Осматривая их, Автарит осыпал их бранью, но, поскольку они совершенно не знали его языка, они ничего не отвечали, и галл время от времени бросал им в лицо камешки, чтобы заставить их кричать. На следующий день войском овладела какая-то вялость. Теперь, когда гнев улёгся, всех охватила тревога. Мато страдал от смутной меланхолии. Ему казалось, что Саламбо была косвенно оскорблёна. Эти богачи были чем-то вроде придатка к её персоне. Ночью он присел на край ямы и услышал в их стонах что-то от голоса, которым было наполнено его сердце. Однако все они упрекали ливийцев, которым только и платили. Но в то время как национальные антипатии возродились вместе с личной ненавистью, было сочтено, что уступать им было бы опасно. Ответные меры после такого бесчинства были бы чудовищными. Поэтому необходимо было предвидеть месть Карфагена. Собрания и разглагольствования не прекращались. Все говорили, но никого не слушали; Спендий, обычно такой словоохотливый, отрицательно качал головой при каждом предложении. Однажды вечером он небрежно спросил Мато, нет ли где-нибудь в глубине города родников.
– Ни одного! – ответил Мато.
На следующий день Спендий отвел его в сторону на берег озера.
– Господин! – сказал бывший раб, – Если у тебя бесстрашное сердце, я приведу тебя в Карфаген!
– Как? – повторил тот, тяжело дыша.
– Поклянись выполнять все мои приказы и следовать за мной как тень! Затем Мато, подняв руку в сторону планеты Хабар, воскликнул:
– Клянусь Танитом!
Спендий продолжил:
– Завтра после захода Солнца ты будешь ждать меня у подножия акведука между девятой и десятой аркадами. Захвати с собой железную кирку, шлем без гребня и кожаные сандалии.
Акведук, о котором он говорил, пересекал весь перешеек наискось – значительное сооружение, впоследствии расширенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим нациям, Карфаген неуклюже позаимствовал у них это новое изобретение, точно так же, как Рим сам стал строить пунические галеры; и пять рядов арок, расположенных друг над другом, имели приземистую архитектуру, с контрфорсами у подножия и львиными головами наверху, доходили до западной части города из Акрополя, где они опускались под город, чтобы направить то, что было почти рекой, в водоемы Мегары. Спендий встретился здесь с Мато в назначенный час. Он прикрепил к концу верёвки что-то вроде гарпуна и быстро раскрутил его, как пращу; железный инструмент быстро зацепился, и они начали карабкаться по стене, один за другим. Но когда они поднялись на первый этаж, веревка ослабевала каждый раз, когда они ее натягивали, и, чтобы найти какую-нибудь трещину, им приходилось идти вдоль края карниза. На каждом ряду арок они обнаруживали, что она становится уже. Затем веревка ослабла. Несколько раз она чуть не порвалась. Наконец они добрались до верхней площадки. Спендий время от времени наклонялся, чтобы пощупать камни рукой.
– Вот оно, – сказал он, – давай начнем!
И, опираясь на кирку, которую принес Мато, им удалось сдвинуть с места одну из каменных плит. Вдалеке они увидели отряд всадников, скачущих галопом на лошадях без уздечек. Их золотые браслеты поблескивали на развевающихся плащах. Впереди виднелся человек в короне из страусовых перьев, скачущий галопом, держа в каждой руке по копью.
– Нар Гавас! – воскликнул Мато.
– Какая разница? – ответил Спендий и прыгнул в дыру, которую они только что проделали, отодвинув плиту. Мато по его команде попытался отодвинуть один из блоков. Но он не мог пошевелить локтями из-за недостатка места.
– Мы вернёмся, – сказал Спендий. – Иди вперёд!
Затем они углубились в водный канал. Вода доходила им до пояса. Вскоре они пошатнулись и были вынуждены плыть. Их конечности ударялись о стенки узкого канала. Вода почти сразу же попала под камни наверху, и они оцарапали им лица. Затем течение унесло их прочь. Грудь их была сдавлена воздухом, более тяжелым, чем в гробнице, и, вытянувшись, насколько это было возможно, обхватив голову руками и плотно сдвинув ноги, они, как стрелы, устремились в темноту, задыхаясь, булькая и почти мертвые. Внезапно перед ними все почернело, и скорость воды удвоилась. Они упали. Когда они снова вынырнули на поверхность, то несколько минут лежали, вытянувшись на спине, с наслаждением вдыхая воздух. Между высокими стенами, разделяющими разные бассейны, одна за другой открывались галереи. Все они были наполнены, и вода разливалась единым потоком по всей длине резервуаров. Сквозь вентиляционные отверстия в куполах на потолке падал бледный свет, который, так сказать, разливался по волнам дисками света, в то время как темнота вокруг сгущалась к стенам и отбрасывала их на неопределенное расстояние. Малейший звук отдавался громким эхом.
Спендий и Мато снова пустились вплавь и, проплыв под сводами, пересекли несколько залов подряд. По обе стороны в параллельном направлении тянулись еще два ряда небольших бассейнов. Они заблудились, повернули и вернулись обратно. Наконец что-то оказалось под ногами. Это был настил галереи, которая шла вдоль цистерн. Затем, продвигаясь с большими предосторожностями, они ощупью пробрались вдоль стены в поисках выхода. Но их ноги поскользнулись, и они упали в огромный центральный бассейн. Им пришлось снова карабкаться наверх, и там они снова падали то и дело. Они испытывали страшную усталость, из-за которой им казалось, что все их конечности растворились в воде во время плавания. Их глаза закрылись; они были в предсмертной агонии. Спендий ударил рукой по прутьям решётки. Они потрясли её, она поддалась, и они оказались на ступенях лестницы. Наверху за ними закрылась бронзовая дверь. Острием кинжала они отодвинули засов, который был открыт снаружи, и внезапно им в лицлударила волна чистого воздуха. Ночь была полна тишиной, а небо, казалось, находилось на необыкновенной высоте. Над длинными рядами стен нависали купы деревьев. Весь город спал. Огни аванпостов сияли, как потерянные звезды. Спендий, который провел в эргастуле три года, был плохо знаком с различными кварталами города. Мато предположил, что, для того, чтобы добраться до дворца Гамилькара, им следует повернуть налево и пересечь район Маппалиан.
– Нет, – сказал Спендий, – отведи меня в храм Танит!
Мато хотел что-то сказать.
– Помни! – сказал бывший раб и, подняв руку, показал на сверкающую планету Хабар. Затем Мато молча повернулся к Акрополю. Они крались вдоль живой изгороди, окаймлявшей дорожки. Вода стекала с накидок на пыль. Их мокрые сандалии не издавали ни звука; Спендий, чьи глаза горели ярче факелов, на каждом шагу обшаривал кусты; он шёл позади Мато, положив руки на два кинжала, которые он носил на поясе и которые свисали у него подмышками на кожаном ремне.
Глава V. Танит
Покинув сады, Мато и Спендий оказались у крепостного вала Мегары. Тут они обнаружили брешь в великой стене и пролезли сквозь неё. Местность шла под уклон, образуя что-то вроде очень широкой долины. Место было открытое.
– Послушай, – сказал Спендий, – и, прежде всего, ничего не бойся! Я выполню свое обещание!
Он резко замолчал и, казалось, задумался, словно подыскивая слова: «Ты помнишь то время на рассвете, когда я показывал тебе Карфаген на террасе Саламбо? В тот день мы были сильны, но ты ничего не хотел слушать!»
Затем серьезным голосом он сказал: