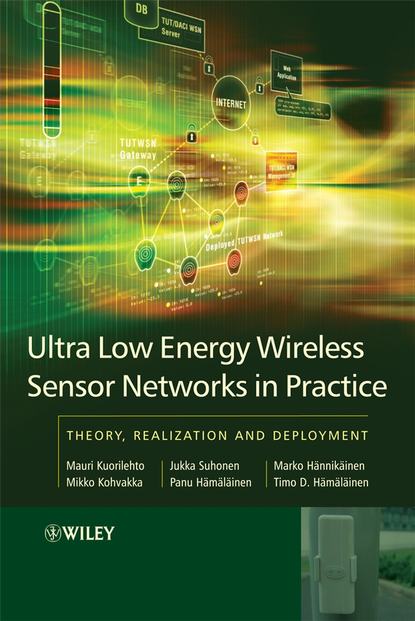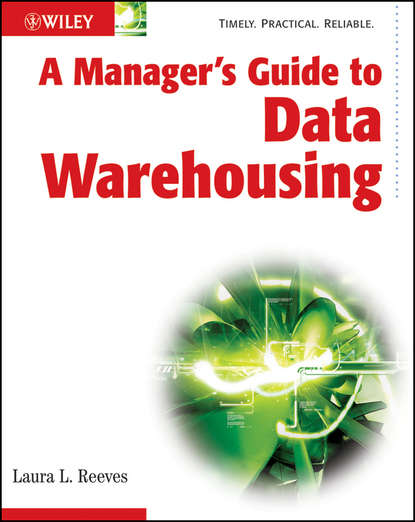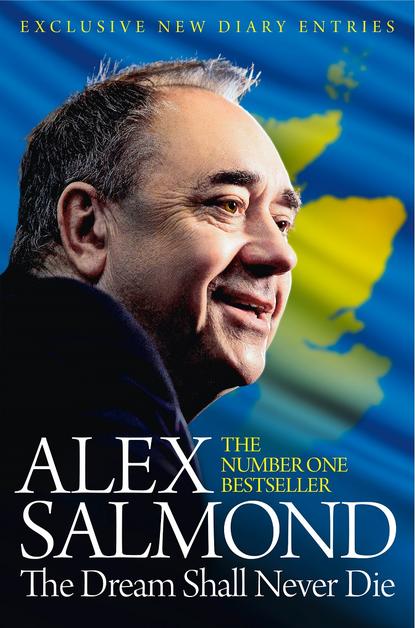- -
- 100%
- +
Ломак метнулся глазами в сторону, но было уже поздно… «Посмотри, идиот! Посмотри!.. – леденящий голос по-змеиному заполз в мозг. – Ты всё испоганишь! Так что можешь попрощаться с ними».
– Пошёл ты, сука! – начальник закрылся от фотографии плечом и склонился над монитором компьютера. Быстро перебирая пальцами клавиатуру, Ломак всё продолжал повторять ругательства, боясь, что голос в голове окрепнет…
– Пошёл ты, пошёл ты на хер! Я не буду этого делать, тварь! Ты меня понял?! – найдя наконец искомые файлы, мужчина обрадованно щёлкнул пальцами и потянул из гнезда разъём наушников. – Вот тебе компания на сегодня, сука!
Из динамиков грянули аккорды пианино, которые распахнули путь волшебному вокалу Билли Холидей. К чарующему запаху кофе добавились нежные слова подзабытой Ломаком «Голубой луны», и начальник с удовольствием принялся подпевать, на ходу вспоминая слова песни. Озябшие помещения станции ожили и стали оттаивать, вдыхая пряный запах табака и кофе, наслаждаться тёплыми джазовыми рифами. «…И когда я взглянула на луну, она стала золотой…» – неслось по коридорам и комнатам, заглядывая в каждый уголок.
«Обойдётся, всё обойдётся, – насаждал Ломак внутри сознания мысль, силясь утопить в ней мерзкого паука, подстрекавшего отравить коллегу и друга. – Рон выкарабкается, Эйдан вернётся с добычей и всё обойдётся… Нас спасут! Нас скоро спасут!»
Удовлетворённый собственным настроем, изрядно повеселевший начальник вернулся в столовую, тихонько насвистывая мелодию. Обжигая губы, делая жадный глоток, ему показалось, что он слышит голос друга.
– Ив!.. – и впрямь расслышал он, подойдя к двери раненого. – Ив!
Ломак с тревогой распахнул дверь и оказался под прицелом измученного взгляда Рона.
– Что такое, дружище? Что случилось? – Ивлин приблизился к кровати и сел на край. – Тебе что-нибудь принести? Как ты, вообще?
Корхарт напряжённо изучал лицо старшего, затем его бледные сухие губы неожиданно озарила слабая улыбка.
– Леди Дэй… – сказал он слабо. – Это она.
– Она, она! – зачастил Ломак, чуть не плача от вида улыбки друга. – А я музыку включил, – не мешает? Может что-то другое тебе поставить? Я совсем забыл… просто включил первое попавшееся из джазовой папки! Что-то конкретное хочешь услышать?
Раненый с трудом замотал головой:
– Оставь…
Корхарт откинулся на подушку и уставился в потолок, слушая суховатый и такой родной голос певицы. Едва заметно он улыбался. Ломак сидел рядом и тайком следил за другом влажными глазами – тощая шея Рона с острым кадыком, а также ввалившиеся глаза делали мужчину похожим на птенца, который вот-вот откроет клюв и закричит.
«Это легко вспомнить, – уверял голос из динамиков в следующей песне, – но так трудно забыть». Начальник станции следовал за словами, крепко сжимая горячую кружку в руках. «…Так трудно забыть!»
Слабо пошевелившись, Рон тихо спросил:
– Становится холодней? Или это только я мёрзну?
– Корпуса остывают, ты прав, – согласился начальник нехотя. – Мы экономим топливо, да, и, дренажи нужно освободить от наледи. Сегодня займусь, – Ивлин помолчал и добавил: – Хочу Молли из сарая достать, что скажешь?
Слабо кивнув, раненый предостерёг:
– Будь осторожен.
– О чём ты?
– О волках. Он наверняка был не один… За тобой могла прийти вся стая.
Спрятав взгляд в тенистом углу, Ломак пробасил:
– Салага считает, что ты подстрелил собаку.
– Вот как? Ты тоже так считаешь?
Пожав неопределённо плечами, начальник сделал глоток и торопливо затянулся сигаретой.
– Хочешь кофе? – спросил он Рона с надеждой, а когда тот отрицательно двинул головой, уточнил: – Я тебе не мешаю? Сигарета, например? Может отдохнуть хочешь? Музыка не мешает?
Вместо ответа, Корхарт долго собирался с силами, несколько раз сглатывал слюну.
– Музыку включай мне… Включай, когда захочешь, даже если я сплю. Когда мы познакомились с Пейдж, то подолгу гуляли в парке. Просто гуляли, держались за руки… сидели на лавочке и смотрели на речку – мы виделись каждый день. Каждый день обнимались, целовались и держались за руки. Вот так. Тогда я был счастлив… По-настоящему счастлив, – на лице Рона тлела слабая улыбка, а в полуприкрытых глазах отражались дорогие сердцу воспоминания. – А ещё каждый день мы встречали мистера Паркера – забавного старичка с портативным радио проигрывателем в кармане, из которого всегда тихонько играл джаз. Он неизменно занимал соседнюю лавочку под ветками ивы, и подолгу сидел, слушая радио. Мы с Пейдж находились неподалёку, и обнявшись слушали мелодии вместе с ним… украдкой… Мне казалось, что мы воруем у старичка музыку. Как-то раз не найдя места на своей привычной лавочке, он подсел к нам и спросил – не помешает ли нам его общество? Как же его звали?..
Замолчав, Рон стал жевать губы в мучительной попытке отыскать в памяти необходимое имя. Ивлин тронул друга за плечо и мягко подсказал:
– Мистер Паркер?
Раненый слабо мотнул головой:
– Так его называла Пейдж, за то, что он без умолку говорил о Чарли Паркере и его музыке… Не могу вспомнить – он как-то очень просто представился, что называется – не по возрасту. Что-то вроде «Джек» или «Джон»… Вот так просто. Все последующие дни он уже проводил с нами. Даже когда его лавочка была свободна, старик предпочитал присаживаться к нам.
Корхарт повернул лицо к другу, словно хотел удостовериться, что его слушают.
– Он нам не докучал, совсем нет! Просто здоровался и подсаживался рядом на краю лавочки. Практически не разговаривал, просто сидел и щурился на солнышке. Нам казалось, что ему хотелось поделиться с нами музыкой… И мы были не против. Изредка он поворачивался к нам, указывал пальцем на свой карман и с улыбкой сообщал, кто начинал играть. Так забавно выглядело, – Рон по-стариковски сощурился, и шамкая ртом спародировал: – «Это Диззи, детки… Диззи Гиллеспи: его пассажи способны свести с ума любого, кто хоть что-то понимает в настоящей музыке. А это Дюк Эллингтон, вам стоит это послушать!» – Рон тяжело задышал, что послужило сигналом для Ивлина – и он поспешил поднести к губам друга ингалятор. Как только Корхарт пришёл в норму, раненый торопливо продолжил, словно боялся, что позабудет воспоминания о том времени, когда «он был счастлив»: – Старик остался совсем один, Ив… Он сказал, что приходит в парк, потому что боится умереть дома в одиночестве. Сказал, что предпочитает умереть на лавочке, что та лавочка у воды – его. Так и сказал.
Рон нащупал руку Ивлина и слабо сжал ладонь начальника станции.
– Я тоже не хочу умирать в одиночестве, – произнёс он с мольбой, глядя другу в глаза сонным взглядом. – Не бросай меня одного.
Ломак стиснул ледяную кисть товарища и наиграно проворчал:
– Не говори ерунды! Ты идёшь на поправку!..
Сокрушённо замотав головой, Корхарт возразил, кусая сухие губы:
– Врёшь. Оба знаем, что врёшь. Я лежу на лавочке, на своей лавочке у воды… Жёсткая холодная, как гроб…
– Что ты раскис, дружище? – видя, что друг проваливается в сон, полярник попытался переключить внимание раненого. – Мы же не с того начали! Джаз, мы слушаем джаз! Кто сейчас исполняет, а? Сможешь сказать?
– Чарли Паркер… – ответил шёпотом Рон.
– Ну, ты чего?.. Ну, какой же это…
– Мистер Паркер говорил, что он не всегда был таким дряхлым и одиноким. У него были жена и дети, но никого не осталось. Когда-то он работал на одной из радиостанций в Бостоне, но затем они с семьёй переехали на запад…
Хмурый Ломак не решался перебивать угасающий монолог друга, предпочитая молча сидеть на краю постели и мять кружку в руках. Дождавшись, когда Корхарт провалился в сон, Ивлин осторожно поднялся, однако задержался в двери. Он долго стоял и смотрел на раненого стиснув брови, угрюмо слушал завораживающий полёт мелодии.
В полдень, когда уже окончательно рассвело, Ивлин засобирался на улицу, чтобы сходить в мастерскую – крупный не отапливаемый сарай в стороне, в котором полярники хранили весь скопившийся за годы экспедиций хлам и отработавшее своё оборудование. Среди ржавого инструмента, использованных когда-то запчастей и прочего, требовалась отрыть Грудастую Молли – допотопную дровяную печь из толстого железа, облик которой сильно напоминал крутую женскую грудь, из-за двух округлых поддувал. Насколько Ивлин помнил, последний раз Молли использовалась лет семь назад – в год, когда на Коргпоинт произошла утечка топлива, и из-за морозов и ветров на подходе к берегам Гренландии где-то во льдах замёрзло судно обеспечения. В тот год полярникам пришлось две недели ютиться в общей комнате со своей «спасительницей». В те времена станция оставалась более многолюдной, и на ней одновременно находилось от шести до восьми человек в зависимости от контракта.
Уже одетый и хмурый Ломак остановился у входной двери, и всё ещё прибывая в плену воспоминаний окинул опустевшее помещение тоскливым взглядом… Он помнил, он всё помнил! Например, вон там, – где сейчас стоит вещевой шкаф и висят грубые полки, – там стояла двух ярусная кровать на которой спали Джефф Шелтон и Льюис Скот. Комната Пьянчуги-Крейга Барсона и Ларри Уэлча находилась сразу за нынешней комнатой Эйдана, но позже та часть модуля сгорела и её не стали восстанавливать. Баз Осбек, – на правах начальника станции, – в то время занимал комнату по соседству со столовой. Каждый раз возвращаясь на станцию с Большой земли, он обклеивал стены своей берлоги привезёнными порнографическими фотографиями, и под дружный хохот команды проводил экскурсию по стенам обновлённой комнаты. «Баз поклеил обои», – говорили полярники, что означало отсчёт новой зимовки. Ивлин помнил их всех, помнил так ясно, что порой ему слышались весёлый смех и разговоры в столовой, а не тоскливое завывание вьюги за окном…
Закурив сигарету, накинув на голову капюшон, Ломак выскочил на улицу и поспешил в обветшалый сарай. Проваливаясь в глубокий снег, а местами и наваливаясь на него животом, начальник станции добрался до заметённых дверей постройки и долго возился с замёрзшим замком. Затем, источая клубы табачного дыма, жаркого пара и отборного мата, он долго с грохотом расшвыривал пустые баки и мотки сеток, охапки туго перетянутых лыж (большая часть из которых оказалась давно сломана); так же в сторону полетели канистры и длинные тубы для образцов льда. Матерясь и кляня мороз, Ивлин разгрёб дальний угол, столкнул в сторону частокол из досок, смахнул на пол стопку фанерных листов, служивших некогда внутренней отделкой жилого модуля. По-стариковски хлопнув себя по бёдрам, он не смог удержать широкой улыбки и осмотрел показавшуюся в углу круглобокую печь.
Подтянув перчатки и всё ещё улыбаясь, Ломак пробасил:
– Привет, Молли!
Двинув спиной дверь, Ломак вытащил громоздкую печь на снег, пятясь назад. Обойдя бочкообразную конструкцию и приготовившись толкать тяжёлую находку, он замер, изумлённо вытаращившись в небо. Над головой, протянувшись с севера на юго-восток, нескончаемым клином летели птицы! Зрелище выдалось настолько невероятным, что Ивлин зажмурился и замотал головой. Ничего подобного в этих широтах не наблюдалось никогда, да и от береговой линии станция была расположена далеко. Невероятным оказалось то, что стая выглядела неоднородной по составу: в ней без труда угадывались и полярные чайки, и буревестники, гуси и куропатки. Вся эта пернатая процессия пересекала небо нескончаемым потоком, заныривая в воздушные ямы, с трудом преодолевая морозный воздух, раскачивая смешанный разнородный строй. Ломка поразила тишина, с которой птицы проплывали над головой: ни одна из них не издавала ни звука, – бегство онемевших птиц обречённых замёрзнуть в ледяной пустыне. В то, что финал окажется именно таким, Ломак не сомневался. В направлении полёта несчастных птиц, животных кроме смерти ничего не ждало – невероятная стая удалялась от океана в самый эпицентр геомагнитной аномалии, пожиравшей Арктику третий месяц. Очевидно, птицы сбились с курса из-за сбоя магнитного поля, и в полёте пребывали длительное время, так как прямо на глазах потрясённого руководителя, огромная стая потеряла несколько пернатых из-за усталости.
Толкая печь к строению с задранной головой, начальник мрачно размышлял о том, что стоило бы сходить и собрать упавших птиц, пока не стемнело. Почти час у него ушёл на установку допотопного оборудования на своё законное место в общей столовой – в зашитый железными листами, до самого потолка, угол. Ломак расконопатил вытяжное отверстие в стене и пристыковал части дымохода. Ещё минут двадцать полярник потратил на заделывание всех щелей тряпками, а также проверку тяги дымохода. Затем, не без брезгливости начальник располосовал на лоскуты порванную и окровавленную одежду Корхарта, а также полотенца, которыми пользовались в первые минуты после нападения собаки. Ничего нельзя было выбрасывать, – в Арктике любая мелочь имеет смысл, порой, способная спасти жизнь. Позже, Ломак собирался наплести из тряпок тугие узлы, которые пропитавшись тюленьим жиром будут долго и хорошо гореть.
Перед выходом на улицу, Ивлин заглянул к Рону в комнату, чтобы поставить на лоб товарищу слабый компресс. Отворив тихонько дверь, начальник станции оторопело уставился на стену у кровати с раненым. На ней появился довольно крупный и зловещий рисунок изображавший круг, в верхней части которого был вписан круг поменьше, а ниже имелось несколько небольших окружностей, образующих расположением треугольник. Буроватый цвет нечётких линий прямо указывал на происхождение рисунка. Ивлин сполз взглядом к свободным и окровавленным ладоням Рона, осмотрел скрюченные в агонии пальцы, сжимавшие одеяло, и только потом заметил, что Корхарт смотрит на него вытаращенными глазами.
Похолодев от жуткого сумасшедшего взгляда, Ломак сдавленно произнёс:
– Что это? Зачем это здесь, Рон?
Не сводя немигающих глаз с начальника станции, раненый зашептал:
– Я видел!.. Я видел!.. Я видел!..
Ломак захлопнул дверь и попятился по коридору назад. Просидев на кухне какое-то время в табачном дыму, он снова вернулся к комнате Корхарта и остановился у двери. Прислушался. Рон спал, откинув одеяло и обнажив жуткие свежие раны на груди. Сделав компресс и меняя бинты, Ивлин то и дело бросал хмурый взгляд на незатейливый и такой отвратительный, по своему происхождению, рисунок. Снова связав руки несчастного, начальник станции пару раз порывался стереть жутковатое изображение со стены, однако загадочные слова друга о том, что он что-то видел – и несомненно рисунок был выполнен под этим впечатлением, – заставили начальника отложить процедуру. «Как придёт в себя, расспрошу об этом», – подумал полярник, затворяя за собой дверь.
Забросив на плечо пустой рюкзак с карабином, Ломак направился к выходу, прихватив бинокль. Встав на лыжи, Ивлин с удовольствием осмотрел сизый и пока ещё бледный дымок, тянувшийся вверх из-за основного корпуса станции. Бездонное синее небо выглядело пустым, лишь на севере у горизонта толпились перистые розовощёкие облака – снова быть ветру.
Все найденные птицы оказались мертвы, и Ивлину осталось лишь сунуть в рюкзак ещё не заиндевевшие тельца, однако на обратном пути он с удивлением обнаружил пару живых чаек, едва трепыхавшихся в снегу. Ломак с огромным трудом сунул погибающих птиц за пазуху и, так как его рюкзак оказался полон, поспешил обратно, уверенно разрезая лыжами перламутровую вечернюю пудру. Уже в помещении, начальник кинул в самый тёплый угол старое одеяло и, положив на него двух чаек, накрыл птиц сеткой. «Если выживут – отпущу!» – принял он для себя сентиментальное решение.
К вечеру Эйдан так и не появился. Мрачный начальник сидел в столовой, неспешно курил и ощипывал погибших птиц. Одна из спасённых чаек, всё же, умерла и Ломаку пришлось вытащить остывшее тельце из импровизированной ловушки. Вторая, на радость полярника, окрепла и следила за человеком чёрными блескучими глазами. Ивлин закончил ближе к полуночи, собрал груду перьев, пуха и набил ими крупный мешок. Сидя за столом, раскуривая очередную сигарету, он с надеждой посматривал в тёмное окно, – но стена мрака так и не дрогнула проблеском долгожданных прожекторов.
Ночью мужчину разбудил какой-то неясный звук. Ломак тяжело поднялся из-за стола, – а заснул он именно за ним, – и с трудом фокусируя взгляд, посмотрел на часы. Почти пять утра… Начальник выглянул в окно, в надежде, что его разбудил шум двигателя вездехода, но площадка, освещённая прожекторами, оставалась пуста. В углу ожила чайка и сонно двинула крыльями.
– Так это ты… – протянул полярник, расправляя руками заспанное лицо.
Из комнаты Корхарта донёсся слабый неясный звук, заставивший Ивлина поспешить к другу.
– Что там у тебя? – встретил тот вошедшего неожиданным вопросом и лихорадочными запавшими глазами.
– В каком смысле? – переспросил сонный Ломак, хлопая ресницами.
Рон смотрел диким горящим взглядом. Он скалил потемневшие зубы сквозь кое-как обстриженные Ломаком усы накануне.
– Что ты там готовишь? Что готовишь? – зашептал он, заглядывая Ивлину за спину. – Я хочу это съесть!
Ломак оторопел и, даже, обернувшись назад, втянул носом воздух.
– Ничего, – ответил он и пожал плечами, – я второй день ничего не готовлю. Я жду салагу.
– Я хочу это попробовать! – не унимался Корхарт силясь оторвать от подушки голову. – Принеси, принеси мне это съесть!
Подойдя к другу, Ивлин присел на кровать и поправил одеяло. Рон бредил, и погружённый в свой иллюзорный болезненный мир, скорее всего даже не видел перед собой друга.
– Неси, неси скорее! – блуждая по комнате туманным взглядом, шептал Корхарт. – Я так голоден! Я так давно ничего не ел… Принеси мне, принеси, принеси!
– Ты же ничего не ешь, – простонал полярник сокрушённо. – Я пытался тебя кормить, дружище…
Он потянулся снять высохший компресс со лба товарища, но тот неожиданно дёрнул головой навстречу руке, и громко клацнул зубами у самого запястья Ивлина. Ломак одёрнул руку и вскочил, со страхом глядя на оскаленное лицо Корхарта.
– Принеси, принеси, принеси!.. – зашептал Рон, и вдруг жутко завыл.
Через минуту его глаза закатились, и он затих, провалившись в забытьё. Порядком напуганный Ломак стоял у двери всё ещё принижаемая руку к груди.
Весь следующий день Ивлин провёл в ожидании Эйдана, которое к вечеру сменилось настойчивым чувством тревоги. «Не стоило отпускать мальчишку, – сокрушённо думал он. – Молод ещё и самонадеян… Север этого не прощает. В его глазах я, скорее всего, росточком-то помельчал, да и авторитет мой померк. Вот молодой волк и пробует свои силы, ошибочно принимая бездействие старого волка за нерешительность и трусость. А ведь волк в бурю не противится ветру, не встречает его грудью, а ложится в снег и даёт себя им накрыть. А у нас сейчас самая настоящая буря! И длится она уже третий месяц, салага! Ты пытаешься ей противостоять, а я переждать, укрывшись в снегу». Ивлин вёл мысленную беседу с пропавшим подчинённым с одной лишь целью – не дать себе вновь услышать змеиный шёпот в голове, который будет настаивать на том, от чего начальнику становилось тошно, и он принимался беспробудно пить. «В кладовке… – ещё вчера, буквально перед сном, слышал он тихий голос из тёмного угла собственной комнаты. – На полке. Ты знаешь – она ещё там… ты не выкинул». Ломак знал о чём говорил тот «паук» из темноты: начальник так и не сдержал своей угрозы уничтожить отраву…
Отварив куропатку, Ивлин отнёс бульон в комнату Рона, в надежде покормить друга. Корхарт тяжело очнулся и долго смотрел сквозь Ломака взглядом затуманенным и далёким. Не в силах терпеть смрадный воздух в комнате, Ивлин распахнул одеяла и перевернул Рона набок.
– Господи, помоги ему! – вырвалось у него, как только он увидел страшные отёки и пролежни на тощей спине и ягодицах Корхарта.
Было уже далеко за полночь, когда начальник закончил омывать, а затем и растирать тело раненого. В комнате стоял отвратительный запах прелого тела, фекалий и мочи. Боясь, что его вот-вот стошнит, Ломак наскоро оделся в столовой и, прихватив сигареты, выскочил на воздух. Курил долго и неторопливо, пока морозом не стало давить виски – возвращаться в дом совсем не хотелось.
Сменив бинты на голове Рона, Ивлин решил заодно и побрить заросшее поседевшими волосами лицо друга, а когда закончил – ужаснулся, каким оно оказалось худым и страшным. Череп, обтянутый бледной кожей, в котором вопреки всему продолжали двигаться глаза. Вид чёрной отёчной спины и скорбного треугольника из резких складок вокруг рта, убедили Ломака, что счёт времени идёт даже не на дни.
– Жжёт, – прошептал Корхарт едва слышно, затем ощупал шею и грудь замотанными в тряпицы ладонями – чтобы не привязывать руки несчастного, Ломак плотно спеленал его кисти. – Так горит…
– Потерпи, дружище! Скоро станет полегче, надо чуть-чуть потерпеть.
Корхарт повернул голову и уставился в рисунок на стене.
– Что это? – тихо спросил он.
– Я не знаю, это ты нарисовал. Ты говорил, что что-то видел и поэтому нарисовал вот это.
Слабо поёрзав на подушке головой, Рон ответил:
– Не помню… Ничего не помню. Я так хочу есть…
Обрадованный начальник станции спохватился и заботливо зачерпнул бульон, однако, когда поднёс ко рту раненого ложку, тот лишь отвернулся.
– Дай вкусного мне, – Рон облизал сухие губы и с мольбой посмотрел на Ломака. – Я так хочу есть.
– Да у меня же ничего нету другого! – простонал тот, чуть не плача. Он снова поднёс ложку поближе: – Вот, вот самое вкусное, что у нас есть!
Рон снова мотнул головой и посмотрел на дверь:
– Там… Принеси вкусное.
Ломак вскочил на ноги и, подхватив тарелку с бульоном, вышел в столовую. Швырнув ложку на пол, он какое-то время ходил вокруг стола, запустив пятерню в косматую голову. Закурив сигарету, он налил себе полстакана водки и залпом выпил. Снова налил, но поменьше, и снова выпил. Зайдя в комнату Корхарта, он показал ему стакан и вытащил изо рта сигарету.
– Хочешь? – предложил он отчаянно, протягивая поочерёдно то одно, то другое. – Может покурить хочешь? – «напоследок», едва не вырвалось у него.
Осторожно сев на край постели, Ломак тихонько тронул друга за плечо. Открыв глаза, Корхарт слепо уставился в потолок.
– Где второй? – неожиданно грубо пролаял он через минуту, непонятно к кому обращаясь. – Второй где?
– Скоро приедет! – ответил резко Ивлин и влил в себя водку. Он встал и нетвёрдыми шагами направился к двери. – Тюленей привезёт нам!
– Оставь мне печени! – услышал он у себя за спиной.
Задержавшись в дверном проёме, Ломак удивлённо развернулся:
– Тюленьей? – спросил он недоумённо.
Корхарт смотрел в ответ горящими глазами и скалил зубы.
– Второго, – проскрежетал он, стуча зубами.
Ивлин захлопнул дверь и с минуту стоял, вцепившись в ручку.
Подъём дался с трудом. Ломак сел на постели и с силой сжал голову, которая, казалось, вот-вот развалится на куски. Рядом с собой на одеяле он заметил пустую бутылку бурбона, а на полу железную банку, утыканную окурками. Один из них лежал рядом, оставив на дощатом полу чёрный ореол вокруг столбика пепла.
– Старый мудак! – разозлился на себя начальник, и стукнул по ноющей голове. – Пожара захотел, поц?!
Переведя взгляд на прикрытую дверь, он неожиданно вспомнил фрагмент глубокого хмельного сна, в котором видел Корхарта, медленно ползущего на руках в коридоре. Голый и тощий, он волочил за собой безвольные ноги, а в зубах держал подушку…
Шатаясь, Ивлин вышел в столовую и включил чайник. Прильнув к серому окну, он с тоской в сердце осмотрел пустую площадку перед домом с мрачным предчувствием того, что Эйдана он больше не увидит.
– Салага… – прошептал он сокрушённо, мысленно кляня себя за согласие отпустить парня одного. Выходило, что он потерял не только человека, но и вездеход.
«Старый дурак!.. Идиот, ты просто идиот! – образ крючконосого горбуна ожил тенью чуть в стороне от бушевавшего внутри пламени не то сожаления, не то допущенной профессиональной ошибки. – Я тебе говорил, я тебя предупреждал! Он был ещё и твоим алиби, разве не так? Жалеешь, что отпустил его? Поздно… Рону совсем плохо, и он, того и гляди, умрёт сам. А вот салаге можно было бы и подсыпать…».
– Заткнись, сука! – прорычал Ломак сквозь зубы, осматривая бескрайние седые холмы за окном. – Закрой пасть!
Наливая в кружку чай, Ивлин бросил взгляд в угол столовой и с удивлением не обнаружил в нём пленённую чайку. Вместо неё он заметил разбросанные перья, а на полу коридора, из-за стены, виднелась часть сети. Выйдя в прихожую, Ломак продолжал наматывать на руку сетку, которая дальним концом вела в комнату Корхарта. Предчувствуя неладное, Ивлин шагнул вперёд и распахнул прикрытую дверь.
Рон лежал ничком на полу, доски которого оказались изрядно усыпаны перьями. Ломак перевернул друга и в ужасе отшатнулся, налетев спиной на стену. Лицо Корхарта, залитое кровью и облепленное пухом, походило на фарш. Рядом с головой человека лежали останки съеденной живьём птицы, а чуть поодаль оторванное крыло. Осознав, что в пьяном угаре он видел вовсе не сон, – да и ползущий на руках Корхарт в зубах тащил вовсе не подушку, а птицу, – Ивлин похолодел! С содроганием вернув Рона в кровать, Ломак принёс воды и умыл лицо друга, затем собрал перья и останки птицы. Нащупав слабый пульс раненого, Ивлин долго сидел у кровати Корхарта глядя на друга тяжёлым взглядом. Он обратил внимание, что замотанные им вчера кисти раненого освобождены от тряпок, а грудь и живот несчастного в кровавых следах. Некоторые швы оказались вскрыты, они сильно кровили. Памятуя вечерний диалог с Роном, теперь Ивлин понял о чём тот говорил, моля принести «вкусного». Ломак похолодел, подумав о том, чтобы мог натворить обезумевший товарищ, не будь в столовой живой птицы…