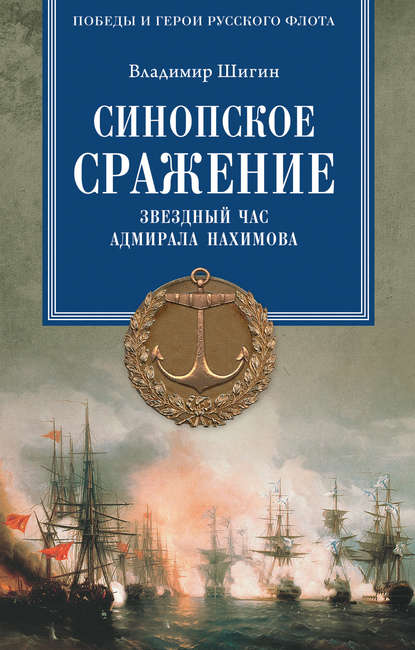- -
- 100%
- +

© Альба Хакимо, 2025
ISBN 978-5-0068-6046-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
Лера зажмурилась, из последних сил пытаясь сбросить с себя оцепенение, затем снова открыла глаза – ничего не изменилось. Абсолютная, всепоглощающая чернота, будто её проглотила гигантская чернильная лужа, не оставив ни щели, ни просвета. Воздух был неподвижным, густым и безвкусным, им невозможно было надышаться. Она вскинула руки перед лицом, помахала ладонью у самого носа – ни малейшего движения, ни тени в кромешной, осязаемой тьме. Казалось, само пространство перестало существовать.
В ушах – не привычная, уютная тишина перед сном, когда за окном мягко шуршат листьями деревья и доносится сонный гул города, а болезненная, режущая, давящая пустота. Физическое ощущение вакуума, как если бы кто-то безжалостно вырвал её слух вместе с корнем, оставив лишь две холодные, онемевшие раковины.
Инстинктивно она открыла рот и закричала изо всех сил, вложив в этот крик весь накопившийся ужас.
Ничего.
Только странное, щекочущее вибрацией ощущение в горле, когда голосовые связки напряглись и сомкнулись, и холодные пальцы на шее, ощутившие мелкую, беспомощную дрожь. Значит, звук был. Он родился, жил и умер, так и не долетев до её сознания. Он был призраком, тенью, которую она могла лишь чувствовать кожей, но не воспринимать.
Лера сжала кулаки, до боли впиваясь ногтями во влажные ладони. Еще недавно она заливалась звонким смехом над какой-то шуткой Насти в уютном кафе. Как звучал её собственный смех? Высокий, с легкой, срывающейся хрипотцой? Или глухой, низкий, будто подавленный? Она напрягала память, пытаясь вызвать из недр мозга эхо, но та отказывалась воспроизводить этот простейший звук, выдавая лишь картинку без саундтрека. Память предала её, став немым кино.
12 сентября. Кабинет отоларингологаВоздух в кабинете был густым и спертым, пахло антисептиком и старой кожей кушетки. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь полузакрытые жалюзи, пылил над столом врача, освещая модель уха в разрезе – лабиринт из гипса и пластика, который теперь казался Лере чуждой и бесполезной планетой.
– Психогенная глухота, – произнёс врач, и Лера, не отрываясь, прочитала этот приговор по движению его усталых, обветренных губ.
Она научилась этому мастерству за последние месяцы отчаяния – с того самого дня, когда мир для неё резко и бесповоротно замолчал. Не отвлекаться на выразительные глаза, не искать подсказки в морщинках у висков – смотреть прямо на рот. Губы – вот новый источник истины, вот что важно теперь. Они двигались медленно, растягивая слова, будто говоря с неразумным ребенком или иностранцем.
– Возможно, временная. Острая стрессовая реакция, – шевельнулись его бледные, тонкие губы, и каждое слово было ударом молотка.
Эти слова крючьями вернули её в тот вечер. Яркий экран телефона, веселые огни улицы, свой собственный беззаботный смех, заглушавший всё. Телефонный звонок. Бабушкин голос, слабый, прерывистый, пойманный на грани помех: «Лер… помоги… плохо мне…» – заглушённый уличным грохотом и навязчивым смехом подруги. «Баб, я на улице, шумно! Перезвоню!» – бросила она в трубку, даже не вникнув в интонацию, в тот тихий ужас, что пробивался сквозь треск.
Только увидев потом пять пропущенных вызовов, она рванула домой, чувствуя, как леденящий ком подкатывает к горлу.
Дверь в ванную была приоткрыта, из-за неё падала на паркет полоска света. Бабушка лежала на холодном кафеле, неестественно маленькая и беззащитная, в луже розоватой, разбавленной водой крови. Лицо восковое, глаза закрыты. Лера не помнила, как хватала телефон, как звонила в скорую. Помнила только, как вдруг осознала – не слышит гудков в трубке. Не слышит собственных рыданий. Не слышит, как врач склонился над бабушкой, потрогал её холодную руку и покачал головой. Мир замолчал в тот самый момент, на пике её отчаяния и вины, выключив звук навсегда.
«Если бы я просто прислушалась… Если бы я была чуточку внимательнее…» – но эта мысль-пила, крутившаяся в голове днями и ночами, не возвращала ни слух, ни самую родную душу.
Мать, сидевшая рядом на стуле, сжала её руку так сильно, что кости хрустнули. Лера увидела, как её накрашенные губы беззвучно дрожат, как напряжены мышцы шеи. Многие фразы она уже хорошо научилась понимать без звука:
– Как это временная? Что значит «возможно»? Когда она снова сможет слышать? – губы матери подрагивали, выдавая панику, которую она тщетно пыталась скрыть.
Врач тяжело вздохнул и развёл руками. Его плечи поднялись к ушам в универсальном, извечном жесте беспомощности человека перед загадками мозга.
– Может через месяц. Может через год. Может… – он замолчал, отвел взгляд.
Но Лера поймала это слово, чётко сформированное, беззвучное, вылетевшее с его губ, словно черная муха:
Никогда.
Мать разрыдалась. Лера наблюдала, как крупные, тяжелые слёзы катятся по её подведенным ресницам и оставляют темные дорожки на пудре, но не слышала ни всхлипов, ни стенаний. Она потянулась, вытерла их подушечками пальцев, ощущая соленую влагу и горячую кожу. Мать внезапно обняла её так крепко и отчаянно, что заныли рёбра, впиваясь в спинку стула.
Лера закрыла глаза, уткнувшись лицом в материнское плечо, в знакомый запах духов и тревоги. Ей отчаянно, до физической боли, хотелось пробить эту стену, услышать, как мама шепчет свои старые утешения: «Всё будет хорошо, солнышко, всё наладится».
Но в ответ была только оглушительная, вселенская, беспросветная тишина.
Тем временем, в квартире на окраине города…Саша прижалась спиной к прохладной, шершавой стене, вжавшись в угол прихожей, как будто могла раствориться в этой треснувшей штукатурке, стать её частью, невидимой и неслышимой. Из кухни донёсся очередной звон – на этот раз, судя по низкому гулу, отозвавшемуся в костях, это была тарелка, а не стакан. Фарфоровая, с синими цветочками, одна из тех, что мама так любила. Теперь она лежала осколками на полу.
Саша провела пальцем по уху, по пластиковому корпусу слухового аппарата – своему единственному щиту от мира и своему главному проклятию. Но не выключила его сразу: сначала осторожным, выверенным движением уменьшила громкость. Крики отца сразу стали похожи на искаженный, шипящий радиошум из далекой-далекой галактики, где шла вечная война. Потом – крутанула колесико ещё тише. Теперь это было похоже на приглушенный рык зверя из-за толстой двери. Ещё одно движение.
В последний момент, уже перед самым щелчком выключения, в ушах проскочил обрывок фразы, прорвавшийся сквозь барьер: «…чтоб ты исчезла!» – и она не поняла, кому это сказано: маме, притихшей у раковины, или ей, затаившейся в коридоре. Было неважно. Смысл был один.
Клик.
Мир погрузился в идеальную, благословенную тишину.
Саша закрыла глаза. Медленно, очень медленно выдохнула воздух, который до этого задерживала в груди комом. Напряжение в плечах и спине начало потихоньку растворяться.
Её губы сами собой, против воли, растянулись в странной, почти болезненной улыбке – гримасе освобождения. Впервые за этот бесконечный вечер она могла дышать полной грудью. Неслышно. Не было слышно ничего.
Больше не нужно слышать, как отец хриплым, сиплым от ярости голосом называет мать «никчёмной дрянью» и «нахлебницей».
Больше не нужно слышать, как мать, вся сжавшись, прижимается к боковине холодильника, пытаясь заглушить свои беззвучные, предательские рыдания, от которых сжималось сердце.
Больше не нужно слышать, как её собственная жизнь, год за годом, день за днем, с каждой ссорой, медленно и неумолимо разваливается на мелкие, острые, не поддающиеся склейке осколки.
Она достала из кармана затертые наушники, но не стала включать музыку – просто засунула их в уши, как глухие, добровольные пробки, запечатывая свой кокон. Теперь её мир был идеально пустым, стерильным и безопасным. Тишина была не наказанием, а наградой. Не тюрьмой, а спасением.
«Если бы я могла вырвать себе слуховые нервы, как ненужные провода, – подумала она, глядя на тонкий, перекрученный шнур своего аппарата, валявшегося теперь в ладони. – Навсегда».
Саша прикрыла глаза, откинув голову. Она не была полностью глухой. Но в такие моменты ей отчаянно, до боли в груди, хотелось ею стать.
Две девочки. Две вселенные. Одна потеряла звуки против воли, в одночасье, вырванные травмой. Другая – добровольно, шаг за шагом, отказывалась от них, чтобы выжить.
Одна боялась, что тишина останется навсегда, и цеплялась за призраки воспоминаний, пытаясь пробить эту глухую стену. Другая же молилась, чтобы она никогда не заканчивалась, и строила из неё свою крепость.
Их дороги, такие разные и такие похожие в своем одиночестве, уже начали сходиться…
Глава 1. Десять жирных двоек
Лера сидела за своей привычной партой у окна, в так называемом «глухом ряду», где доска была видна под острым углом, а слова учителя тонули в гуле улицы. Но для неё это было теперь лучшим местом – здесь её меньше беспокоили. Она прикрыла ладонью левое ухо, чувствуя холодное дуновение сквозь щель в раме. Сквозняк был её личным врагом; он приносил с собой не холод, а усиление того звона, что жил в её голове – высокого, пронзительного, словно комар, навсегда застрявший в ушной раковине.
Последние десять минут перед звонком всегда тянулись невыносимо долго, превращаясь в немую пытку ожидания. Она нервно теребила уголок тетради, наблюдая, как бледный осенний луч выхватывает из потёртого тёмного дерева парты выцарапанные поколениями учеников надписи: «Здесь был Витёк», «Я учусь страдать». Кто-то позже, более циничный рукой, добавил к последней: «И у меня получается!» Лера провела пальцем по шершавым буквам. Получалось и у неё.
В классе витал привычный, густой коктейль запахов – едкая пыль мела, бьющие в нос сладковатые духи Кати Смирновой и приглушённый, но настойчивый аромат сегодняшних рыбных котлет из столовой, пропитавший всё на третьем этаже. Лера вздохнула – значит, на большой перемене опять придётся пробиваться через шумную толпу у буфета, где все кричат, толкаются, и она, как слепой котёнок, тыкается в спины…
Дверь с глухим, но ощутимым по вибрации пола грохотом распахнулась, сбросив со стены таблицу Менделеева, которая и так уже висела криво, подпирая углом щит с формулами. В класс вошла Галина Петровна с таким видом, будто дверной проём для неё тесен и она делает одолжение, протискиваясь в него. Преподаватель физики и, по странному ироничному стечению обстоятельств, руководитель школьного музыкального кружка. Её тёмно-синий костюм из плотного крепа висел на худой, угловатой фигуре, как на вешалке, а брошь-сова на лацкане перекосилась, будто пыталась улететь прочь от своей хозяйки.
– Тетради с домашней работой! На первую парту! Быстро! – её голос, который Лера скорее чувствовала, чем слышала, скрипел и дребезжал, как несмазанные качели в заброшенном парке.
Учительница достала планшет и начала пролистывать электронный журнал, но красная шариковая ручка в её руке выглядела архаично и угрожающе – это была традиция, от которой она отказываться не собиралась: «Двойки должны быть жирными, наглядными и позорными», как любила говорить она.
Лера машинально потянулась к рюкзаку, стоявшему у ножки парты, – и сердце её провалилось куда-то в живот, ледяной волной разливаясь по всему телу. Под клапаном лежала только черновая тетрадь с недописанным сочинением по литературе. Она метнула взгляд на Настю Ковалёву, свою соседку и, вроде бы, подругу, но та лишь испуганно замотала головой, бросая быстрый, виноватый взгляд на учительницу и показывая на свою, уже лежащую на первой парте, тетрадь.
– Морозова, – Галина Петровна растянула фамилию, как жвачку, делая паузу между слогами, – опять проблемы?
Звуки доносились сквозь вату – глухие, искажённые, обрубки слов. В ушах, поверх всего, стоял тот самый вечный звон. Последние месяцы врачи разводили руками на бесконечных приёмах: «Психосоматика. Посттравматический синдром. Нервное перенапряжение». Но Лера знала – это было не просто так. Она слышала мир, как сквозь толстый слой воды в бассейне, и чем больше на неё давили, чем громче кричали вокруг, тем глубже и необратимее он уходил.
– Я… забыла… – её собственный голос сорвался на шёпот, звучащий в её голове чужим и слабым.
Со второй парты донесся сдавленный, но ядовитый смешок. Катя Смирнова, её огненные кудри, собранные в тугой высокий хвост, шептала что-то подружке, чётко и утрированно артикулируя, чтобы Лера наверняка поняла: «Опять своё „не слышу“ включает. Удобно, да?» Лера прочитала это по губам мгновенно – можно сказать, что она уже стала виртуозом в этом печальном искусстве. Смешок Кати впился в спину, как заноза. Лера чувствовала, как по коже ползёт мурашками волна жара – не гнева, а стыда, густого и липкого. Стыда за свою беспомощность.
– Что-что? – Галина Петровна приблизилась и наклонилась так близко, что Лера разглядела крошечную родинку над её губой, забитую в морщинки пудру и следы вчерашнего стойкого макияжа. От неё пахло крепким чаем и старой бумагой. – Повтори, я не расслышала!
Ирония была настолько грубой и очевидной, что по классу пробежал сдержанный смех. Лера лишь сжала губы, впиваясь взглядом в чернильную кляксу на парте. Красная ручка учительницы с силой впилась в страницу журнала, оставляя первую жирную, размашистую «2». Бумага затрещала по швам.
– Раз, – прошептала Катя, прикрывая рот раскрытым учебником физики, и Лера снова поймала это движение губ.
Вторая двойка легла рядом, как близнец. Лера видела, как по рядам пробегает волна перешёптываний, обмена взглядами. Артем с последней парты, король спортзала и главный зубоскал, размахивал руками перед ртом, изображая её «глухую мину» для своих приятелей. Даша из первого ряда, тихая и спокойная девочка, обернулась с сочувственным, растерянным взглядом, но тут же резко отвернулась, когда Галина Петровна бросила в её сторону ледяной, предупреждающий взгляд.
– Десять! – торжествующе, уже почти без стеснения, объявила Катя, когда журнал с тяжёлым глухим стуком захлопнулся.
Лера сидела, словно парализованная, глядя на десять алых, почти кровавых цифр, выстроившихся в аккуратный, безупречный ряд смертного приговора. Класс замер в ожидании развязки – кто-то с любопытством, кто-то со страхом, кто-то с плохо скрываемым злорадством. Галина Петровна удовлетворённо положила ручку, её тонкие губы сложились в жёсткую, неумолимую полоску.
– Надеюсь, это наконец-то научит тебя ответственности, Морозова. А сейчас – марш к директору!
В глазах учительницы, в их холодной синеве, мелькнуло что-то странное и пугающее – не просто педагогическое злорадство, а почти личная, давняя неприязнь. Казалось, она видит перед собой не Леру, а кого-то другого – того, кого давно и безнадежно ненавидела. Тень какого-то старого, своего собственного поражения. Лера почувствовала, что должна была выбраться отсюда, сейчас же, иначе этот взгляд её просто испепелит. Она вскочила, ощущая, как горячие, предательские слёзы подступают к глазам, и, не глядя ни на кого, бросилась к выходу.
Блокнот вместо словКогда Лера выбежала в длинный, пустой в этот час коридор, дыхание перехватило от нахлынувших слёз. Они текли по щекам горячими ручьями, и она даже не пыталась их смахнуть. Она мчалась, не разбирая дороги, почти не видя перед собой ничего, кроме размытых пятен стендов и окон, когда вдруг – резкий удар, от которого звёзды брызнули в глазах.
Она врезалась во что-то твёрдое и в то же время тёплое. Сильные, но не грубые руки схватили её за плечи, не давая упасть, – пальцы уверенно впились в кожу, но не больно, а точно, будто ловили падающую с полки ценную, хрупкую книгу.
– Эй, осторожнее! Куда ты несёшься? – мужской голос прозвучал неожиданно близко, и что-то в его вибрации, в низком тембре, заставило Леру вздрогнуть.
Она подняла голову, смахивая слёзы тыльной стороной ладони, и увидела Марка, новичка в параллели, которого обычно замечали в компьютерном классе или в мастерской на цокольном этаже, с паяльником в руках и беспроводными наушниками на шее. В школьной газете он вёл рубрику «ТехноLife», но ходили слухи, что его главной страстью были какие-то сложные изобретения – говорили, он даже получил какой-то грант на молодёжном форуме.
Вблизи он оказался выше, чем казалось со стороны, и как-то более… собранным. Его серые, внимательные глаза расширились от удивления, когда он разглядел её заплаканное, растерянное лицо.
– Ты… – он замолчал, заметив, как она инстинктивно, по старой привычке, прикрывает уши ладонями, будто защищаясь от его слов.
Вдруг выражение его лица изменилось – озадаченность сменилась любопытством, а затем лёгким, быстрым пониманием. Медленно, чрезмерно артикулируя, почти по слогам, он спросил, глядя прямо на неё:
– Ты… не слышишь меня?
Лера лишь кивнула, сглотнув плотный, колючий ком в горле. В этот момент она заметила, как его взгляд опустился к её дрожащим, белым от напряжения рукам, сжимающим и скручивающим края школьной юбки.
Марк неожиданно улыбнулся – не той жалостливой, неловкой улыбкой, к которой она уже привыкла за эти месяцы, а тёплой, ободряющей, почти воодушевлённой. Затем он сделал несколько странных, угловатых движений руками, неуверенно помахал ими перед собой, скрестил пальцы, словно пытаясь изобразить что-то сложное, но это явно не было языком жестов – скорее, наивной импровизацией человека, который однажды мельком видел что-то подобное по телевизору и искренне верил, что это может помочь.
Лера нахмурилась. Она не понимала этих жестов, но в них было что-то… искреннее и знакомое. Желание помочь.
Парень вздохнул, поняв, что его попытка не увенчалась успехом, и достал из кармана потрёпанный блокнот с замусоленными уголками и карандаш на верёвочке. Быстро, почти не глядя, что-то нацарапав, он протянул ей:
«Что случилось?»
Она взяла карандаш дрожащими, всё ещё влажными от слёз пальцами и вывела неразборчиво, торопливо:
«Поставили 10 двоек. Забыла тетрадь».
Марк прочитал, и его густые брови резко поднялись к волосам. Он выхватил блокнот обратно и написал быстрее, крупнее:
«Галина Петровна?»
Лера лишь кивнула, снова чувствуя подступающий к горлу ком. В этот момент из приоткрытой двери её класса донеслись приглушённые, но нарастающие крики – Галина Петровна, видимо, продолжала разбор полётов. Неожиданно Лера поняла – что-то изменилось. Звуки начали возвращаться. Сначала это были едва уловимые вибрации, будто далёкое эхо из глубины пещеры, потом они стали чётче: шуршание страниц в блокноте у Марка, скрип старых половиц под его ногами, его ровное, чуть учащённое дыхание, будто кто-то внезапно вынул плотную, мокрую вату из её ушей.
Марк заметил, как она вздрогнула, и его глаза загорелись. Он написал:
«10 двоек – да тебе памятник при жизни ставить надо!»
Лера неожиданно фыркнула – и услышала это. Мир звуков раскрывался перед ней, как цветок.
– Ты слышишь меня? – осторожно, но уже без преувеличенной артикуляции, спросил Марк, и на этот раз она различила каждое слово, каждый звук, каждый оттенок изумления в его голосе.
– Да… – её собственный голос прозвучал хрипло, непривычно громко и странно в её собственной голове. – Возвращается… Постепенно…
В этот момент дверь класса с силой распахнулась, ударившись о стену. На пороге, как грозное воплощение её кошмара, стояла Галина Петровна. В её руках болтался Лерин синий рюкзак. Её ледяной взгляд скользнул по открытому блокноту в руках Марка, по её заплаканному, но уже прояснившемуся лицу, задержался на её ушах, которые она уже не закрывала…
– Морозова, – холодно, с металлической ноткой в голосе, произнесла она, и Лера услышала каждое слово, – ты забыла свои вещи. И, кажется, мы договорились о визите к директору. Или тебе нужен конвой?
Марк, не смутившись, шагнул вперёд, слегка заслонив её собой:
– Галина Петровна, простите, но десять двоек за одну забытую тетрадь – это…
– Это не твоё дело! – перебила его учительница, и её голос зазвенел, как натянутая струна. – Не учите меня вести уроки.
Когда Лера взяла из её рук рюкзак, её пальцы наткнулись на что-то твёрдое и прямоугольное под тканью. Она расстегнула клапан и заглянула внутрь – там, поверх учебников, аккуратно сложенная, лежала её тетрадь по физике. Та самая, с выполненной домашней работой. Решённые задачи, красиво расставленные формулы.
Ту самую, которую она точно положила утром. Которую она не забыла, но которая на уроке куда-то бесследно исчезла, а теперь так же загадочно вернулась…
Марк незаметно сжал её локоть в коротком, ободряющем знаке поддержки, прежде чем отпустить. Его последние слова звучали в её ушах уже совершенно чётко, тихим, но уверенным шёпотом:
– Завтра. После уроков. В три. Кабинет музыки в старом крыле. Там никто не бывает. Я покажу тебе кое-что… важное.
Лера медленно пошла по коридору, сжимая в кармане смятый клочок бумаги, который Марк успел сунуть ей в руку в последнее мгновение. Развернув его, она прочла:
«Не бойся тишины. Это не тюрьма. Это суперсила. Я научу тебя её слушать. И слышать».
Такт памятиКабинет директора встретил Леру мягким светом настольной лампы и терпким ароматом свежего кофе. Иван Сергеевич отложил стопку документов, когда она вошла, и жестом пригласил сесть.
– Десять двоек… – он покачал головой, снимая очки. – Даже для Галины Петровны это перебор.
Его пальцы постукивали по столу в неторопливом ритме, будто отбивая такт невидимой мелодии.
Лера сжала пальцы на коленях. В ушах снова стоял тот самый звон – теперь глухой, будто кто-то накрыл её голову колпаком. Она протянула тетрадь:
– Вот, Иван Сергеевич… Я нашла ее в своем рюкзаке.
Директор взял тетрадь, его брови поползли вверх по мере изучения страниц.
В кабинете повисла тягостная тишина, нарушаемая только тиканьем старинных настенных часов – тех самых, что висели здесь ещё со времён её бабушки, как вдруг осознала Лера.
– Вижу… все задания выполнены… – наконец услышала Лера. Она видела, как губы директора двигаются, но слова долетали обрывками.
– …И дата соответствует… Но объясни, как тетрадь оказалась… – Его взгляд упал на подпись на обложке, и пальцы вдруг дрогнули. Он повертел тетрадь в руках, будто увидел её впервые. – Морозова? – его голос внезапно потерял официальность. – Лидия Павловна Морозова тебе кем приходится?
Лера почувствовала, как сердце ёкнуло:
– Моя бабушка.
Звуки постепенно возвращались.
Директор откинулся на спинку кресла, и странная перемена произошла с его лицом – морщины вокруг глаз внезапно стали заметнее, а в глазах появилось что-то тёплое.
– Вот как, – он провёл рукой по подбородку. – Значит, Лидина внучка. Должен был догадаться – тот же упрямый подбородок.
Он вдруг встал, и старый кожаный стул тихо заскрипел, будто вздохнул от облегчения. Директор подошел к массивному дубовому шкафу, двигаясь с неожиданной легкостью для своего возраста – его сгорбленная обычно спина сейчас казалась прямой, а шаги были легкими, почти танцующими. Пальцы, еще минуту назад уверенно листавшие официальные документы, теперь дрожали, когда он доставал с верхней полки пыльный кожаный альбом с потрескавшимся золотым тиснением.
Альбом открылся со скрипом, словно нехотя раскрывая свои секреты. Страницы пожелтели от времени, их углы были мятыми, будто кто-то часто перелистывал именно этот разворот. Директор замер, его пальцы застыли над фотографией, едва касаясь ее уголка, будто боясь повредить хрупкую память.
– Вот она, твоя бабушка, – его голос внезапно стал мягким, теплым, совершенно не похожим на привычный начальственный тон. Он повернул альбом к Лере, и она увидела – молодая женщина в простом темном платье сидела за роялем, откинув голову назад. Ее пальцы замерли над клавишами в странном, почти неестественном жесте – не играли, а словно ловили что-то в воздухе. Глаза были закрыты, но на лице читалось такое сосредоточенное внимание, будто она слушала что-то очень важное.
– Играла Шопена… – директор провел пальцем по фотографии, – …так, что у скрипачей слезы наворачивались. Помню, на выпускном в консерватории… – он замолчал, глядя куда-то поверх головы Леры, в прошлое. – Потом она потеряла слух после болезни. А в последние годы… – его голос внезапно сорвался, стал тише, – …утверждала, что чувствует музыку здесь. – Он поднял руку и коснулся своих висков, затем груди. – Кожей. Костями. Кончиками пальцев. Говорила, что звук – это просто дрожь воздуха, а настоящая музыка живет внутри.