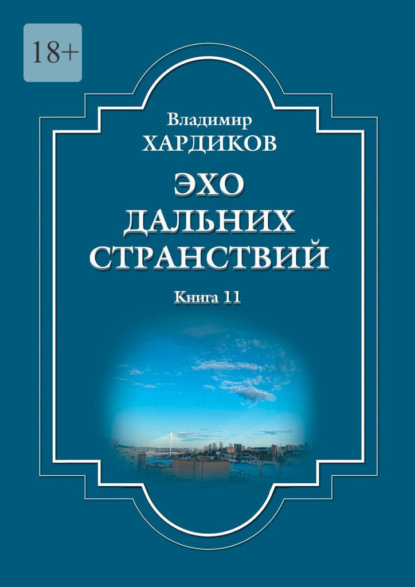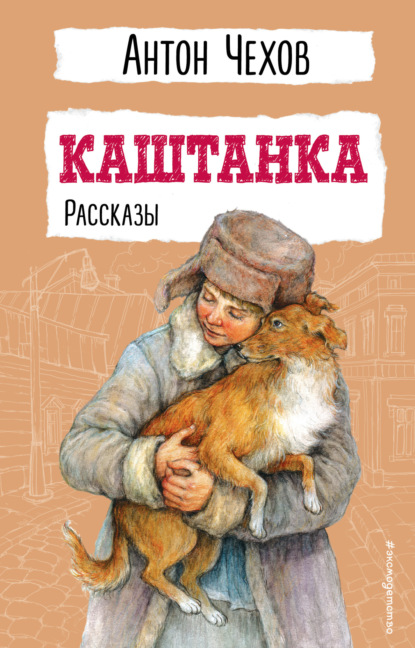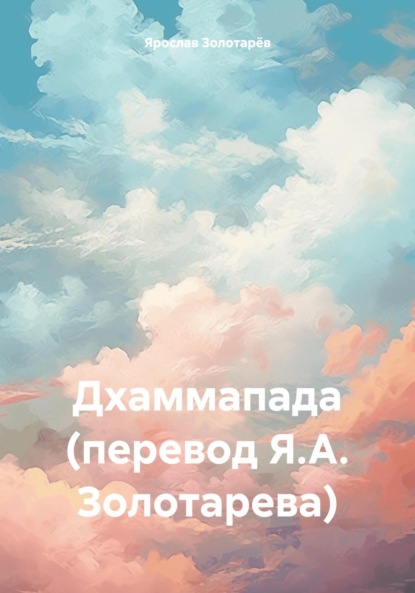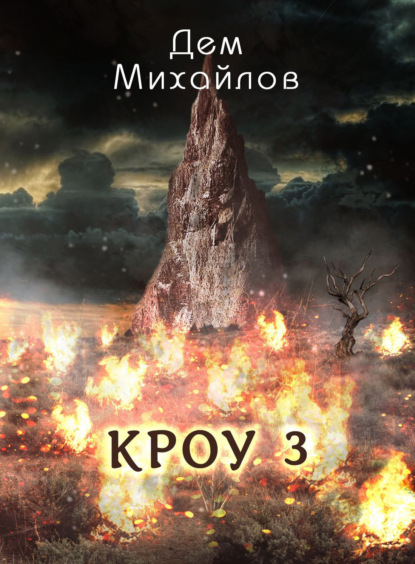- -
- 100%
- +
События развивались, и никто не мог с какой-либо уверенностью предположить благополучный результат. В каюте старпома третий день находился его сменщик из-за возникшей неопределённости в завершении «бумажных» неприятностей, хотя по коллективному профсоюзному договору на передачу дел старшими помощниками отводится два дня, то есть всё излишнее время уже за собственный счёт. Положение усугублялось пятницей – последним рабочим днём недели, а впереди два дня выходных, и простой с соответствующими выводами будет обеспечен, что вызовет всплеск негатива руководства компании, и без приказа по пароходству о наказании виновных не обойдутся, и старпом в нём будет не последним. Проверяющий инспектор Регистра прибыл в начале рабочего дня, без опозданий и сразу же взялся за дело: проверил наличие дополнительных дыхательных аппаратов, действующее удостоверение газоанализаторщика и потребовал показать сам прибор. Второй помощник, в ведении которого находился газоанализатор, не смог его найти, слишком далеко тот схоронился под его же кроватью. Делать нечего, пришлось срочно связываться со службой судового хозяйства по судовому радиотелефону, ибо сотовых телефонов тогда ещё не было, с просьбой доставить прибор как можно быстрее катером. Всё в спешке, а вдруг инспектор взбрыкнёт, сославшись на неготовность судна, и уйдёт, тогда и совсем труба дело.
В конце рабочего дня, уже около 18.00, позвонили из службы безопасности мореплавания и со скрытой тревогой поинтересовались результатом. Не моргнув глазом капитан ответил коротко, но неопределённо: «В процессе». В ответ последовал укор: «Что же вы так оплошали?» Капитан в своём обычном безапелляционном тоне выдал: «Да во всём старпом виноват», как будто его кто-то об этом спрашивал. Закончив разговор и убеждённый в своей непоколебимой правоте, намеревался сделать прокол-отметку в контрольном талоне к диплому своему «чифу» с естественным отражением в приказе, который будет направлен в соответствующие службы и отделы пароходства. От такого обвинения старпом едва не потерял дар речи, чего-чего, а подобной наглости и несправедливости от капитана он не ожидал. Обида охватила всего, лишив возможности даже попытаться что-то сказать в своё оправдание, которое было бесполезным и ненужным, его без зазрения совести просто назначали «стрелочником», свалив всё с больной головы на здоровую. Как всё просто, находчиво, будто надоевшую муху смахнули. Даже по Уставу морского флота капитан собственноручно обязан следить за судовыми документами и сроками их истечения и никак не мог не знать о «висящем» незакрытым требовании классификационного общества, тем более процедуру предъявления инициировал он сам. Да и даты с печатью инспектора проставлял лично, больше некому. «Но чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало!», всё когда-то кончается. В какой-то степени Вячеслава утешало то, что в рейс на этом судне он не пойдёт и больше не будет видеть капитана, ибо одно лишь его лицезрение отравит дальнейшее пребывание на борту.
Около 20 часов, когда уже темнело, наконец-то долгоиграющее действо благополучно завершилось, и «Электросталь» снялась по назначению в назначенный рейс. Но продолжение не заставило себя ждать.
В службе кадров тогда ещё не совсем «усохшего» пароходства перед оформлением в отпуск Вячеслава направили в службу безопасности мореплавания для разбирательства, всё-таки капитан оставил там «чёрную метку», скорее всего, в рейсовом отчёте, выставив старпома в роли козла отпущения, известно, что написано пером – не вырубишь топором. По большей части истинная причина произошедшего никого не интересовала, важно было только следствие – по чьей вине пароход снялся так поздно? Дело усугублялось утверждением самого зама по безопасности Сидоренко, утверждавшего, будто видел собственными глазами в понедельник «Электросталь» на рейде Владивостока, что автоматически возлагало вину на «чифа», несмотря на его возражения и оправдания, принимавшиеся как увиливание от ответственности. Кто знает, что там босс увидел, настораживает день недели – понедельник, может быть, ему приснилось, а может быть, после какого-либо отмечавшегося в выходные события. Но тут и пригодилось письменное подтверждение третьего помощника, сына капитана-наставника Кобцева, отправившего отцу радиограмму ещё в пятницу об отходе судна, против чего у морского начальника аргументов не нашлось – убедили.
После отпуска с направлением кадров опять же на прежний пароход отправился в службу безопасности за их согласием. «Снова на „Электросталь“!» – вроде бы удивился Сидоренко, подписывая направление, из чего следовал единственный вывод – тот эпизод он запомнил надолго.
Соответствующая отметка в карточке у мореплавателей четырежды тормозила выдвижение старшего помощника Корчуна в капитаны, будто в старом анекдоте про украденную шубу: «То ли он украл, то ли у него, но что-то было – пока ещё повременим с выдвижением, а там и посмотрим!»
Теплоходу «Электросталь» оставалось совсем немного до его кончины, последовавшей в 1998 году. Вся жизнь судна уместилась в 32 года начиная с 1966-го. Учитывая все сложности его эксплуатации, срок совсем не малый, недаром он оказался «последним из могикан» из большой серии польских лесовозов.
Май 2025Из рассказов Владимира Тимофеевича Женихайлова
Памяти Женихайлова Вячеслава Тимофеевича

Женихайлов В. Т.
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли!
Марина ЦветаеваУдаром грома поразила весть о смерти Вячеслава Тимофеевича, представившаяся какой-то чудовищной ошибкой. Всего лишь несколько дней тому назад мы разговаривали по телефону после его выписки из больницы. Его голос был бодр, совсем не похожий на тот, когда находился в лечебнице. Он сам поверил в излечение и был полон надежд и планов, не забыв упомянуть, что восстанавливается. Сообщил о скором отправлении в мой адрес рассказов о жизненных эпизодах и пертурбациях, которыми столь богата его жизнь для издания в очередной книге.
Только что опубликован первый и, к глубокой скорби, оказавшийся последним прижизненным 30-страничный очерк в книге 10 «С чего начинается Родина» – обновлённое издание, с которого она и начинается, о его юных годах и сложных жизненных ситуациях. Пусть он и останется памятником нестандартному человеку, обладавшему редкими ныне качествами прозорливого ума, человеческой порядочности, обязательности, далёкого от лести и угодничества. Он в самом деле являл собой самостоятельного, независимого, полного достоинства человека с широкой эрудицией и нравственными принципами, неподвластными сиюминутным веяниям, любящим жизнь во всех её проявлениях. О нём ещё напишем с помощью родственников и близких, хорошо его знавших.
Горька обида на несправедливость судьбы и наша общая скорбь о близком человеке, который благодаря своим жизнелюбивым качествам мог бы жить и жить.
Да будет земля ему пухом, а мы сделаем всё, чтобы память о нём оставалась на долгие годы.
«Живым тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно!»
Скорблю, скорблю, скорблю о потерянном друге и единомышленнике!
Случилось непоправимое, никем не предвиденное горе: 25 мая 2025 года неожиданно скончался Вячеслав Тимофеевич Женихайлов, неординарный лёгкий человек, не доживший немногим менее двух месяцев до своего 83-летия. В больнице, в общем-то, несложная хирургическая операция прошла успешно, и вскоре его, ободрённого и повеселевшего, выписали на волю для последующего восстановления, но, к своему несчастью, там же он подхватил скоротечную пневмонию. Ослабленный организм оказался не в силах сопротивляться, и смерть не заставила себя долго ждать. К глубокому сожалению, приходят на ум слова Высоцкого: «В гости к Богу не бывает опозданий!», к которым нечего добавить. Каждая смерть, ожидаемая или вовсе непредсказуемая, в любом случае неожиданна, повергает близких в ступор, мгновенно и навсегда воздвигая непреодолимую границу между вчерашним прошлым и сегодняшним настоящим, отчего становится самым горестным бедствием для живущих, знавших покинувшего наш мир родного человека. Вместе с ней приходит жалящее душу понимание хрупкости и кратковременности жизни, о котором не задумываешься в вечной суете бытия, когда время, отмеренное тебе Богом, по крупицам, словно в солнечных часах, уносят тёмные воды Леты. Вячеслав Тимофеевич относился к тем немногочисленным людям, о которых говорят, что они никогда не бывают стариками. Ему некогда стареть, постоянно был занят, как в физическом понимании, так и в психологическом, общаясь с многочисленными родными и близкими, не уходя от обсуждения принципиальных вопросов, в которых мог дать фору гораздо более молодым. Он будто подтверждал далеко не всеми принимаемую максиму: образованность никак не зависит от количества ромбиков на лацканах самых разных пиджаков. Был в курсе многих событий, мог поддержать беседу на любую тему, соответственно чему к нему прислушивались, а не отмахивались, как зачастую относятся к людям старшего поколения. Речь до последнего дня оставалась ясной, а суждения конкретными и всегда дельными, никогда не доходящими до столь обычного словоблудия, чем он резко выделялся на фоне многих сверстников и не только среди них.
С Вячеславом Тимофеевичем судьба свела автора этих строк в декабре 1986 года на теплоходе «Приволье», который только что вернулся из почти арктического рейса на Беринговский, Анадырь, Эгвекинот и Провидения, по всем основным портам Южной Чукотки, едва успев сбежать от свирепствовавшей там зимы. Чукотка, хотя и южная, не сильно отличается от северной, да и случающиеся в предзимье ураганы могут дать солидную фору северным циклонам. Об этом рейсе в подробностях написано в книге 1 серии «Район плавания от Арктики до Антарктики». Плавающий подменный экипаж сдал судно изрядно обновившемуся штатному, который вернулся на свой пароход после почти двухмесячного отдыха. В числе новеньких и оказался боцман Женихайлов – худощавый, подтянутый, с проницательными, думающими глазами, в которых угадывалось чувство собственного достоинства, совсем не похожий на традиционно принимаемый образ «дракона». А потом были Япония, Филиппины, Сингапур, Индия, Северная Корея. Можно сказать, из огня да в полымя, если сравнивать арктическую стужу и вскоре наступившие тропики. На судне времена года не подчиняются традиционной последовательности, когда зима может наступить посреди жаркого лета, а тропическая жара во время январских морозов. Заход в японский завод Аиои для установки сепаратора льяльных вод в свете требований подписанной СССР международной конвенции о предотвращении загрязнения моря во Внутреннем Японском море едва не сыграл в будущем злую шутку над стремлением попасть на приёмку нового парохода в судостроительном заводе порта Симидзу. И эта очевидная дурость, замаскированная под столь популярную говорильню о социальной справедливости, упёрлась в какую-то неделю полученных командировочных, хотя причина прозаична и проста, как молдавские дувалы – слишком много желающих даже среди особо приближённых вкусить сладкий кусочек во время приёмки нового парохода в Стране восходящего солнца. Что ни говори, но причина очевидна даже на первой стадии: один день японских командировочных примерно равен месячной сумме «подфлажных» в обычном плавании для матроса в японских иенах, которые ничуть не хуже американских зелёных долларов. Подробно об этом также в уже упомянутой книге 1. Монолог тогдашнего начальника службы кадров плавсостава наверняка бы не остался без внимания острослова номер один союзного значения Михаила Жванецкого, узнай он о нём, но не случилось, а жаль! «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!» – слова из грибоедовской комедии «Горе от ума» яснее ясного объясняют: держись от начальства подальше, ибо от любви до ненависти всего лишь маленький шажок. В нашем времени слова о любви и вовсе выглядят фарисейством, на самом деле всё гораздо проще: ты мне – я тебе.
Уже через несколько дней новый боцман стал настоящим хозяином на судне, не ругаясь, не препираясь, как это часто случается, на удивление его слушались и вовсе не находящиеся под непосредственным началом члены экипажа: машинная команда и обслуживающий персонал. Даже вопрос о его приоритете ни у кого не возникал: всё решилось незаметно, как будто так было всегда и должно стать впредь. Пароход относился к тяжёлым в эксплуатации, с не самыми лучшими, ненадёжными кранами, и к тому же твиндечный, с горизонтальными перекрытиями во всех трюмах. Работать на нём было не сахар, особенно при приготовлении к приёму очередного навалочного груза, но спешки никакой не чувствовалось, и хотя, откровенно говоря, старший помощник был слабоват, но боцмана это ничуть не волновало, скорее наоборот. Никто не мешал ему планировать и выполнять столь необходимые работы, успевая в срок и каждый раз без каких-либо претензий со стороны принимающих грузовые помещения сюрвейеров. Уверенность и настойчивость в преодолении препятствий, не подлежащие сомнениям, являлись его визитной карточкой, увлекая за собой всю команду, включая вечно брюзжащих и недовольных. Но ему редко кто осмеливался возражать и вести пустопорожние разговоры.
Казалось, откуда взялся такой самородок, привязанный к морю незримыми нитями, которому, на первый взгляд, больше бы подходила тога беспристрастного судьи или знающего себе цену директора средней школы. Учитывая присущие черты характера и образованность, не вызывает сомнений, окажись на ином поприще, ему везде бы сопутствовал успех. Боцман был доступен и ровен со всеми, но до панибратства никогда не опускался, да и желания такового ни у кого не возникало при общении с ним, близко к сердцу не допускал. У каждого имеются собственные тайны, но далеко не всякий может их хранить, лишь уверенные, со стальным стержнем внутри люди. В то же время сомнения и определённый критицизм в его словах иногда прорывались, а как же иначе, ведь именно эти качества на протяжении тысячелетий являлись движимой силой прогресса в эволюции человечества. Найдётся немало желающих возразить о критиках-нытиках, но разве не резкая критика закабалённости крестьянства Александром Ивановичем Герценом ускорила отмену крепостного права в России в 1861 году? Или ещё один пример – опала и последующая смерть Суворова, последнего настоящего российского генералиссимуса, не считая опереточной постановки со Сталиным, российским императором Павлом Первым из-за критического отношения полководца к реформам самодержца, ориентировавшегося во всём на прусского короля Фридриха Великого. Опала Суворова, открыто критикующего пропрусские реформы, ненавистные армии, несомненно, ускорила покушение и гибель императора. Смерть Александра Васильевича в 1800 году приблизила осуществление заговора к устранению Павла в 1801 году.
До сих пор известна суворовская знаменитая фраза: «Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, а я не немец, ваше величество, а природный русак!» Экзальтированному императору такой откровенный саботаж пользующегося всенародной поддержкой великого полководца был ножом по сердцу – жгучим и болезненным, обиды он никому не прощал. Однажды во время смотра целый полк отправил в Сибирь, а это как-никак три тысячи человек, скомандовав: «Направо, в Сибирь, шагом марш!» – из-за незначительной оплошности кого-то из служивых. Слава богу, через час-другой придворное окружение уговорило самодура отменить свой нелепый приказ. Скандальное произведение Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в резкой форме обличающее крепостничество, как бы к нему ни относились, повлёкшее 10-летнюю ссылку писателя в Сибирь, всё-таки заставило российскую императрицу Екатерину Великую по-другому взглянуть на рабское положение крестьян. Не надо забывать: события происходили в XVIII веке, более 200 лет тому назад. Окажись он лет на 150 в будущем, в считаные дни оказался бы с продырявленным затылком, пройдя все ужасы Тайной канцелярии, которая не только изменила своё название, но и во многом усовершенствовала изощрённые методы, о масштабах и сказать нечего, настолько они были велики, под стать галактическим. И это всего лишь три примера, а их множество! Ещё французский философ и писатель Монтень в своём средневековье отчеканил фразу, ставшую крылатой: «Душа довольная настоящим, не будет думать о будущем!» Слава ничего не принимал на веру, будто следуя размышлениям Льва Толстого: «Заблуждение не перестаёт быть заблуждением, если за него большинство!» У него на всё имелось своё аргументированное мнение.
О детских и юношеских годах Вячеслава в общих чертах изложено в предыдущей книге 10 «С чего начинается Родина» обновлённого издания, и желающие могут ознакомиться с некоторыми примечательными вехами в течение его полной событиями жизни, в процессе которой хватило бы сюжетных поворотов для не одного романа. Настало время приоткрыть завесу загадочности и ознакомить читателя с некоторыми подробностями детства и юности, когда свершился перелом в осознании мира, понимании хрупкости человеческой жизни, в результате чего произошло становление личностного характера. Весь интерес и ключ к пониманию личности прежде всего таится в деталях. Своего рода верховное озарение, помноженное на сильную волю.
В 1942-м призвали в действующую армию отца и после короткого обучения сразу же на фронт. Убыль в войсках была не менее чем в 1941 году, немцы рвались к Волге. Крупные поражения Красной армии, известные как Харьковская катастрофа и Керченский разгром, не оставили времени на раздумья, страна находилась на грани гибели. Кстати, членами военных советов фронтов были облечённые доверием вождя, соответственно Хрущёв и Мехлис, подмявшие под себя командующих фронтами, немало поспособствовавшие этим крупным поражениям. Не что иное, как воплощение ленинской фразы: «Каждая кухарка может управлять государством!», что обошлось стране в миллионы загубленных жизней, не говоря об астрономическом материальном ущербе. Совсем противоположное утверждению Ивана Андреевича Крылова полуторавековой давности: «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!» Одно дело, когда об этом болтает какой-нибудь не обогащённый интеллектом дилетант, и совсем другое – когда ленинский тезис воплощается в жизнь на государственном уровне, обращая своих граждан в миллионы человеческих трупов – в пушечное мясо.
Срочно создавались резервы, гребли всех подряд – и на фронт, на фронт. Мать, будучи на второй половине беременности, с двухлетним сыном на руках, оставалась в одиночестве, и все тяготы жизни военного времени легли на её плечи на долгие три года, хорошо, она об этом тогда не знала. Человеку свойственно надеяться на лучшее даже в самые критические периоды, в противном случае жизнь теряет свой смысл, а вера способствует выживанию. Отец вернулся только в 1945 году, пройдя через три года войны до самого Берлина, будучи дважды ранен, но живой: были бы кости, а мясо нарастёт. Вначале попал в роту автоматчиков, обосновавшуюся на переднем крае, а потом из-за недостатка шофёров его призвали на грузовик, на котором он доехал до логова зверя. О фронтовых дорогах сложены стихи, песни и даже собственный гимн со словами: «Эх, путь-дорожка фронтовая, и не страшна нам бомбёжка любая, помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!» После военное время немногим отличалось от военного лихолетья, нужда была во всём, с работой в сельской местности большие проблемы, проще говоря – найти подходящее дело практически невозможно, а двое пацанов хотят есть сегодня и сейчас. На фоне этой безнадёги возвратившиеся в орденах и медалях победители, повидавшие жизнь в европейских странах, получали сильнейшие нервные потрясения вдобавок к имеющимся военным ранам и контузиям, не оставлявшие их до конца жизни. Большинство долго на белом свете не задерживалось. Во время войны болеть было некогда, все силы организма были нацелены на выживание, но стоило расслабиться, как все заработанные, дремавшие до поры до времени болячки явились во всей своей безжалостности. В деревнях и вовсе было худо: ни техники, ни лошадей, ни мужиков, ни работы. Говоря словами Владимира Войновича в его сатирическом романе о Чонкине: «Как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы сказать даже – хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже!» Поработав какое-то время шофёром на подменах, не обретя постоянного места, отец завербовался в какую-то геологоразведочную партию и спустя несколько месяцев сгинул в неизвестности, кто знает, может, упал со скалы, утонул в болоте или заболел, да мало ли что могло случиться в столь рискованных предприятиях. Казалось бы, уцелел в кровавой мясорубке – живи и радуйся, ан нет, в мирное время судьба иногда подбрасывает трагические развязки для расслабившихся, считающих, что самое худшее позади, людей. Но, как показало время, расслабляться в нашем царстве-государстве нельзя никогда, оно всегда подкидывает проблемы не для среднего ума – не жили хорошо, нечего и привыкать и даже надеяться, разве что в каком-то далёком неопределённом будущем. Недолго матери пришлось порадоваться, как вновь осталась без мужа, на этот раз навсегда, с тремя малолетними пацанами на руках. Почему Бог оказался столь немилостив к ней, вопрос не для слабонервных. Остаётся только сожалеть: для страны, совсем недавно потерявшей десятки миллионов граждан, жизнь отдельно взятого человека по-прежнему ничего не стоила. Безысходность и нищенское беспросветное существование никак не совпадали с официальными провозглашаемыми лозунгами и призывами. Что матери пришлось пережить в эти голодные и холодные годы, знала только она. В 1951 году мама сочла нужным увезти своих ребят из сельской безнадёги, туда, где можно получить образование, отрешиться от обыденности беспросветного существования, да и с работой будет полегче. Никак не хотела, чтобы кто-нибудь из сыновей повторил её нелегкую судьбу. Решила перебраться к своей сестре, проживающей в Уссурийске, построив собственный очаг из строительных материалов перевезённого из родного села амбара, приткнувшись к дому сестры. Какое ни есть жильё, но своё: двух хозяек у одной плиты быть не может: будь они самыми ласковыми и пушистыми, но как показывает многолетняя практика, вместе надолго не уживутся. Быть приживалкой она в силу своего независимого и упорного характера никак не могла; в самом деле мудрое решение. Сыновья становились старше, а мать постоянно была занята на двух работах, всячески стараясь вырастить своих отпрысков, чтобы они выглядели не хуже других. Старшие подрастали, у них появлялись обычные для послевоенных школьников привычки, когда они старались во всём подражать взрослым, вернувшимся с войны, это было массовое увлечение. Начали покуривать, а немногим позже и выпивать. Жилось очень трудно – постоянная нужда во всём, и вскоре у малыша появилось чувство несправедливости, никогда впоследствии не оставлявшее его. У матери с тремя детьми по потере кормильца пенсия составляла каких-то мизерных 200 рублей, а у рядом живущей соседки с единственной дочерью, сверстницей, пенсия 500 рублей, потому что её отец был военным. Отпрыски штатских, наверное, по мнению властей, намного меньше есть хотят. Дети войны в своём громадном большинстве были безотцовщиной, и их главным воспитателем становилась улица, хотели они того или нет. Для справки: Уссурийск до 1957 года назывался Ворошилов, когда, оказавшись в антипартийной группе близкий сподвижник Сталина, намеревавшийся сместить тогдашнего вождя Хрущёва, потерял своё былое значение, а вместе с этим городу снова вернули первозданное имя. Интересные факты из жизни двух первых маршалов: Будённого и Ворошилова. Первый был трижды Героем Советского Союза, а второй – дважды. Но главное в другом: эти высшие отличительные наградные звания они получили после войны, в 50—60-е годы, по случаю юбилейных дат, но никак не за боевые заслуги, может, оценили, правда, с сильным запозданием, их клинки во время братоубийственной Гражданской войны, но звание Героя Советского Союза учредили гораздо позднее, во время спасения лётчиками челюскинцев. Да и на Героев Социалистического Труда тоже явно не тянули, Ворошилов и вовсе посягнул на очередного вождя, но ему простили. Трудно разобраться в королевстве кривых зеркал.
Отдушиной для Славы послужили книги, которых было немало в бабушкиной библиотеке, и он настолько пристрастился к ним, уносящим в другие сказочные миры, что едва не распрощался со школой. Его портфель вместо учебников был набит художественной литературой, и он читал, читал, читал. Читал на уроках, на переменах и даже на улице. Молчаливым поведением не мешал учителям, и они не трогали его, исправно ставя двойки в журнал. Таким образом Вячеслав установил школьный рекорд по неуспеваемости, и директор школы пригрозила устроить его учеником на завод, что сильно возмутило маму, так ей не хотелось возвращаться к прошлому, всеми фибрами души желая вытащить детей из порочного круга, не сулящего ребятне ничего хорошего в будущем. Разве ради этого, выбиваясь из последних сил, долгие годы тянула на себе тяжкое бремя матери-одиночки, к тому же с тремя детьми? Во второй половине учебного года каждый день до работы у неё начинался с посещения директора. Нависшая угроза не окончить школу сильно подействовала, и Слава, оказавшись у последней черты, включил весь нерастраченный резерв, напряг собственные способности и ликвидировал все хвосты, чтобы получить аттестат зрелости и благополучно окончить школу. Но даже бессистемное чтение много ему дало, именно поэтому он во многом компенсировал школьные пробелы, прибавив к ним изрядные знания общей эрудиции. Правда, впоследствии пришлось самостоятельно восполнять огрехи неусвоенной школьной программы.