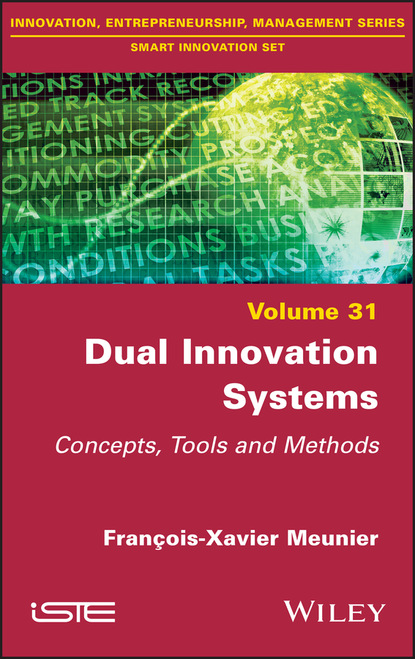- -
- 100%
- +

© Олег Харит, 2025
ISBN 978-5-0065-7848-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Отказ от ответственности
Данное произведение является художественной работой. Все персонажи, события и места, упомянутые в тексте, являются вымышленными или использованы в художественном контексте. Любые совпадения с реальными людьми, живущими или умершими, а также с реальными событиями, являются случайными и неумышленными.
Автор не преследует цели пропаганды каких-либо политических, социальных или философских взглядов, а также не стремится навязать читателю определённую точку зрения. Любые интерпретации остаются на усмотрение читателя.
Произведение не предназначено для использования в качестве юридического, философского или исторического источника. Все описанные ситуации являются частью вымышленного мира, и автор не несёт ответственности за возможные последствия, связанные с прочтением или интерпретацией данного текста.
1
В городе Ламберсене, чьи каменные фасады когда-то, быть может, блистали в лучах юного солнца, а ныне покрылись плесенью вековой скверны, над рекой Гринвилл витал густой туман, смешанный с копотью бесчисленных фабричных труб. Ламберсен горделиво называли «Воротами к Новым возможностям» ещё двадцать лет назад, когда сюда хлынул людской поток из Франции, Швейцарии и даже далёких областей Индии. В те времена пронзительный крик рождающегося прогресса заглушал грохот человеческого страдания, а вывески «Baudelaire & Co.», «Hinrichsen Steamworks» и «Akimoto Iron Foundry» словно обещали, что весь мир сольётся здесь в братском порыве к процветанию.
Однако теперь бурный рассвет промышленной эпохи увяз в болоте собственной темноты. Густой смог, рассеянный по щербатым трущобам, оседал на булыжных мостовых вместе с пеплом надежд. Люди, пришедшие когда-то на зов свободы и богатства, бродили по улицам, словно призраки ушедших эпох, и только вывески сменили свой яркий блеск на застиранную тусклость, отражая бесплотные мечты о прошлом величии.
Именно в этом городе, куда в недавние годы стекались переселенцы с фамилиями вроде Schleifer, De la Rocha, Nilsson или Xu, а ныне не находили ничего, кроме бесконечной череды нищеты и безысходности, жил молодой писарь по имени Томас Бэкфорд. Его биография, если бы хоть кто-то потрудился её записать, вышла бы такой же серой и унылой, как и каменные стены Ламберсена, покрытые слоями копоти и заброшенности. Говорили, что у Томаса когда-то была мать – Сесилия Бэкфорд, итальянка по рождению, вышедшая замуж за человека с немецкими корнями, – но все эти сведения тонули в сумраке приютских слухов да разрозненных архивных записей, которые никто не стремился приводить в порядок.
Томас и сам смутно помнил своё детство: сиротское, неухоженное, наполненное постоянным ощущением голода и страха перед тем, что грядущий день окажется ещё печальнее прошлого. Он рано научился читать, выкрадывая старые газеты и книги из мусорных баков, где попадались прелюбопытные заметки об обманутых вкладчиках и фабричных скандалах, а позднее более сложные литературные произведения, которые в дальнейшем позволили ему углубиться в сложный мир философии и психологии. Оттуда же он почерпнул сведения о мире, в котором правят деньги и страх, где люди с интернациональными фамилиями вроде Meyer, Johansson и Benítez безжалостно используют труд сирот, обещая им мнимые перспективы.
Судьба свела Томаса с тогда ещё не очень известным нотариусом Эдуардом Лейтенбергом, человеком несколько чудаковатым, но способным увидеть в юном пареньке искру способностей. Лейтенберг научил его красиво выводить буквы, составлять официальные документы, не запинаясь в орфографических условностях, которыми славились бюрократические порядки Ламберсена. С тех пор Томас зарабатывал на жизнь тем, что переписывал бесчисленные ведомости для всевозможных контор: португальской «Marques & Sons», смешанной англо-русской «Bratkov & White» и ещё с дюжину других, казавшихся ему одинаково унылыми.
В те дни Томас не мог назвать себя счастливым, но он хотя бы ощущал направление – пусть и зыбкое, расплывчатое, как рассветный туман над Гринвиллом. Он мечтал, что однажды вырвется из духовного плена серых стен и сможет написать книгу, которая затмит своей смелостью бездну лондонских трактатов. Но изо дня в день он осознавал, как тяготеет над ним долг перед реальностью: нужно платить за крохотную комнатушку, нужно покупать чернила и бумагу, а иногда и кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду.
Поговаривали, что во дворцах на улице Роуз-Крофт, где жили богачи с фамилиями вроде Dupont и von Hartmann, да на самых ухоженных бульварах Ламберсена, где властвовали торговые дома De Carvalho & Kramer, тоже бывало неспокойно: за показным великолепием скрывались страсти, порою не менее чёрные, чем в бедняцких переулках. Однако «великие» люди умели умело маскировать свои тревоги под блеском зеркальных карет и громыханием шикарных балов, а нищие жители lower town оставались лицом к лицу со своей обнажённой нищетой.
И вот, когда Томасу исполнилось двадцать три года и в его жизни начало медленно нарастать ощущение, что все пути ведут в болото безрадостной рутины, произошло событие, способное расколоть его привычные представления о будущем и бросить его сознание в бездну, где смешались бы мрачные мысли, страх перед бессмысленностью, о котором стоило бы прокричать во всю мощь лёгких, и отчаянный зов к «прыжку веры», а заодно и холодящее душу признание собственной свободы – свободы пугающей, обнажающей, не дающей укрыться за привычными оправданиями.
Случилось так, что поздним вечером Томас засиживался в конторе «Aldridge & Takanashi», где срочно требовалось переписать кипу документов – они заключали договор с каким-то таинственным французским индустриалистом по имени Жан-Мишель Бонфуа. Коридоры конторы тонули в полусвете, лампы чадили, выжигая остатки воздуха, и никто, кроме него, не оставался там на ночь: слишком уж все устали за долгий рабочий день. За стеклянной стенкой кабинета высился ряд полок с архивными папками, покрытыми пылью, хранителями утомлённой истории промышленного города.
Где-то за стенами во дворе между сгнившими ящиками кошка громко мяукала, словно призывая неведомого собрата. Томас чувствовал, как в зале опускается тяжёлая тишина, нашёптывающая о призраках и далёких мучениях. Он складывал последний пергамент и уже собрался гасить тусклый свет, когда во входную дверь просунули конверт. Таинственное послание, на котором виднелось его имя: «Monsieur Thomas Beckford – Urgent».
Конверт был потрёпан, на ощупь влажноватый, словно хранился под дождём или в сырых подвалах, где плесень царит над остатками покинутых бумаг. Никакого штемпеля, никакого обратного адреса – лишь его имя, выведенное блеклыми чернилами. Томас, понятное дело, насторожился: кто бы мог послать ему письмо, адресованное именно сюда и именно в этот час? Осторожность лягнула его сердце: а вдруг это очередная жестокая шутка коллег, обожающих высмеивать его тихий нрав и бедность?
Но что-то в дрожащих буквенных контурах внушало тревожное благоговение, будто это письмо пришло не от человека, а от более холодной и неведомой силы. Томас вскрыл конверт ножичком и развернул страницы, которые уже начинали крошиться по краям. Его взору предстали строки, разобрать которые поначалу было сложно: почерк ломкий, строчки скачут. Но стоило ему вчитаться, как сердце у него затрепетало, словно птица, угодившая в капкан.
«Дорогой Томас,
Пишу из сумерек собственной жизни, окружённой эхом множества несбывшихся ожиданий. Я – это ты, но из времени, в котором уже не осталось надежды. Тебе, возможно, всего двадцать с небольшим лет, но здесь, куда дошли мои дни, нет ничего, кроме одиночества, горькой старости и осознания того, что все усилия, все дерзания, все мечты бесповоротно разбились о равнодушие мира и мою собственную трусость. Не смей пытаться изменить судьбу, ибо всякая твоя попытка приблизит тебя к тому, от чего ты бежишь…»
Томас застыл, чувствуя, как внутри зарождается холод. В каждой строчке сквозили подробности его детства, неведомым образом известные автору. Про приют на улице Св. Агнессы, про последнюю игрушку – деревянную лошадку, которую он нашёл на помойке. Про натёртую мозоль на правой руке от дешёвого стального пера. Всё это мог знать только он сам, да разве что мистер Лейтенберг, но тот давным-давно отстранился от дел и уехал в Испанию по семейным обстоятельствам.
«Не верь никому, кто назовёт это розыгрышем», – добавлял автор, утверждая, что сам прошёл через горький опыт тщетных попыток что-то изменить: «Я строил планы, искал новых покровителей, пытался выслужиться перед влиятельными лицами, мнил себя героем, который когда-нибудь покинет этот проклятый город. И всякий раз мои действия были не более чем тщетой, ведшей меня к ещё более тяжкому краху. Поверь мне: изменяя дорогу, ты лишь короче срезаешь путь к своей гибели. Оставь надежду и готовься к медленному угасанию».
Это послание впитало в себя весь мрак, о котором писал бы Эмиль Чоран, если бы тот родился посреди фабрик, забытых богом, где лишь ржавчина и тихий стон рабочих служат фоном существованию. Томас вздрогнул: строки словно сжимали его горло, не давая свободно дышать. Он представил себе: вот пройдут годы, он состарится на этом же самом месте, в конторе, без достижений, без семьи, без славы. И что, в конце концов, получит? Гнилое чахлое существование, о котором будет поздно жалеть.
Однако вместе с ужасом в нём взыграл трепет: а если именно тут, на пределе отчаяния, зарождается решение – прыжок веры, сопротивление судьбе, вернее, сопротивление тому, что, возможно, никто не предрешал, кроме него самого? Ведь существуют силы, не подвластные никакому письму. Откуда пришло это зловещее предостережение? Действительно ли оно несёт истину, или же это искушение, проверка, способная указать ему путь к истинной свободе?
В памяти всплыли образы проповедника отца Джулиано Терразаса, итальянца с боливийскими корнями, служившего в полуразрушенной церквушке неподалёку. Тот не раз говорил Томасу: «Величие веры открывается лишь в полной безысходности». Но тогда Томас лишь рассмеялся про себя, считая эти слова красивой метафорой. А теперь, когда письмо стучало в его разум, высекая огненные искры страха, он начал чувствовать, как в глубине его существа прорастает сомнение: быть может, отец Джулиано был прав?
Здесь всплыли мысли: если нет никаких гарантий свыше, если никто не защищён от собственных решений, то Томас отвечает за каждый свой шаг. Но тогда любой шаг, который он предпримет, может оказаться роковым. Может ли это письмо стать самоисполняющимся пророчеством, именно, потому что он попытается избежать предречённой участи? А если он вообще не будет ничего предпринимать, разве это не будет тоже выбором – бегством в пассивную капитуляцию?
От этих рассуждений в душе Томаса прорезалась особая боль, острее даже, чем осознание нищеты. Он ощутил внутри парадокс: свобода, вместо того чтобы дарить ему окрыляющее чувство надежды, вызывала смертельное оцепенение, ведь действовать в пользу новой цели означало добровольно катиться по неведомому склону. Любая тропа могла стать дорогой к гибели.
Вдруг снаружи раздался скрип дверей, и Томас поспешил спрятать письмо в карман: в контору зашёл ночной сторож, мистер Лайонел Чендлер, некогда служивший в военно-морском флоте Его Величества, но давным-давно покинувший службу из-за контузии. Чендлер мельком взглянул на Томаса, пробормотал: «Поздно засиделись, сэр?», – потом, не дожидаясь ответа, пошёл дальше по коридору, проверяя окна и углы на предмет незапертых дверей.
Томас почувствовал, что у него больше нет сил оставаться здесь. Он погасил лампу, забрал свои бумаги и вышел в сумрачный вестибюль, где тени перекрещивались, образуя жутковатые контуры, словно намекая на что-то инфернальное. На улице задул порыв ветра, пронзительно холодного, и он, кутаясь в поношенное пальто, пошёл в сторону своего жалкого жилья, что располагалось на улице Монтгомери, где также квартировались выходцы из Нидерландов и Польши, выгнанные в дешёвые комнаты.
По дороге дождь хлестал по булыжникам, отбиваясь раскатами гулких капель от железных труб. Между освещёнными фонарями клубились пятна мрака, и Томасу казалось, что в этом тёмном пространстве мерцают чьи-то чужие взгляды. Может, то были лишь его собственные страхи, обретшие туманную форму. А может, где-то и вправду прятались воры, которым по нраву извлекать из зазевавшихся путников тощие кошельки.
Рой мыслей кружился в голове юного писаря, и всякий раз, когда всплывали слова из письма – о неминуемой гибели, о никчёмном будущем, – его охватывала дрожь. Но вместе с тем в глубине груди разгорался странный огонёк, что-то похожее на вызов судьбе. Он сам ещё не знал, во что выльется его бунт: в сознательную борьбу или в очередную трусливую отсрочку неизбежного. Но одно было ясно: сегодняшняя ночь положила начало новому витку его существования, когда в центре событий уже не фабричная суматоха и не скучные договоры, а столкновение человека с самим собой – со своим предполагаемым будущим, с отчаянием, тяготеющим над ним, и вместе с тем с возможностью «прыгнуть» в неведомое, о которой шёпотом твердили мрачные, дождём вымытые улицы Ламберсена.
Так начинался путь Томаса Бэкфорда – путь по острию между душной покорностью и ужасающей перспективой свободы, где призраки нашёптывали о тщетности любых усилий, а тайные тени будто преследовали его, внушая мысль о вере, прорастающей в самых безнадёжных местах. Сартр бы, глядишь, сказал, что это всё – его личный выбор, и нет у него права сбросить с себя бремя ответственности. Но Томас ещё не знал, как разыграется его судьба в этом тревожном и сером мире, где голоса голода и угнетённой воли звучали громче, чем стук человечьих сердец.
2
На следующий же день, несмотря на гнетущую усталость и бессонную ночь, Томас Бэкфорд проснулся в своей убогой комнатёнке на улице Монтгомери от заливистого стука в дверь. За непрочной деревянной створкой стояла Элизабет Суарес, аккуратно завернувшая в газетный листик пару свежеиспечённых булочек, чтобы подкормить измученного друга. Её тёмные волосы, собранные в простую косу, напоминали девичью романтику, а в живых карих глазах мелькала искра решительности, будто она была готова бороться с любой несправедливостью, что найдётся в этом пропахшем копотью городе.
– Томас, – сказала она взволнованно, когда тот, одетый в мятую рубашку и с изнеможённым видом, приоткрыл дверь, – ты опять всю ночь просидел за бумагами? Слышала от мистера Лайонела, что ты ушёл из конторы далеко за полночь, а по тебе видно, будто ты не смыкал глаз. Я тебе завтрак принесла – хотя бы поешь!
Томас впустил её внутрь, робко поблагодарив и пытаясь спрятать тревожное письмо в стопку других бумаг, но Элизабет заметила нервную дрожь его рук. Присев на скрипящую табуретку рядом, она почти заставила Томаса откусить от мягкой булочки, из которой исходил аромат тмина и свежего теста. Подъедая нехитрый завтрак, юный писарь машинально посмотрел на оконное стекло, где виднелись следы ночного дождя, а вдали горизонт застилал тот же серовато-коричневый смог, ставший уже привычной декорацией Ламберсена.
– Ты сам на себя не похож, – тихо произнесла Элизабет, разглядывая его осунувшееся лицо. – Случилось что-то ужасное?
Томас замялся, чувствуя, что если он и поведает кому-то о странном письме, то, пожалуй, лишь ей – единственному в этом городе человеку, кто когда-либо проявлял к нему неподдельное участие. С сомнением и страхом он сжался, как ребёнок, ожидающий порицания, но всё же не удержался и выложил перед ней письмо. Элизабет, развернув хрупкие, обветшавшие страницы, недоумённо подняла брови, а затем начала читать. Чем дальше скользили её глаза по словам, тем сильнее бледнело её обычно жизнерадостное лицо.
– Это… невозможно, – прошептала она наконец. – Томас, но ведь здесь написаны такие вещи… Ведь это же твоё детство описано! Но как, скажи мне, как кто-то смог знать такое, если не… Я даже не знаю.
Томас лишь покачал головой:
– Видишь, автор пишет, что он – это я, но из будущего, – он попробовал улыбнуться, но вышла кривая гримаса. – Это звучит как бред или злая шутка. Но есть такое чувство, будто каждое слово пропитано какой-то ядовитой истиной… Я в растерянности, Лиззи. Не понимаю, что теперь делать. Он, то есть я сам, утверждает, что любое движение в попытке изменить судьбу лишь приблизит этот мрачный финал.
Элизабет отпустила листы, словно они жгли ей пальцы, и непонимающе посмотрела на друга:
– Что ж, может, кто-то специально хочет тебя запугать? Чтобы ты ни к чему не стремился, не искал выгоды, а покорно оставался там, где стоишь. Но это ведь не причина опускать руки, Томас! Жизнь и так коротка и тяжела. Если мы перестанем сопротивляться, нас поглотят эти трущобы, эта глухая безнадёга.
В её словах звучал дух сопротивления, и Томас почувствовал в сердце лёгкий укол благодарности. И всё же память о строчках письма наваливалась, как тёмная туча: «Чем активнее ты будешь бороться, тем скорее приблизишь конец». Это утверждение било по его внутренней уверенности, пробуждая в нём ощущение обречённости. Он словно слышал шёпот со страниц: «Никакая попытка не спасёт тебя от крушения».
– Знаешь, Лиззи, – сказал он с натужной серьёзностью, – когда я читал эти строки, то всё внутри меня будто перевернулось. Чувство, что я уже приговорён. Но есть и другая мысль: если автор действительно старый я, значит, у меня ещё есть время до этого «будущего». Вопрос в том, могу ли я совершить что-то такое, что порвёт эту цепь событий?
– Конечно, можешь! – возразила она горячо. – Разве не для того и дана нам воля, чтобы мы выбирали собственный путь?
В этот миг из-за двери послышалось ещё несколько громких ударов. Оказалось, что это был владелец комнатушки, который был вечно недовольный, мистер Хайнрих Гроссманн, немец по происхождению, который держал пансион и постоянно жаловался на неплатёжеспособных жильцов. Его грубый голос прорезал воздух:
– Господин Бэкфорд! Вы просрочили арендную плату уже на три дня. Если до вечера не будет денег, освобождайте помещение. Мне всё равно, какие у вас сложности: или платите, или ищите, где ночевать!
Элизабет поморщилась: подобный ультиматум прозвучал, как звон колоколов, возвещающих о надвигающейся катастрофе. Томас резко встал, накинул на себя плащ:
– Я должен пойти к мистеру Муррею в «Moore & Gustavsson». Может, выпрошу аванс. Если не получится, я и правда останусь без крыши над головой.
Он спрятал зловещее письмо во внутренний карман, чувствуя, что оно словно обжигает ему сердце. В его сознании шевельнулась мысль о том, что вот она, экзистенциальная пропасть: сделать рискованный шаг, попросить одолжение у начальства, потерять последние гроши гордости, или покориться судьбе? Но покорность – это же тоже шаг, и кто знает, не приблизит ли она тот самый ужас, о котором предупреждают страницы из будущего?
Элизабет согласилась пойти с ним. Они вместе выскользнули на улицу, где им в лицо тут же ударил резкий порыв ветра, перемешанного с копотью. По дороге к офису они увидели, как у мостовой Харрисон-Бридж толпа людей возмущённо окружила городового: рабочие с фабрики «Akimoto Iron Foundry» кричали о несправедливой задержке зарплат, требовали хлеба и честного расчёта. В воздухе стоял горький запах человеческого отчаяния и едва сдерживаемой ярости. На плакатах, которые держали в руках протестующие, указывались лозунги на разных языках: «Долой обман!» – по-английски, «Да здравствует правосудие!» – по-французски, «Свободу трудящимся!» – по-немецки.
– Элизабет, смотри, – пробормотал Томас, стараясь прокладывать путь через толкучку, – здесь готовится бунт.
– Бунт против чего? Против всей системы, которая не даёт людям поесть досыта! – горько добавила она. – Но ведь государство отвечает дубинками на любые возражения.
И действительно, у каменных перил моста стоял отряд полицейских во главе с инспектором Фрэнком Фицджеральдом, ирландцем, известным своей жёсткой позицией. Они уже готовились разгонять толпу дубинками. Один из рабочих с алыми глазами и густой чёрной бородой – судя по акценту, чех по имени Ян Дворжак – выкрикнул:
– Вы, продажные псы! Мы только хотим вернуть наше кровное! Мой ребёнок голодает, жена болеет, а вы спасаете карманы тех, кто сидит в своих дворцах под фамилиями вроде De Carvalho!
Инспектор Фицджеральд холодно улыбнулся:
– Расходитесь по домам, иначе получите то, чего ищете.
Слова эти прозвучали угрожающе, и Томас на миг задумался: а разве не это ли бессилие и есть истинное лицо Ламберсена? Та же самая мрачная энергетика, от которой хочется бежать, но нет сил. В голове вдруг зашевелилась мысль, глухо повторяя, что всякое восстание обречено, что любой протест заканчивается угасанием. И всё-таки люди продолжали бороться, как и он сейчас идёт просить милостыню у начальства, будучи ничтожным писарем.
У офиса «Moore & Gustavsson», чья вывеска потрескалась и облезла, они столкнулись со старшим клерком, Филипом Ховартом, сухим, как тростник, человеком с остатками горделивых манер. Тот, увидев Томаса, презрительно приподнял подбородок:
– Ах, Бэкфорд, явились наконец. У нас для вас есть срочная работа – целая кипа новых отчётов, и да с утра требуется! Наверное, хотите свой аванс?
Томас сглотнул комок в горле:
– Да, мистер Ховарт. У меня тяжёлые обстоятельства, я бы… я был бы благодарен, если бы контора выплатила мне хотя бы малую часть.
Клерк насмешливо провёл взглядом по его измятой одежде и усталой фигуре:
– Ну, посмотрим, что скажет мистер Густавссон. Хотя и без того ясно: лучше не доводить ситуацию до взыскания. Вы ведь знаете, как быстро можно лишиться места, когда вокруг очередь желающих занять ваше место. Людей нынче много, а работы мало.
Элизабет хотела вступиться, но Томас жестом попросил её сдержаться. Они прошли в кабинет, выложили перед мистером Олафом Густавссоном – шведом с тяжёлым взглядом и крупными загрубевшими руками – всё, что переписали за последние дни. Густавссон пробежался по документам, крякнул, пробормотал что-то о неряшливом почерке в последнем абзаце, а потом скривил губы:
– Ладно, Бэкфорд. Пока возьмите эти несколько шиллингов. Но учтите: если сорвёте сроки, ко мне не лезьте. У меня сейчас контракт с мсье Бонфуа – человеком важным, щедрым, но требовательным. Одни промедления, и я лишусь сделки, а вы, соответственно, работы.
Он бросил Томасу в ладонь пригоршню монет. Элизабет сжала руку Томаса, подавая ему немую поддержку, и они, раскланявшись, двинулись к выходу. Но в дверях столкнулись с резким порывом ветра, приближающегося с улицы вместе с очередной волной криков: судя по шуму, протестующие двинулись по набережной, и кое-кто из них, возможно, рвался сюда, к офисам, в надежде выбить правду.
Как только они оказались на тротуаре, послышались громкие возгласы, а затем звон битого стекла. Оказалось, что несколько разбушевавшихся рабочих швырнули камни в окна роскошного кабинета «Aldridge & Takanashi», и осколки летели брызгами на брусчатку. Полицейские начали оттеснять толпу, лупя дубинками тех, кто оказывался в первых рядах.
– Надо убираться отсюда! – крикнула Элизабет, подхватывая Томаса за локоть.
Но лишь они сделали пару шагов, как из-за угла вынырнула группа агрессивно настроенных оборванцев. В лице одного из них Томас узнал Руперта Кеннеди, бывшего служащего доков, которого недавно уволили без выходного пособия. Лицо у Кеннеди исказилось яростью, а взгляд скользнул по Томасу и Элизабет с отчаянным безумием.
– Убирайтесь, клерки! – прорычал он. – Вы все заодно с этими богачами! Вы пишете их чёртовы приказы об увольнениях, пересчитываете их грязные денежки! Идите прочь, или я вам покажу, что значит жить без гроша!
Томас инстинктивно задрожал: нельзя сказать, что он вовсе не сочувствовал Кеннеди, ведь и сам еле-еле сводил концы с концами. Но объяснять это разъярённой толпе было бесполезно. Один неосторожный ответ – и их могут втоптать в грязь. Он тихо проговорил:
– Мы не желаем зла, друг. Мы просто хотим выжить, как и вы.
– Молчи! – взревел кто-то из стоящих рядом, уже занося палку над головой. – Надоели подхалимы хозяев!
В последний миг рядом вырос инспектор Фицджеральд со своими подручными, буквально отталкивая бедняков в сторону и создавая коридор. Элизабет потянула Томаса мимо этого коридора, стараясь не встречаться глазами с протестующими. Подняв воротники, они нырнули в проулок, огибая следующий ряд зданий. На сердце Томаса лежала свинцовая тяжесть: он понимал, что взятого аванса хватит лишь на недельную аренду, а что дальше? И это ли не подтверждает страшные слова письма – мол, каждый шаг ведёт к ещё большему хаосу и несчастьям?