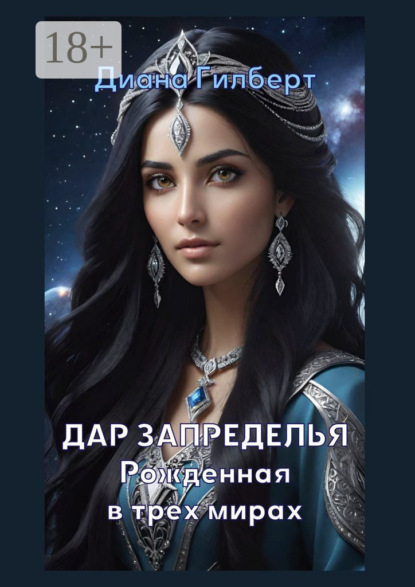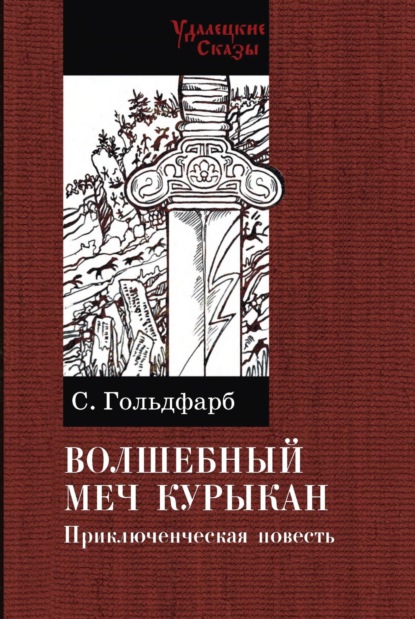Наследники скорби

- -
- 100%
- +
– Куда это он? – изумился Строк.
– За Хлюдом. Потолковать мне с ним надо.
Отец приосанился и важно огладил бороду. Родительское сердце исполнилось гордостью за сына. Сам посадник к нему явится! Жаль, Млава не дожила. Украдкой смахнув слезу, Строк со вздохом посмотрел на Тамира. А может и к лучшему, что мать не видит его? Сколько раз блазнилось отцу, как возвращается сын, входит в дом, обнимает его. Ждал сына родного. А приехал мужик чужой. От Яськи нет-нет да услышишь слово ласковое. А этот вон молчит, будто камень. А ежели чего и скажет, словно крапивой стеганёт. Злая наука стесала с приветливого улыбчивого паренька всю радость.
Когда посадник постучался в дом, старый хлебопёк уже начал подрёмывать, убаюканный тишиной и собственными путаными мыслями.
Хлюд стоял в дверях принаряженный: в новых портах, в хрустящей от чистоты рубахе и скрипящих сапогах. Городской голова отыскал глазами сидящего под воронцо́м[10] колдуна, поклонился в пояс и степенно произнёс:
– Мира в дому.
– Мира, – отозвался наузник, поднимаясь.
Хлюд неловко переминался с ноги на ногу, поджимал растёртые тесными сапогами пальцы, а в душе клял жену, заставившую его надеть обнову, но испросить позволения сесть не решался.
– Малец сказал: дело у тебя до меня есть, – начал посадник, но под немигающим взглядом тёмных глаз стушевался.
Если бы не сказал Яська, что к Строку сын приехал, Хлюд сроду не признал бы Тамира. Но всё одно: с прежним Тамиром посадник знал, как говорить, а с новым как – пока не ведал.
– Есть. Идём, потолкуем. – Колдун кивнул гостю на двор.
Хлюд вышел на свежий воздух, глубоко, с наслаждением вздохнул и выжидающе посмотрел на обережника.
– Вот что, Хлюд. Ты в Елашире – всем суд и совесть. Просьба у меня к тебе: после смерти отцовой за Яськой присмотри. Ему всё добро оставляю. Он же и дело родовое продолжит. Упреди, чтоб ни гвоздя со двора не пропало. Ну как обдурят парня ловкачи какие. Об упокоении отца сам условлюсь, а ты проследи, чтоб стол поминальный не бедный был. – В руку Хлюду лёг кошель с монетами. – Коли останется что, парню отдай. Не чини ему обиды, он и так натерпелся. Отцу ни слова не говори. Пусть спокойно век доживает.
Посадник понятливо кивнул, пряча кошель.
– Как скажешь, так и сделаю, Строкович, не держи за душой[11].
Тамир благодарно кивнул.
– Хвала.
– Мира в пути.
– Мира в дому.
На том и разошлись.
Посадник только подумал, что Строк совсем из ума выжил. Уж и скаженному ясно: не будет колдун с опарой возиться, когда от ходящих роздыху нет. Чуть не целые веси пропадают, а Строк всё одно только о караваях печалится!
Забравшись на лошадь, Хлюд отправился домой, гадая, как сын старого пекаря, толстомясый, добродушный и бесхитростный, переродился в Цитадели в этакого мужа, которого со Строком даже в дальнем родстве не заподозришь. Эх, засватать бы этого чернеца-молодца за молодшую дочку! Была б за ним девка, как за каменной стеной: и в сытости, и в довольстве, и под приглядом. А ещё среди этих дум у Хлюда нет-нет да мелькало желание взгреть сварливую жену за то, что заставила напялить новые сапоги.
* * *Едва не до темноты Тамир просидел у сторожевиков. В городе о ту пору находились двое из тройки: Ель, выученик Дарена, да Стёх, выученик Лашты. Они покинули Цитадель пару вёсен назад и с той поры там не появлялись, лишь передавали с оказиями оброчные деньги. Целителя Тамир не застал: Нияд уехал по окрестным весям договариваться с травниками, чтобы заготовили сушенины.
До самого вечера обережники делились новостями: кто как доучился, кого куда отправили, появились ли новые креффы, не сгиб ли кто из нынешних, нет ли вестей с дальних весей, где особенно неспокойно.
– У нас этой зимой оборотней поналезло без счёта. Чуть не через стены перепрыгивали, клятые! – говорил Ель в сердцах.
– И покойника нынче пока отчитаешь, едва не всю кровь из жил сцедишь, – вторил Стёх. – Иной раз и дважды, и трижды заговор творишь, и резами всё исчертишь, а он, глядь, поднялся через пару суток…
– Мать мою ты отчитывал? – глухо спросил Тамир.
– Я. Нешто не так что?
Обережник покачал головой.
– На совесть всё сделал. И я бы лучше не смог.
– Ты бы… – Собеседник усмехнулся. – Коли ты бы дар видел, так повыше Донатоса сидел бы в креффате.
– Хорошо, что не умею, – ответил Тамир. – Ездить да выучей искать то ещё терпение нужно. У меня таких запасов нет.
– Дай Хранители, чтоб находились они, а то, говорят, по Клесховым сорокам ни одного не сыскали. А ведь он допрежь не ошибался. – Ратоборец помрачнел.
Все трое замолчали. А что скажешь? С каждой весной ходящих всё больше, сила их растёт, а в людях дар словно угасает. И отчего, почему – непонятно. Только Тамир знал, что вина за происходящее лежит на них, на осенённых. Точнее, на одном из них. Только болтать о том обережник не собирался. Да и разве ж поверят ему, ежели он скажет, что самого Встрешника видел?
Перед уходом сын Строка попытался всучить колдуну из сторожевой тройки кошель – плату за отца. Но тот лишь отмах-нулся.
– Хранителей побойся! Нешто ты б с меня денег взял, попроси я мать или сестру упокоить? Иди себе, коли буду я и дальше тут, в сторожевиках, всё в посмертии для отца твоего сделаю. А не буду, так Ель попросит – другой сделает. Мира в пути.
На том и расстались.
Забрав от сторожевиков оброчные деньги, Тамир отправился домой. В сенях его ждал завернувшийся от вечерней прохлады в меховое одеяло Яська.
– Господин, ты в который день уезжаешь?
– Хочешь сказать, загостился? – усмехнулся гость.
– Что ты, что ты! – Паренёк испуганно замахал руками и покраснел, собираясь с духом. – Я… это…
Он замялся, а потом выпалил на одном дыхании:
– Вызнать хотел, что за хлебы ты диковинные пёк? Я у батюшки твоего спрашивал, а он говорит, не знает.
Тамир улыбнулся.
– Нет в том никакой тайны: ежели душу вложишь, всё получится, – сказал, а сам почувствовал, как в горле вдруг запершило.
Лишь в этот миг понял обережник, что ничего от него прежнего не осталось. Только память. Да и та уж поблекла, выцвела. Будто и не с ним всё было. Будто не его то были мечты, не его надежды. Оттого, видимо, следующие слова он произнёс мягко, без прежней отрывистой сухости:
– Ты, Яська, помни главное: хлебы твои – это чья-то радость. Испортишь замес, значит, радости кого-то лишишь. Ну, сам подумай: не поднимется опара, сделаешь калач, а он выйдет сухарь сухарём. Купит его парень какой-нибудь, чтоб зазнобу свою побаловать, а она об этот калач зуб сломает.
Мальчишка прыснул, а Тамир вдруг, сам не зная зачем, потрепал его по вихрастой макушке.
– Дело своё делай так, чтобы тебя за него словом добрым вспоминали.
Почувствовав затылком отеческое касание ладони, Яська осмелел и попросил:
– А пойдём завтра утром попробуем?
Колдун посмотрел на него с горькой улыбкой, будто раскрасившей его жёсткое бледное лицо.
– Дурень ты. Кто ж этот хлеб купит?
Паренёк непонимающе захлопал глазами. Его детский умишко ещё не охватывал всего, что мигом разумеют взрослые.
Тамир пояснил:
– Забыл, как давеча блевал, когда я тебе мяса своим ножом отрезал? Колдунов, Ясень, все сторонятся. Мертвечину мы за руку водим. И нет той воды, которой я отмоюсь.
То ли оттого, что назвал его наузник взрослым именем, то ли оттого, что объяснил хорошо, но мальчишка уразумел: такого, как стоящий рядом мужчина, к покойникам зовут, а не к печи. Боятся люди колдунов. Боятся до одури. Как и сам Яська боится.
Утром Тамир уехал. Обнял отца, оставил на столе тяжёлый кошель с монетами, мол, чтоб горшки в печи пустыми не стояли, и был таков. Строк украдкой смахивал слёзы, глядя вслед сыну. Старик не спрашивал, куда и зачем он едет и какая нужда его гонит. Сердцем понимал, что всё тут нынче чужое Тамиру: и город, и дом, да и сам он. А потому лишь молил Хранителей послать его единственному ребёнку мира на том нелёгком пути, который суждено ему пройти в одиночестве и беспросветной мгле.

Глава 2
Когда из-за деревьев показались заострённые брёвна тына, Ихтор подумал: мерещится. Он прищурился, однако заимка никуда не делась. Над крепкими воротами был прибит волчий череп, который, согласно поверьям, должен отпугивать оборотней. Но здешние обитатели не полагались на одни лишь выбеленные ветром и непогодой кости: столбы частокола покрывали обережные резы. Надёжно поставлено.
Целитель направил лошадь к воротам, постучал. Он пробирался через чащу уже сутки и за это время не встретил ни одного поселения. Три оставленные позади веси не подарили ему встречи с осенёнными, оттого был странник безрадостным, да ещё и уставшим.
На стук из-за ворот донёсся звонкий крик:
– Что ж ты дубасишь-то так, вражина? Калитку со столбов снимешь!
Тяжёлая створка распахнулась, явив чужаку молодую стройную девушку с белым веснушчатым лицом и косой цвета палой листвы. У девушки были широкие прямые брови, глаза удивительного тёмно-янтарного цвета и полные красивые губы. Одета она была просто: длинная рубаха, безыскусно вышитая по подолу суровыми нитками, и ношеная безрукавка.
– Ой… Никак обережник припожаловал в глушь нашу? – удивилась обитательница заимки и отступила, пропуская странника.
– Мира в дому, – сказал он.
– Мира в пути, – эхом отозвалась девушка.
Ихтор въехал во двор и неторопливо спешился. Он знал: его изувеченное лицо пугает женщин, а потому давал хозяйке время привыкнуть, чтобы не дичилась и не отводила смущённо взгляд.
Целитель в который уж раз подумал: а не послать ли всё к Встрешнику и не спрятать ли увечье под повязкой? Останавливало его лишь то, что под тканью кожа нещадно потела, а старые шрамы принимались нестерпимо зудеть.
Ладно, пусть смотрит, чего уж.
Он повернулся.
Девушка улыбнулась, откинула тяжёлую косу за спину и весело сказала:
– Долгонько, господине, ты странствуешь. Вон конь-то тяжело как ступает. Замаял ты его. Ну, идёмте, отдохнёте оба.
Ихтор с удивлением посмотрел в её открытое ясное лицо. Его впервые встречали так, будто давно знали. И не только знали, но и ждали. Видят Хранители, это настораживало.
– Благодарствуй, хозяюшка.
Незнакомка кивнула в ответ и весело сказала:
– Меня Огняной зовут. Проходи, баня как раз натоплена.
Она поманила его за собой. Обережник задумчиво смотрел в прямую спину и на золотистое марево волос. Странная девка. Не испугалась.
– Как же тебя на нашу заимку-то вынесло? – тем временем удивлялась Огняна. – Завсегда все мимо ездили, болот здешних сторонясь. Идём, идём…
Ихтор настороженно озирался. За тыном раскинулся просторный двор с клетями, крепкой избой и сеновалом. На верёвках, натянутых вдоль забора, реяли несколько постиранных мужских рубах. И всё-таки как будто чего-то не хватало. Обережник силился понять и вдруг сообразил: будка собачья стояла пустой, и пёс на появление чужака не отозвался, не принялся брехать.
– А где же дворняга-то твоя, хозяюшка? – спросил удивлённый крефф.
Девушка обернулась и одарила его печальной улыбкой, сделавшись ещё милее.
– Волк нашего Рыка разодрал на охоте. Нового пса братья с отцом из города должны привезти. А может и двоих – кобеля да суку. Пускай себе плодятся. А то сиротливо без лая. Бояться-то нам некого за забором таким, но что за двор без собаки? Кошки мои… – Она махнула рукой куда-то в сторону. – И те затосковали.
Ихтор усмехнулся. Кошек на подворье обитало великое множество: три спали, вытянувшись на солнцепёке, две лениво вылизывались на пороге клети, а ещё несколько катали в пыли берестяной завиток.
– Богато, – признал целитель.
Огняна хмыкнула.
– Меня недаром братья кошачьей мамкой кличут. Иные котят топят, а у меня рука не поднимается. Вот и живут.
Крефф покачал головой.
– А как же они с псом ладили?
Девушка пожала плечами.
– Да никак. Они к нему и не подходили. А коли рыкнет – порскнут в разные стороны и ищи их, свищи. Кошка же в любую щель юркнет, лишь бы голова пролезла. А ему, лобастому, куда за ними гоняться? Полает да отойдёт. Нам смех, ему развлечение. Так ты в баню-то пойдёшь?
Обережник кинул. После суток, проведённых в седле, хотелось отдыха.
– Ну, идём, провожу. А как намоешься, накормлю. Только воды много не лей: может, нынче братья с отцом воротятся, им тоже освежиться захочется.
– А где муж твой, дети? – спросил идущий следом Ихтор.
Хозяйка была молода, но в возрасте далеко не девичьем. Уж за двадцать, небось. Однако покрывала, как мужняя, не носила. От внезапного вопроса обитательница лесной заимки замерла, а потом сказала негромко:
– Сгиб муж. Волколак его задрал. А детей нажить не успели.
Целитель виновато промолчал. Огняна была живая и беззаботная. Не верилось, что за спиной этой яркой, словно солнечный день, женщины стояла тень страшной потери.
Когда Ихтор вышел из бани, хозяйка сидела на лавке возле избы и трепала рыжую кошку, заставляя ту вырываться, сердиться и шипеть. Завидев креффа, девушка кивнула ему.
– Идём, накормлю тебя.
В доме целителю показалось, будто он уже не раз здесь бывал. Что верно, то верно – деревенские избы похожи меж собой. Но и сама Огняна будто источала тепло, а потому рядом с ней всё казалось родным, даже стены незнакомого ранее жилища.
– Садись. – Хозяйка указала на скамью. – Похлёбка у меня пшеничная да лепёшки.
И принялась сноровисто накрывать на стол. Утвердила исходящий паром пузатый горшок, миску, ложку. В деревянный ковш-уточку налила холодного кваса, принесённого из погреба, выложила на плоское блюдо лепёшки.
– Что? – смутилась девушка. – Что ты так смотришь?
Крефф покачал головой и молча принялся есть. Ему не хотелось ничего говорить. А Огняна больше ни о чём не спрашивала. В избе было тихо и уютно.
Ихтору вспомнилось детство: отчий дом, уже почти забытая мать. В их избе тоже было тихо и уютно. А летом в раскрытую дверь се́нцов[12] заглядывало солнце, расстилалось длинной полоской на дощатом полу, и видимые в его лучах пылинки медленно кружились.
– …с тобой?
Обережник очнулся. На несколько мгновений он так глубоко ушёл в свои мысли, что не услышал вопрос Огняны.
– Что?
– Случилось чего с тобой? – повторила хозяйка, кивнув на его обезображенное лицо. – Зверь напал?
– Напал, – сказал Ихтор. – Оборотень.
– Ой… – Девушка покачала рыжей головой. – Страсть-то какая!
Крефф пожал плечами. Он по первости долго привыкал к своему уродству, но вёсны шли, и он смирился. Он уж и забыл, каково это – смотреть на мир двумя очами. Забыл, каково это, когда девки не шарахаются, а бабы и старики не смотрят с жалостью.
– Девки-то, небось, тебя боятся? – Огняна будто прочитала его мысли.
– Ты-то не испугалась. – Лекарь усмехнулся.
Обитательница заимки рассмеялась.
– В нашей глуши люди так редко бывают, что каждый за радость. А стать мужская не в красоте. – Янтарные глаза сверк-нули.
– А в чём же? – спросил Ихтор, дивясь смелости вдовушки.
Огняна и тут его поразила.
– Стать мужская здесь. – Она легонько постучала пальцем по здоровому виску гостя, потом задумалась и добавила: – И здесь. – Тёплая ладонь слегка коснулась широкой груди. – С лица воды не пить. А мужик добрым должен быть и умным. С таким хоть век живи – горя знать не будешь. Ну, наелся ты?
– Да, благодарствуй.
Ихтор отодвинул миску и посмотрел в отволочённое[13] окно. На лес опускались сумерки. Обережник перевёл взгляд на хозяйку.
– Сегодня родичи твои вряд ли воротятся. Темнеет уже.
Огняна грустно кивнула.
– Небось, на торгу задержались иль свататься поехали. Отец хотел парням невест сыскать. Они уж взрослые у нас. По восемнадцать вёсен.
– Двойняшки? – спросил Ихтор с улыбкой.
Собеседница с усмешкой махнула рукой и ответила:
– Тройняшки. Всю душу мне в молодчестве вымотали. Мать-то через четыре весны умерла. Отец нас один тянул. Я помогала. Хотя чего я там напомогать могла, в двенадцать-то вёсен. Эх…
Огняна горько покачала головой. А целитель залюбовался её живым лицом, выражение которого так часто менялось с весёлого на грустное и наоборот. Следующий вопрос, неловкий, неуместный, сорвался с губ сам собой:
– А тебя повторно что ж не сговорили?
Сказал и осёкся. Но хозяйка не обиделась, посмотрела на него серьёзно и ответила:
– А ты бы сыну своему бабу вдовую да бездетную, стал сватать? – И тут же улыбнулась, заговорила о другом. – Ты мне лучше скажи: почто в глушь нашу забрался? Ищешь кого аль заплутал?
Крефф улыбнулся.
– Детей с даром ищу.
– Обережников, что ли? – удивилась Огняна. – Ишь ты. Вот ведь доля у вас… – Она покачала головой. – Тяжко, поди, ярмо это нести?
Целитель сперва не понял, о каком ярме она толкует, но через миг сообразил.
– Дар, что ли?
– Ну да. – Собеседница кивнула. – Поди, иной раз хочется просто дома у печи посидеть. Кота вон погладить. Хоть какой, да уют. Не всё ж в седле с утра до ночи трястись.
Ихтор сызнова улыбнулся. Говорить с ней было легко и приятно. А ещё в Огняне необъяснимо соединялась детская прямота, девичья прелесть и женская мудрость. Ответить лекарь не успел, потому что в сенях яростно завыли коты.
– Ах вы проклятущие! – Огняна всплеснула руками и выбежала из избы.
Ихтор с усмешкой слушал, как она распекает хвостатых крикунов:
– Ишь, бесстыжие! А ну кшыть! Гостя не тревожьте!
Она ещё и ещё честила своих подопечных, но беззлобно, больше для отвода души. А воротившись в избу, принялась стелить Ихтору на лавке у печи, за занавеской. Там, где, видать, спала сама.
– Да ты ложись, ложись. Они и до утра орать могут. Но если совсем разбуянятся, я выйду и спугну их, чтоб не мешали. Отдыхай.
Кошачьи вопли его не смущали, но крефф кивнул, улёгся и с наслаждением вытянулся на широкой лавке. Мягкий сенник пах сухой травой и домом. На печи, будто убаюкивая уставшего путника, раскатисто урчала кошка. За занавеской слабо тлела лучина, и слышался тихий шелест веретена – Огняна села прясть.
Ихтор закрыл глаза. Сквозь дрёму он слышал, как хозяйка сызнова шикнула на завывавших котов, как те обиженно взвизгнули, когда она кинула в них ветошью. Потом разобрал шуршание одёжи, то Огняна забралась на печь и укрылась одеялом. В избе стало тихо и темно. От осознания, что где-то рядом спит девушка с рыжими пушистыми волосами, креффу сделалось теплее на душе.
Утром Огняна накормила его кашей и блинами, завернула этих же лакомств в холстину, напутствовала:
– На вот, поешь в дороге. Встрешник с этими горшками, выкинешь. Уж чего-чего, а горшков мы налепим. Бери, бери!
Она столь ласково и настойчиво уговаривала, что Ихтор не смог отказаться от вкусной домашней стряпни. А ещё ему вновь поблазнилось, будто Огняна – родной человек. А от заботы родни как отнекаешься?
Целитель убрал снедь в перемётную суму и ощутил, как в душе шевельнулась грусть. Захотелось однажды сюда воротиться, а паче чаяния вовсе не уезжать. Задержаться. На день. Два.
Поэтому обережник сухо поблагодарил хозяйку и направил коня со двора. А она стояла в распахнутых воротах и смотрела вслед.
– Эх, горе ты горькое, – пробормотала вполголоса и закрыла тяжёлую створку.
* * *Ихтор решил остановиться на привал, чтобы дать роздых жеребцу. Спешился, погладил животинку по дёргающейся шее. Конь беспокойно прядал ушами. Видать, в чаще рыскал зверь. Обережник прислушался. Тихо. Только ветер шелестит в кронах.
– Ну что ты? Что ты, – ласково уговаривал крефф жеребца.
Мало-помалу спокойный голос хозяина подействовала на животное.
Вскоре целитель снял поклажу и отпустил коня пастись. Однако тот нет-нет да вскидывал беспокойно голову и фыркал. Потому, устраиваясь поесть, обережник всё-таки положил под руку оружие. Ну как, правда, вынырнет из чащи хищник?
Неторопливо доедая остывшую кашу, Ихтор заметил возню возле лежащей в траве перемётной сумы. Прислушался. Отрывистое, негодующее мяуканье. Ещё одно. И ещё. Крефф удивлённо отставил в сторону Огнянин горшок, подошёл к поклаже и наклонился. Рядом с мешком извивался запутавшийся лапой в завязках рыжий кот.
– Ты откуда? – спросил обережник, поднимая находку за холку и поворачивая то так, то эдак.
Кот безропотно висел, не пытаясь вывернуться. Был он рыжий-рыжий, но не полосатый, а будто в тёмно-ржавых разводах. Подпушек оказался жёлтым, как и глаза, с надеждой заглядывающие человеку в душу.
Целитель хмыкнул, перевернул находку, подул между задних лапок. Кошка. Нежданная попутчица возмутилась таким обхождением, вырвалась, стукнула креффа лапой и неторопливо двинулась к горшку с кашей. Опустила туда морду и принялась чавкать. Ихтор рассмеялся. Одна из Огняниных подопечных. Видать, юркнула утром в суму, а выбраться не смогла.
– Как же назвать тебя? – задумчиво спросил крефф. – Огняной?
И сам усмехнулся неловкой шутке.
Знатную памятку оставила о себе вдовушка. Куда там горшкам.
Тяжёлой ладонью Ихтор погладил тонкую спинку с выступающими позвонками и сказал:
– Будешь Рыжкой.
Кошка вынула морду из горшка, посмотрела на человека янтарными глазами и тут же воротилась к прерванной трапезе. Впрочем, вскоре она отошла в сторонку и принялась умываться. Ихтор, посмеиваясь, доел остатки каши и, подхватив неожиданную спутницу на руки, вытянулся с ней на траве.
Некоторое время все трое нежились: конь пощипывал молодую траву, кошка мурлыкала под руками, а человек дремал. Потом отправились в путь. Рыжка сызнова юркнула в суму, высунула морду и посматривала на проплывающие мимо деревья.
В последующие седмицы Ихтор не раз ловил себя на мысли, что, вероятно, стареет. А как ещё объяснить невесть откуда взявшиеся в наставнике Цитадели мягкость и заботливость? На него и в весях глядели с недоумением – обережник с кошкой… Однако Рыжка была полна достоинства: с котами не зналась, шипела на собак, играла с детьми, держалась ближе к своему человеку, царапала его, ежели надоедал, обижалась, ежели не надоедал, и уходила спать в его сапоги. Словом, вела себя как всякая кошка, а в день отъезда важно восседала на перемётных сумах, ожидая, когда её устроят с удобствами.
К окончанию странствия Ихтор и Рыжка так сроднились, что и спали, и ели только вместе, несмотря на удивлённые взгляды людей. Стоило целителю улечься, рыжая спутница тут же взбиралась ему на грудь и принималась громко, старательно урчать. За столом она сидела на коленях у хозяина, норовя засунуть в тарелку морду вместе с усами. А когда получала за это щелчок по носу, обижалась, гордо разворачивалась, провозила хвостом по содержимому миски и уходила.
В последний раз Ихтор не выдержал и щёлкнул по розовому носу особенно сильно. Рыжка выказала человеку всю глубину своего негодования, напакостив на сапоги, а затем злорадно слушала из-за печи ругань. После этого обережник выудил кошку, засунул в перемётную суму и плотно завязал горловину. Рыжка обиженно завывала всю дорогу, потом устала и уснула под мерное покачивание. А проснулась лишь тогда, когда человек извлёк её из мрака седельной сумы на залитый солнцем огромный двор.
Кошка стремительно вскарабкалась по рукаву рубахи на плечо креффа и испуганно зашипела, глядя на каменную громаду невиданной высоты.
– Вот и приехали, – сказал Ихтор, осторожно снимая спутницу с плеча.
Рыжка мявкнула, огляделась, после чего виновато потёрлась об изуродованную щёку целителя, призывая помириться.
– Ишь, плутовка. – Он усмехнулся и погладил мягкую спинку. – Ну, идём, покажу, где жить теперь будешь.

Глава 3
В топоте лошадиных копыт Лесане изо дня в день слышалось одно и то же: «Домой. Домой. Домой!» А тянувшийся от Цитадели больша́к[14] расходился, словно река ручейками, на просёлочные дороги, вился среди полей и лесов. Всё ближе и ближе родная весь. Вот и места знакомые.
Сердце обережницы затрепетало. Ещё несколько оборотов – и покажутся памятные до последней доски ворота Невежи и окружённый старыми липами родной тын! Как её там встретят? Живы ли все? Здоровы ли? Хотелось пришпорить лошадь, отправить в галоп, да нельзя на лесной тропе.
Наконец чаща расступилась, явив частокол из заострённых брёвен с потемневшими защитными резами. Лесана натянула повод и замерла в седле. Ничего здесь не изменилось: те же липы, та же пыльная дорога, та же неровная царапина на створке ворот. То бык дядьки Гляда провёз рогом ещё вёсен восемь назад. Мужики тогда на него всей весью вышли, еле свалили клятого, так лютовал. Оказалось, шершень ужалил.
Лесана стискивала в руках узду, не решалась направить лошадь вперёд. Воспоминания навалились, замелькали перед глазами. Словно и не было пяти вёсен на чужбине.