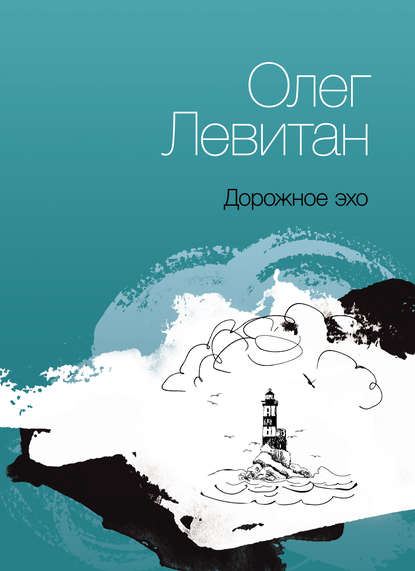Наследники скорби

- -
- 100%
- +
Когда обережница въехала в весь, на улице было тихо. Лишь ребятишки, игравшие в пыли, с удивлением отрыли рты, глядя на незнакомого вершника в чёрном облачении. Малышня порскнула в стороны, а Лесана едва заметно улыбнулась. Будет теперь у них разговоров!
Вот и знакомый куст калины. Надо же, не срубил его отец, как грозился. Девушка спешилась и, ведя кобылу в поводу, вошла во двор. На скрип ворот обернулась стоящая возле хлева женщина в поско́нной[15] рубахе. Обережница сразу узнала мать, постаревшую, поседевшую, но по-прежнему родную. Лесана уже собралась броситься к ней, но хозяйка сама пошла навстречу, поспешно оправляя на голове покрывало. Девушка хотела раскинуть руки, но мать поклонилась и сказала:
– Мира в пути, обережник.
Земля под ногами Лесаны закачалась.
– Мама… мамочка, – хрипло выдавила она. – Не признала? Это же я, Лесана.
Старшую Острикову будто хватил столбняк. Она застыла, близоруко и недоверчиво щурясь, вгляделась в лицо гостя.
– Дочка?
Обережница смотрела с такой тревогой, что стало ясно: эта высокая, худая, чёрная, как ворон, девка и есть уведённое креффом в Цитадель дитя Остриковых. От родной кровиночки на том лице только глаза и остались.
Млада бросилась обнимать нежданную, но такую дорогую – гостью.
– Лесана!!!
На этот крик, надрывный, хриплый, из избы выскочила красивая девушка. Да так и застыла в растерянности, глядя, как мать лихорадочно целует облачённого в чёрную одёжу незнакомца.
– Стёша, Стёша, радость-то какая! Сестрица твоя воротилась! – обернулась, наконец, Млада к молодшей.
Стояна ещё миг смотрела с недоумением, потом всплеснула руками, взвизгнула: «Батюшки!» – и кинулась к обнимающимся.
Лесана прижимала к себе их обеих, плачущих, смеющихся, и чувствовала, как оттаивает душа. От матери пахло хлебом и домом. А Стёшку не узнать: в волосах вышитая лента, на наливном белом теле – женская рубаха, схваченная плетёной опояской.
Вот так-то. Уезжала от дитя неразумного, а воротилась и увидела в сестре себя. Но не нынешнюю, а прежнюю. Ту, которую пять вёсен назад увёл из отчего дома крефф. Ту, которой Лесане уже не быть никогда.
* * *– Ты, дочка, прости, что щи пустые. Мы ж не знали, что радость такая нынче случится. Да ты ешь, ешь. – Мать суетилась, отчаянно стыдясь, что встречает дорогое дитя жидким хлёбовом с крапивой. – Сметанкой забели.
Она подвинула ближе плошку с густой сметаной.
– Мама, вкусно. – Лесана кивала, жуя и с жадным любопытством оглядываясь.
За пять вёсен в доме ничего не изменилось. Та же вышитая занавеска отгораживает родительский кут. Те же полки с безыскусной утварью вдоль стен. Подвешенный над лоханью глиняный рукомо́йник[16]. Старенький ухват у печи да бадья с водой.
Хлопнула дверь. В избу вошёл взволнованный отец. Из-за его спины с любопытством выглядывал вихрастый белобрысый мальчишка.
– Мира, дочка. – Отец нерешительно шагнул к столу, не узнавая в высоком жилистом парне родное дитя, и порывисто, но неловко обнял гостью за плечи.
– Садись, садись, Юрдон, – тут же зачастила мать, спешно меча на стол щербатые глиняные миски. – И ты, Руська, садись. Нечего впусте на сестру пялиться.
Обедали, как заведено, в молчании. И всем при этом было одинаково неловко. Лесану раздирали десятки вопросов. Стояна отчаянно робела, глядя на девку-парня. Мать с отцом пытались делать вид, будто не испытывают замешательства. И только Руська не отводил восхищённого взгляда от висящего на стене меча.
Ух, как ему хотелось вытащить его из ножен и подержать в руках! Да разве ж позволят…
Наконец отец отложил ложку, поймал обеспокоенный взгляд жены, кашлянул, что-то попытался сказать, да так и замолчал, не найдя нужных слов. Тогда Млада Острикова, отринув обычай, воспрещавший жене раскрывать рот поперёд мужа, не выдержала:
– Дочка, как ты доехала-то? Нешто одна?
Лесана в ответ беззаботно кивнула.
– А с кем же? Одна, конечно. Хорошо в лесу! Луна такая ночами… – Она осеклась, увидев, как испуганно переглянулись родители. – Мама, да ты не пугайся. Я ж ратоборец. Мне с потёмками в дому не нужно хорониться. Вот только… – Девушка помрачнела. – Гостинцев я не привезла. Побоялась не угадать. Давно вас не видела. Подумала, уж лучше вы сами.
На стол лёг тяжёлый кожаный кошель.
Отец с удивлением посмотрел на дочь и ослабил шнурок. По скоблёным доскам рассыпались тусклые монеты. Столько денег в Остриковом роду допрежь не держали в руках.
– Откуда ж… – Юрдон сглотнул.
– То плата моя, как выученицы. За обозы. – Лесана улыб-нулась.
Всё заработанное Клесх делил пополам. Две трети звонких монет шли на оброчные Цитадели, а остальные ждали своей участи. Лесане тратить их было не на что. Не нужны ей были ни ленты, ни бусы, ни рубахи вышитые. Всё немудрёное добро в двух перемётных сумах умещалось.
– А ты обозы уже водишь? – не утерпел Руська.
– Уж три весны как.
– И ходящих убивала? – Брат подался вперёд.
– Доводилось. – Лесана кивнула.
Мать и Стояна вздрогнули, отец только крякнул. Повисла гнетущая тишина. Лесана поторопилась её развеять, пошарила в лежащем на лавке заплечнике и достала свиток с восковой печатью.
– Надо бы за дядькой Ерсеем послать, грамоту на весь отдать, – сказала она, обращаясь к отцу.
– Дочка, дак Ерсей ещё по осени помер, – растерялся тот. – Яблоню старую рубил, а топор с топорища-то возьми да соскочи. Прямёхонько в переносицу. Нерун нынче староста.
Млада нарочито громко захлопотала у стола. Она боялась, что имя отца Мируты расстроит дочь. Однако та лишь пожала плечами.
– Ну, значит, ему передам. Да и сороку проверить надобно, а то мало ли.
Не услышав в её голосе ни боли, ни досады мать успокоилась. А Стояна, всё это время сидевшая молча, осмелела и влезла в разговор.
– Поди, узнает староста, кем Лесана стала, локти себе сгрызёт – такую сноху проворонил… – Она хотела добавить что-то ещё, но под грозным взглядом отца осеклась.
– Да ну их. – Обережница отмахнулась и повернулась к матери. – Я бы в баню сходила.
– Иди, иди, отец затопил.
Млада вновь засуетилась, полезла в сундук за чистыми холстинами.
Юрдон тоже встал из-за стола, поправил пояс, после чего с привычной властностью в голосе заговорил:
– Намоешься как, переодевайся. В порты, гляди, не рядись. Чай не парень! На голову покрывало накинь. Оно, конечно, не мужняя ты, да только без косы и вовсе срам. За полдень к Неруну пойдём. Только недолго плескайся – негоже заставлять старосту ждать.
Лесана будто окаменела. Медленно поднялась и прожгла отца взглядом, в котором не было ни девичьей робости, ни дочерней покорности. Тяжёлым был тот взгляд. Мужским. Юрдон аж оторопел.
– Это тебе он староста. Мне никто. Надо мной только глава Цитадели власть имеет. Вот к нему я на поклон хожу, когда надобно. А к Неруну твоему шага не сделаю. Чтоб, когда из бани ворочусь, он вот тут сидел и ждал. Да передай: коли сорока сгибла, а новой он не озаботился, за бороду на сосне подвешу. – Сказав так, Лесана развернулась и направилась прочь из избы. Однако замерла в дверях и, не поворачивая головы, добавила: – А одёжу я ношу ту, какая мне укладом Цитадели означена. Но ежели ты стыдишься, что дочь в портах да без косы, к вечеру меня здесь не будет.
И вышла, мягко прикрыв за собой дверь.
– Пойди, отнеси сестре, – прошептала мать Стояне, кивнув на позабытые Лесаной холстины.
Дочь испуганно посмотрела на отца, на затаившегося в углу бледного брата и кинулась вон.
После её ухода Млада, совершенно оторопелая, опустилась на лавку рядом с мужем.
– Ты уж поласковее, Юрдон… Не девка она более. Обережница. Кабы не осерчала на нас.

Глава 4
Нерун корчевал с сыновьями лес, освобождая землю под пашню, а заодно готовя брёвна для нового дома. Младший из его парней должен был жениться по осени и ввести в род молодую жену. Следовало справить новую избу. Топоры звенели, щепа разлеталась во все стороны, пахло смолой и деревом. И тут на делянку примчался меньшой внучок, вспотевший, запыхавшийся.
Сверкая щербинкой между зубами, мальчишка выпалил:
– Деда, обережник приехал!
– Поблазнилось, поди, – воткнув топор в поваленную сосну, сказал Хвалеб, средний из Неруновых сыновей. – Какой ещё обережник! Крефф по весне наведывался, сороку ни в Цитадель, ни в сторожевую тройку не посылали. Откуда тут кому взяться? Одёжа-то хоть какая на нём?
– Чёрная. К Остриковым на двор зашёл.
Нерун озадачено пригладил всклокоченную бороду. С чего это к Остриковым ратоборцу пожаловать? Непонятно.
– Батя, – подал голос взопревший Мирута. – У них же Лесану в учение забирали.
– Воротилась никак девка, – озадачился старый кузнец. – Да разве ж может баба ратоборцем стать? Ладно целителем, но воем? Не углядел, поди, малец-то.
– Слышь, Стрел. – Хвалеб повернулся к мальчишке. – Чужин-то девка или парень?
– Парень, дядька! В портах! Острижен коротко. И с мечом!
– Видать, весть привёз, что сгибла девка. – Нерун покачал головой. – Жалко Остриковых, вторую дочь теряют.
С этими словами староста вытер потный лоб рукавом, махнул старшому сыну, мол, собирайтесь, а сам поспешил обратно в весь.
Эх, не вовремя Встрешник принёс вестника. Только вон хлысты заготовили, работа в разгаре. А теперь бросай всё и беги. Но дело старосты насельнику Цитадели почёт и уважение оказать, обогреть, накормить, дать роздых, да лошадь переменить, ежели потребуется. Всё это промелькнуло в голове у Неруна, покуда он отряжал внучка бежать до дому с наказом топить баню и накрывать на стол.
* * *После просторных мылен Цитадели баня казалась тесной, душной и тёмной. Париться Лесане не хотелось, поэтому она распахнула дверь, плеснула в ушат воды, пошарила по осклизлым лавкам, ища мыльный корень. А молодшая всё возилась в предбаннике, раздевалась да расплетала косу. Вот скрипнули мокрые половицы под лёгкими шагами, и сзади раздалось громкое: «Ой!»
Стояна вошла в баню и теперь с неприкрытым ужасом смотрела на сестру.
– Чего ты? – Лесана обернулась.
Стёшка подошла, кончиками дрожащих пальцев нерешительно коснулась уродливого шрама на спине старшей.
– Да не бойся, – мягко сказала обережница. – Зажило уж. Давно не болит. Это мне упырь на память оставил, чтоб навек запомнила: нежити спину казать нельзя.
– Как же вытерпела ты… – В синих глазах, обрамлённых длинными ресницами, заблестели слёзы.
– От такого не умирают. – Лесана пожала плечами и начала намыливать стриженую голову.
– Давай помогу, – сунулась Стояна.
– Не надо. – Старшая отстранилась. – Я уж сама. Привыкла.
Стёшка покорно отступила, прижав руки к высокой полной груди. У Лесаны сжалось сердце. Какая же она красивая! Стройная, юная, нежная. И волосы тяжёлой волной до самых колен… Старшая Юрдоновна опустила голову в ушат с водой, силясь заглушить внезапно нахлынувшую тоску.
А Стояна неуверенно натирала мыльным корнем лыковое мочало и старалась не глядеть на сестру. Смущалась. Лесана была поджарая, словно переярок, а её похожие на ремни мышцы при малейшем движении двигались, отчего казалась она похожей на мужика. И вроде была она девкой с грудью, бёдрами, да только… Ничего от девки, кроме естества, и не имела будто. От такой, пожалуй, стрела, как от камня отскочит. И нож соскользнёт, не поранив. Подумала так Стояна, да тут же краем глаза заметила рубцы старых ран и усовестилась.
Ещё размышляла молодшая о том, что вот намоются они, и сестрица вновь облачится в порты и рубаху. Как за ворота-то с ней показаться? Сраму-то… И сызнова стыд затопил её душу.
* * *Нерун шикнул на детвору, толпившуюся возле забора Остриковых, зашёл во двор и тут же увидел, как из бани выходят парень и девка. Да не просто парень – вой Цитадели, и не просто девка – Стояна.
У старого кузнеца потемнело в глазах. Не бывало допрежь, чтобы осенённые портили девок. Да ещё средь бела дня. На глазах почитай всей веси! Он уже набрал было в грудь воздуху, чтобы усовестить бесстыдника, но чужин метнул в него пронзительный предостерегающий взгляд, и староста подавился собственным гневом.
– Здрав будь, дядька Нерун. – Молодшая Острикова поклонилась.
Обережник поясницу гнуть, само собой, не стал. А деревенский голова отчего-то растерялся и застыл, разглядывая незнакомца. Высокий, прямой. Не богатырь. Кость тонкая, плечи – узкие, но сразу видно – вдарит, зубов не соберёшь. Цену себе явно знает. Взгляд синих глаз тяжёлый. Что-то промелькнуло в памяти… Вроде девчонка у Остриковых тоже синеглазая была. Нешто вправду она?
– Лесана? – спросил Нерун, по сей миг сомневаясь, что этот парень – старшая дочь Юрдона.
– Она самая, – последовал спокойный ответ. – Не признал, что ли?
Староста пропустил мимо ушей, что Лесана не назвал его дядькой. Сердце сжала тревога. Чего Хранителей обманывать – радовался кузнец, когда крефф увёз девку Острикову из Невежи. Не пара она Мируте была. Семья – голь перекатная, приданого никакого, всего добра – коса русая. За пять вёсен Нерун и думать про Лесану забыл, а она вот воротилась. Ну как прознает, что нарочно он медлил со сватовством? Ну как мстить надумает? Не гляди, что в порты обрядилась да волосы состригла, умишко-то бабий остался… А у Мируты жена на сносях, дочь подра-стает. Спаси Хранители от гнева невесты обиженной да к тому же осенённой. Весь род под корень изведёт! И управы не сыщешь. Ежели только напомнить ей, что не чужие они люди, соотчичи всё ж. Да и прабабки их с Юрдоном вроде по родству кровные были…
Лесана понаблюдала за хмурившимся старостой и внезапно поняла, какие думы его тяготят. Ей сделалось смешно. Нешто он и впрямь решил, что она по Мируте по сей день убивается? Ну не дурак ли?
– Идём в дом. Грамоту отдам.
Ей захотелось, чтоб Нерун побыстрее ушёл. Не нравился его взгляд. Опасливый и одновременно неприязненный. Эдак на увечных глядят. Противно-то как.
Видать, их заметили. Иначе с чего бы родители встречали на пороге? Мать с отцом по обычаю поклонились старосте и неодоб-рительно покосились на старшую дочь. Одёжу она надела свежую, но всё одно мужицкую. Хорошо хоть меч за спину не приладила, только нож у пояса оставила. А про почтение и вовсе позабыла будто.
Мать утвердила на столе кринку с квасом и утянула Стояну, чтоб она не слышала и не видела, как сестрица родная деревенского голову почётом обносит.
Отец завёл разговор о Неруновом житье-бытье: как валят лес, как дела в кузне, не болеют ли внуки, здорова ли сноха непраздная? А Лесане пуще неволи не хотелось сидеть в душной избе да разводить трёп по чину. В конец устав от порожней болтовни, она спросила:
– Ты, отец, не забыл, зачем староста пожаловал?
Юрдон дёрнулся. Он-то не забыл, но не по порядку это. Вперёд о насущном расспросить надо, о ближних справиться, а уж потом к делу переходить. Да и зазорно, что дочь, немужняя даже, может его, отца, главу семьи, перебить, а он и слова поперёк не скажи. Но, видать, в Цитадели всё иначе. Обережнице не возразишь.
Лесана тем временем протянула старосте грамоту. Нерун чинно развернул её и уставился в ровные письмена. Читать он не умел, но знак Цитадели – оттиснутая на деревянной привеске сорока – был известен каждому. Для пущей важности пошевелив губами, староста бережно свернул грамотку и убрал за пазуху.
– Всё понял, что написано. Иль прочесть?
Лесана знала – в Невежи грамотеев не было.
– Ты письмена разумеешь? – ахнули мужики.
– Выучили, – сухо ответила девушка.
Юрдон хотел было спросить, зачем девке этакие знания, но вспомнил, что по приезде всякий насельник Цитадели внимательно изучал хранящиеся в веси свитки. А иной раз и пометки в них делал. Вот и прежде чем увезти Лесану, крефф тоже что-то нацарапал в старой грамоте. Пёс его знает что. Спрашивать побоялись. Раз пишет, знамо дело, надо зачем-то. А уж зачем – не ихнего ума дело.
– Там говорится, что отныне обережники за надоби будут взимать с Невежи лишь половину платы, – сказала девушка.
Нерун смутился и заторопился уйти. Он уже направлялся к двери, когда в спину донеслось:
– Староста, ничего не позабыл?
Кузнец оглянулся и застыл под ледяным взглядом. Не девки, которую знал семнадцать вёсен, а незнакомого ратоборца. Не было в том взгляде ни гнева, ни обиды, только сила. Да такая, что волей-неволей сломаешься. Вот и он сломался, поклонился до земли, от всей веси благодаря Лесану за выслуженную по́том и кровью поблажку в уплате.
– Ступай, Нерун, да помни: нынче ты меня, Лесану Острикову, благодарил за то, что не сдохла в крепости, науку постигая. А завтра ты по обычаю на всю весь гульбище устроишь, чтоб Хранителей возблагодарить за то, что осенённого дали поселению.
Отец только сглотнул, а стоявшая в сенях мать выронила кринку с молоком.

Глава 5
Незнамо какой оборот Лесана ворочалась с боку на бок, но сон всё не шёл. Сколько раз она, устраиваясь на ночь в лесу или в своём покойчике в Цитадели, мечтала, как отдохнёт в родном доме на мягком сеннике, в тепле и неге, а теперь вот мается, словно бесприютная. Блазнилось, только долетит голова до подушки – и будет такова. Но на дворе уже глухая ночь, а веки не тяжелеют, и мысли текут своим чередом. Почему так? Почему Лесана мгновенно засыпала и под дождём, и в лютый мороз, и трясясь в седле, и в шалаше из лапника, а в отчем доме замучилась вертеться? Закоптелый потолок, что ли, давит? Или мешает въевшийся в брёвна запах щей? А может, дело в сверчке, который трещит за печкой? Или это мать, тихонько вздыхая, гонит от дочери дрёму?
Лесане было жарко, душно, тошно. Рядом, прижавшись горячим телом, спала Стояна. Допрежь они всегда ложились вместе, но за пять вёсен старшая привыкла спать одна, и нынешнее соседство мешало. Да что там Стояна! Мешало всё!
На соседних лавках сопели Руська и Елька. Меньшой сестрице сравнялось тринадцать вёсен, её теперь отпускали с под-ругами в лес. Там она и пропадала, собирая поздние сморчки, когда приехала старшая. Воротилась лишь к обеду. Выросла тихоня, вытянулась. Лесану дичилась. А ведь, казалось бы, помнить должна…
Через заволочённые окна доносился убаюкивающий шум леса. А в избе на разные лады шелестело дыхание спящих, навевало тоскливые мысли. Лесане вдруг нестерпимо захотелось услышать не это сопение, а шорох ветра в кронах деревьев, увидеть не чёрный потолок, а звёздное небо, лежать не на лавке, а на земле, как бывало во времена странствий с Клесхом, вдохнуть полной грудью свежий ночной воздух.
Проворочавшись ещё с оборот, девушка сняла с плеча тяжёлую горячую руку сестры, неслышно выбралась из-под одеяла и, прихватив меч, который привыкла везде носить с собой, шагнула в сени. Там сняла с гвоздя отцовский тулуп, достала из перемётной сумы войлок и вышла из дома.
В лицо ударили запахи леса, росы, трав и земли. На мгновенье стало жалко спавших за крепкими дверьми людей. Ведь они не знали, какой опьяняющей бывает ночь. Лесана хотела было воротиться и разбудить хоть Стояну, позвать её с собой. Но что-то подсказывало: не поймёт, лишь перепугается до смерти.
Подойдя к старой яблоне, Лесана очертила её обережным кругом, расстелила войлок, положила под руку нож, рядом устроила меч, улеглась и тут же заснула.
* * *Нынешней ночью маялась без сна не только старшая Юрдоновна. Руська ворочался на своей лавке, отчаянно грезя о мече сестры. Мальчишка почти не помнил Лесану – слишком мал был, когда крефф её забрал. В памяти нет-нет да всплывали смутные воспоминания, но ни лица, ни голоса сестры в них не сохранилось. Помнил, как спать укладывала и укутывала одеялом. Помнил, как умывала и чесала частым гребнем, несмотря на вопли и слёзы. Помнил, как гладила по пухлым коленкам, когда под утро забирался к ней на лавку досыпать.
Мать поперву часто старшую вспоминала. Всё убивалась по ней. А уж какие слёзы горючие лила, когда съездила проведать дочь в Цитадели… И поныне блазнились те рыдания. Руська тогда всё понять не мог: отчего плачут по живой, как по умершей? Не понял и по сей день. Напротив, увидев нынче Лесану, ощутил восторг и… зависть. Ему бы вот так войти в избу: в чёрной одёже, опоясанной ремнём, с мечом за спиной! Чтобы каждая собака видела: вой воротился! Защитник! Гроза ходящих!
Пуще прочего хотелось хоть одним глазком поглазеть на меч сестры. Ребятня окрестная завидовала мальчонке: с настоящим ратоборцем, пусть и девкой, под одной крышей живёт! А ещё стращали, будто оружие обережников зачаровано и чужаку, ежели без спросу сунется, может даже руку отрубить. Но Руська россказням этаким не верил. Потому лежал на лавке и старательно боролся со сном, который как назло мешал дожидаться. Да ещё сестра никак не засыпала, словно медведь в берлоге ворочалась. Чего ей неймётся? Он вон еле-еле глаза открытыми держит. А Елька рядом так сладко сопит…
И что в исходе? Зря пыжился! За бока себя щипал, сон прогоняя… Лесана встала да из избы вышла. С мечом вместе! Вот куда её Встрешник понёс?
Мальчишка тихонько поднялся следом. Половицы тут же предательски заскрипели. Руська тихо выругался. Как же она так бесшумно прошмыгнула? По воздуху, что ль, перелетела? Он в родной избе одиннадцать вёсен живёт, а шуму наделал, будто на телеге проехал.
– Далече ты? – сонно спросила из-за занавески мать.
– До ветру, – буркнул Руська.
– Бадью не забудь обратно под лавку потом задвинуть, – напутствовала родительница, повернувшись на другой бок.
А Руська, уже не таясь, шмыгнул в сени.
Взявшись за ручку двери, он всё-таки засомневался. Страшно… Вдруг отворишь, а там волколак глазами горящими из кустов зыркает? Сестра хоть и говорила, что резы на воротах и тыне надёжные, но всё равно боязно. Мать не раз стращала рассказами, как Зорянку кровососы скрали. А ведь всего до соседнего двора бежала в потёмках. И ночь-то ещё не настала тогда.
Однако любопытство пересилило-таки страх. Руська утешил себя тем, что в веси как-никак настоящий вой из Цитадели, а значит, бояться нечего. Утешил, затем высунулся из избы, огляделся и прислушался. Острые зубы не клацают, голодного рычания не слыхать. Только соловьи заливаются да деревья шумят.
– Куда ж ты подевалась-то? – приплясывая от ночной прохлады, прошептал мальчишка и пошлёпал босыми ногами по росе. – Упыри, что ль, утащили во Встрешниковы Хляби?
Сестру он нашёл спящей под дедовой яблоней. Яблоня та давно не плодоносила, но в память об отце батя её не рубил. Очень уж дед Врон любил под ней сидеть. Под ней и помер.
Лесана сладко спала на войлоке, накинув сверху отцовский тулуп.
«Вот же вынесло клятую!» – рассердился Руська.
Дрыхнет и хоть бы что. А он трясись.
«Ежели бы не голова стриженая, сроду за воя не примешь, – думал мальчишка, разглядывая старшую сестру. – Девка как девка, только тощая».
Кинув вороватый взгляд на крепко спящую обережницу, он потянулся к заветному мечу. Ладные ножны, перехваченные крест-накрест толстыми ремнями, так и манили. Руська нерешительно коснулся широкой, оплетённой кожей рукояти и… Вш-ш-ших! В горло вжалось что-то холодное. Острое. Русай шумно сглотнул, боясь шевельнуться.
Миг, и сестра сидит напротив, а на кончиках пальцев отведённой в сторону левой руки мерцает и переливается синий огонёк. Горит, но она не морщится. И в глазах ни отголоска сна. Будто притворялась. А другой рукой вжимает закалённое лезвие ножа в шею брата.
– Ты почто подкрался, как тать, а? – Ровный голос Лесаны продрал до костей.
– Ме-е-еч посмотреть хотел, – заскулил Руська, чувствуя себя глупым и жалким.
– А спросить не мог? – рассердилась сестра. – Иль гордый такой?
– Не-е-ет. Боялся.
– Кого? Меня? – удивилась она.
– Что прогонишь, боялся. – Руська готов был разреветься от страха и стыда.
– Что ж я, злыдня лютая, что ли, брату родному не дать на меч поглазеть?
После этих слов так совестно сделалось, что Русай не выдержал и бесславно разревелся, ёрзая коленками по холодной земле.
– Ну… будет… будет… – Обережница ласково обняла его острые плечи. – Вдругорядь не станешь руки тянуть, куда не просят. Скажи спасибо, что только усовестила. В следующий раз выпорю, чтобы по ночам не шлялся. Иди ложись, покуда мать не хватилась.
Руська замотал головой и вцепился в жёсткие сестрины бока.
– Можно с тобой останусь?
Лесана улыбнулась.
– Оставайся, только тулуп весь на себя не стаскивай. Прохладно.
Позже, прижимая к себе затихшего и сладко сопящего храбреца, обережница осторожно положила ладонь на узкую мальчишечью грудь. Там теплился пока ещё слабый, невидимый глазу огонёк, но в будущем грозил он переродиться в истинное пламя. Лесана горько вздохнула, прошептала:
– Хватит и одного осенённого в доме. – И затворила едва начавший теплиться дар.