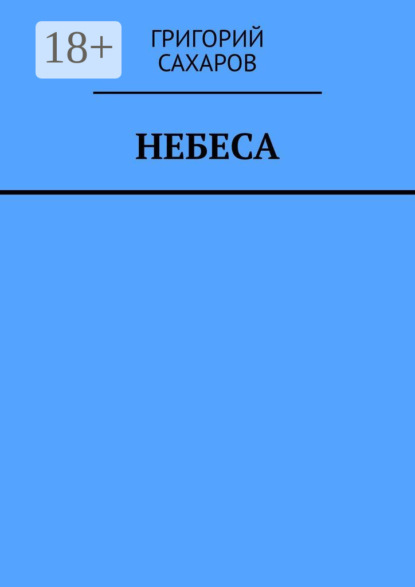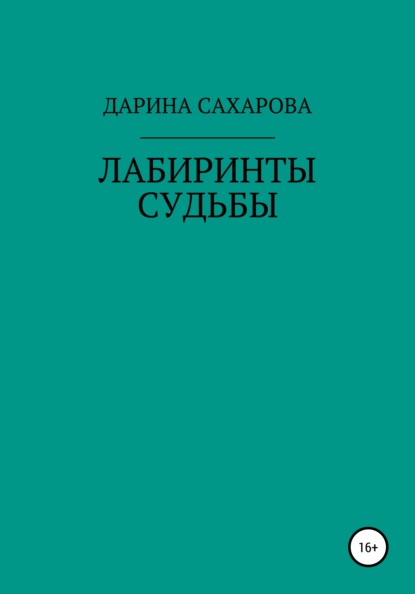Наследники скорби

- -
- 100%
- +
На следующий день Остриковы собирались в дом к старосте. Елька отчаянно стеснялась забытой и уже чужой сестры, а потому старалась на глаза ей не попадаться. Пряталась за мать или Стояну да смущённо теребила кончик косы. Руська в новой рубахе и портах, с выдранными за ночёвку в саду ушами, вид всё одно имел важный. Уши – ерунда! Зато окрестные мальчата, как узнают, что он меч сестрин в руках держал да спал ночью в саду, так от зависти удавятся!
Мать же, глядя как старшая дочь натягивает через голову чёрную кожаную верхницу, вздохнула украдкой и полезла в сундук.
– Дитятко, на вот, надень. Тебе вышивала. Думала, приедешь, порадуешься.
Она неловко протянула Лесане расшитую по вороту и рукавам праздничную рубаху.
– Спасибо, – прошептала обережница, разглядывая нежданный подарок.
Рубаха была хороша. Лесане… Прежней Лесане она пришлась бы в пору и к лицу. Но то прежней. А нынешней и примерять не надо: и так ясно, что в груди окажется велика, на плечах натянется, а вдоль тела обвиснет.
Поэтому девушка только вздохнула и мягко сказала:
– Мама, отдай лучше Стояне. Она в ней пригожая будет, не то что я.
Мать недовольно поджала губы, но спорить не стала.
Дом Неруна, как всякого кузнеца, стоял на окраине. Богатый, добротный. Столы хозяева накрыли во дворе. Остриковы пришли последние. Отец всю дорогу костерил Стояну, что долго косу плела да бусы перебирала. Лесана знала: Стояниной вины в задержке не было. Родитель попросту вымещался на ней за то, что старшая дочь нарочно медлила, а теперь шла в неподобающем девке наряде, да ещё и чёрная, как ворона.
Ступив на двор, Лесана внезапно растерялась. Куда ей идти? Отец отправился за стол к мужикам. Мать поспешила к собравшимся у крыльца хозяйкам, чтобы помочь разносить снедь. Сестра убежала к подругам, сбившимся в стороне яркой нарядной стайкой. Чуть поодаль сгрудились парни, стояли, будто сами по себе, но то и дело бросали вороватые взгляды на румяных девок.
Появление осенённой заставило всех смолкнуть. Соотчичи с любопытством рассматривали старшую дочь Юрдона и Млады.
Чувствуя осуждающие взгляды женщин, неодобрительные – мужчин, стыдливые – девок и любопытные – парней, Лесана сызнова ощутила себя чужой.
– Млада, чего это она у тебя к мужам-то села? – тихо охнула старая Тёса.
– Ей можно. Ратоборец она, – услышала Лесана виноватый голос матери.
Только опустившись на лавку рядом с Неруном, девушка поняла, что нарушила все заветы дедов. Не по обычаям это, чтоб мужики с бабами рядом сидели. Вот только Лесана была обережницей и давно привыкла и есть за одним столом с мужиками, и спать с ними же бок о бок.
Единственный раз порадовалась девушка за родителей, когда староста поднял в её здравие чарку. Отец тогда горделиво приосанился, а мать украдкой вытерла глаза. Сама обережница от чарки отказалась.
– Спасибо, Нерун, за честь, но осенённые хмельного не пьют.
– Что так? – подивился староста.
– Пьяный ни себе, ни дару не хозяин, – ответила Лесана.
Где-то рядом раздался знакомый голос:
– Нам надысь чароплёт обережный круг обновлял. Так что пей смело! Дар твой вовсе не надобен нынче. Ходящие нашу весь за версту обходят.
Обережница отыскала взглядом того, кто нарочито громко, с кичливой поддёвкой сказал эти слова, и с трудом узнала Мируту. Где тот статный парень, с которым она целовалась за кустом калины? Видать, там и остался. Напротив сидел некрасивый оплывший детина с красным лицом. Пока столы накрывали, видать, успел приложиться к бражке. И что она тогда, дурища, нашла в нём? Рожа глупая, глаза мутные, губы мокрые. Да и сам весь…
– Видела я круг. – Лесана кивнула, уводя разговор в другую сторону. – На совесть сделан. Велеш, поди, у вас был?
Она повернулась к хозяину подворья.
– А кто ж его знает? Мы имя-то не спрашивали, – растерялся Нерун. – Молодой какой-то поутру приехал. Ещё это… глаза у него как бельма. На буевище заглянул, резы подновил, монеты взял да к вечеру отбыл. Даже на ночь не остался.
– Видать, торопился…
Лесана почувствовала, как горло сжалось от тоски. Смертельно захотелось увидеть хоть Велеша, хоть кого другого из былых соучеников. Только бы не эти рожи! Кого угодно из Цитадели, кто примет в ней равную, а не девку, ряженую к собственному бесчестью парнем.
Сельчане неторопливо ели. Разговоры тянулись своим чередом. Вот только Лесане беседовать было не с кем и не о чем. Мужики чурались с ней говорить, опасались глупость перед девкой явить. Мать неловко краснела и, по всему судя, боялась, что дочь встрянет в беседу старших. Подружки все мужние уже: кто на сносях, кто ребятёнка на руках тетёшкает. О чём с ними говорить? Они ей про болячки детские, про труды домашние, а она им про что? И почему она, глупая, думала, будто вернётся в весь и всё будет – по-прежнему? Не будет.
Заставила Неруна застолье собрать. Думала оказать тем честь отцу да матери: пусть Невежь глядит с уважением, почётом окружит. А оно вон как вышло. Вроде и в чести родителям не отказывают, да только на этакую дочь глядя, глаза стыдливо отводят.
От острой досады захотелось сей же миг встать и уйти. Но как уйдёшь с пира, в твою же честь и по твоему же требованию справленного? Сиди, дурища, и на ус мотай: прежде чем делать, думать надо.
Из тоскливых дум девушку вырвал пьяный голос осмелевшего Мируты:
– А скажи-ка, Лесанка, с чего вы, чароплёты, такие деньжищи с нас дерёте?
– Я не чароплёт, я вой, – сухо ответила она. – Но соберись ты обозом – втридорога возьму.
– Это за что же? – Собеседник подался вперёд, устремив на неё взгляд помутневших глаз.
– За жизнь, – просто ответила обережница и так посмотрела на несостоявшегося жениха, что тот осел обратно на лавку.
От выходки Мируты на душе стало ещё паскуднее. Лесана вспомнила, как накануне собственными руками обескровила Цитадель. Затворила брату дар. Пожалела. Не столько его, сколько отца с матерью. Пусть им в старости подмогой и опорой будет. Девки-то из дома упорхнут, как птицы, – и поминай как звали. А парень жену приведёт, детей народят. Не прервётся род Остриковых.
– Да ты хоть силу нам свою явить можешь? – Мирута никак не желал уняться. – За кою деньги дерёте? А?
Захмелевший Нерунович и сам не понимал, кто его за язык дёрнул. Как прознал надысь, что не сосватанная невеста воротилась в весь, так и не находил себе места. Маетно сделалось. Вроде и не виноват перед ней ни в чём, а отчего-то совестно. Вечером до темноты хотел сходить на двор к Юрдону, да жена не пустила. Завыла глупая баба, упала в ноги. Всех переполошила, дура. Так и не сходил. Сегодня же, едва увидел Лесанку, обмер. Хвала Хранителям, что не сговорил в своё время. Как с такой жить-то? Срамота.
С пьяных глаз забыл он, что сговорённых креффы в Цитадель не забирают. Да и точила сердце глухая злоба, что забылась Лесана свет Юрдоновна. Зазналась. Раньше-то её род в веси чуть не самый захудалый был, а ныне так себя поставила, будто все ей в пояс кланяться должны да поперёд старосты почтение оказывать. А на – бывшего жениха не посмотрела даже, словно не миловались допрежь. Нешто забыла всё? Так ничего, он напомнит! Хоть с косой, хоть без, хоть в портах, хоть в рубахе – всё одно: бабой родилась – бабой помрёт!
– Ну что? – Он постучал чаркой по столу. – Явишь силу? Аль нет?
– Я тебе не скоморох ярмарочный, – отрубила Лесана.
– Ты иди, сынок, охолонись. Давай Ольху позову, проводит тебя. – Мать засуетилась, до смерти перепугавшаяся, как бы обережница не разозлилась и не наложила на пьяного дурня виру.
– Нет уж, пусть докажет, что она вой знатный, – набычился Мирута. – За что ей платить-то?
Во хмелю он запамятовал, что Лесана платы ни за что не требовала, силой не хвасталась, и защищать его не напрашивалась.
– Не позорься, иди проспись! – С места поднялся Нерун. – Я грамоту видел.
«Пьяный проспится, дурак – никогда», – подумала про себя обережница, но промолчала.
Зря.
– И что в грамоте той сказано? – продолжил выплёскивать желчь бывший жених. – Парень она аль девка? А то не разобрать. Забирали вроде девку с косой, а воротили парня стриженого.
Мирута закусил удила, и теперь его несло во все стороны разом.
Сельчане ахнули, начали испуганно переглядываться. Лесана же молча встала, подошла к кузнецову сыну, поглядела в его красные от выпитого глаза и громко, с расстановкой сказала:
– Я тебе не парень и не девка. Я обережница. Ежели проверить хочешь, возьми да выйди против меня. Тогда, может, и поймёшь, за что нам платят.
Затем повернулась к замершему старосте.
– Мира в дому, Нерун. За хлеб-соль спасибо, – сказала и пошла прочь со двора.
У ворот наперерез обережнице бросилась брюхатая баба, запричитала:
– Родненькая, не губи! Прости его, дурака! Он не со зла! Это брага, брага в нём говорит!
В располневшей молодухе Лесана с трудом признала подругу.
– Уймись, Ольха. Не трону я его. Но как проспится, скажи: узнаю, что продолжает меня хаять, – язык вырву.
Сказала, как ударила. И больше ни на кого не глядя, вышла за ворота.
Впрочем, далеко уйти Лесана не успела, услышала позади топот, обернулась. К ней тут же подбежал Русай, уткнулся лицом ей в живот, крепко-крепко обнял, вскинув голову, выпалил:
– Вырасту – ноги переломаю гаду!
Обережница усмехнулась.
– Коль нужда будет, я сама переломаю. А ты что не остался?
– Да ну их! – Руська шмыгнул носом. – Чего я там не видал? Мать плачет, отец сердится, а Елька со Стёшкой на посиделки улизнуть хотят.
Лесана с тоской вспомнила посиделки, на которые её уже никогда не позовут. Кому нужна там девка, в парня ряженая, да ещё и иного парня ловчее? При такой удаль молодецкую являть – только позориться, мигом за пояс заткнёт. Да и ей что делать там? Прясть в уголке, надеясь, что заметит красавец какой да выманит в сени целоваться? Нужны они ей – целоваться с ними.
А сёстрам – стыда не оберёшься. Поди, все глаза им потом выколют, вспоминая старшую. Ещё и сватов засылать побоятся в этакий-то дом, где девка-парень уродилась. Мать вон не знала, куда глаза прятать. Отец чуть под землю не провалился. А у них Стояна на выданье. Не приведи Хранители, старшая сестра молодшей судьбу сломает.
Эх, не ко двору пришлась в отчем доме Лесана. Прав был Клесх, когда говорил, что нет у осенённых иного дома, кроме Цитадели, и иной родни, кроме других осенённых. Обережник – ломоть отрезанный. Везде чужой.
Лесана шла, а по щекам её катились слёзы. В родной веси родные же люди чурались её, бескосую, тощую, одетую в чёрное мужицкое платье, с грозным оружием у пояса. Чурались и боялись, что навредит. Хотелось в голос кричать от этакой несправедливости, но приходилось молчать. Знамо дело: правы отец с матерью. По-своему правы. Лесана уедет, а им тут жить весну за весной… Внуков растить. А как жить, ежели за спиной шептаться будут постоянно?
Шагающий рядом Руська, словно чувствовал боль сестры. Сжимал её жёсткую ладонь тёплой ручонкой и хмуро молчал. Девка же, что с неё взять? Пусть поплачет.
– Ты не реви, – наконец назидательно сказал он. – Чего реветь-то? А хочешь, я тебя в лес сведу? Там в овраге берлога старая. Знаешь, здоровая какая? Ты там круг очертишь, мы и переночуем. Идём? Я пирогов вот взял.
Он важно кивнул на берестяной туесок, который собрала ему Нерунова жена.
– А не забоишься в лесу-то ночевать? – удивилась сестра, спешно вытирая лицо рукавом.
– С тобой? Нет.
Лесана хмыкнула и отправилась домой за войлоком и овчинным тулупом.
Идя с братом по лесу, девушка не могла понять, кого он ей напоминает? То ли щенка любопытного, то ли впервые вышедшего на охоту волчонка. Руська носился кругами, всюду без опаски совал нос, щеголял перед старшей сестрой ловкостью и силой. Лесана видела – нет в нём страха. И в который раз думала, правильно ли поступила, затворив его дар и лишив брата ниспосланного Хранителями естества?
А Русай ни о чём не печалился. Ему было радостно, что сестра рядом. А ещё хотелось стать таким как она: ничего не бояться, ходить, где хочется и когда хочется, спать под открытым небом, смо-треть на звёзды. Стыдно сказать, но в первую ночь он долго лежал без сна и глядел на мерцающие высоко в небе огоньки.
– Лесана, возьми меня с собой в Цитадель! – попросил Руська.
– Нет. В крепость берут только тех, в ком дар горит, а у тебя его нет, – соврала обережница. И так на душе муторно стало!
Видела, как горят глаза мальчишки, как тянется он ко всему новому.
– Может, ты его видеть не умеешь? – Брат не терял надежды.
– Прости. – Лесана потрепала его по светлым вихрам. – Не осенённый ты.
– Я всё одно ратоборцем стану! – упрямо сказал Руська и шмыгнул носом.
– Подрасти сперва. – Лесана засмеялась. – А пока пошли в лог. Проверить хочу, не ходят ли волколаки тамошней тропой.
Весь день они гуляли по лесу. А потом всю ночь разговаривали. Впервые после возвращения в Невежь Лесане было хорошо и спокойно. Рядом находился тот, кто её принял. По-детски безоглядно, всем сердцем. Не сторонился и не боялся.
– Лесан, а ты по дому сильно скучаешь? – уже на рассвете спросил зевающий Руська.
– Сильно, – прошептала девушка и зарылась носом в макушку брата.
* * *Уезжала она на следующий день. Мать собрала в заплечник еды: пареного цыплёнка, дикого лука, тёплых масленых лепёшек, квашенных грибов.
Прощались во дворе. Провожать себя до околицы Лесана не позволила.
Мать беззвучно плакала. Отец неловко переступал с ноги на ногу, не зная, что сказать. Стояна виновато отводила глаза. Теперь, за несколько мгновений до разлуки, ей было стыдно, что стеснялась сестры. Елька шмыгала носом и тёрла глаза, жалея всех: Лесану, которая всё одно казалась незнакомой и чужой, мать, отца, Стояну и даже Руську, изо всех сил старающегося не зареветь.
– Ну, не поминайте лихом. Глядишь, приеду через пару вёсен. – попрощалась Лесана, вскочила в седло и стронула лошадь.
За спиной заскрипели ворота. На душе было светло. Ни сожаления, ни грусти.
Она уехала, так и не обернувшись.
Через несколько дней обережница добралась до росстаней, где пять вёсен назад повстречала Тамира и Донатоса. В тени старой ивы, привалившись спиной к могучему стволу, дремал мужчина. Рядом пасся рассёдланный стреноженный конь. На костре бурлила в котелке ушица.
– Эй! – Девушка спешилась и подошла.
Клесх лениво открыл глаза.
– Чего орёшь? Уху помешай.
Лесана наклонилась и порывисто обняла наставника.
– Повидалась? – спросил он, похлопав её по спине.
– Угу.
– Ну что? Больше к родному печищу не тянет? – Крефф понимающе улыбнулся.
– Нет, – ответила девушка, а потом гневно спросила: – Знал ведь? Отчего не сказал?
– А поверила бы? – удивился собеседник.
Обережница в ответ покачала головой.
– То-то и оно. Давай сюда уху. Поедим да поехали. Я тебя вчера ещё ждал.
– Куда поехали-то? – спросила Лесана, помешивая ароматное хлёбово.
– Домой.
Домой…
Она улыбнулась. На сердце сделалось легко.

Глава 6
Когда ворота Цитадели распахнулись, стояло раннее утро. Солнце только-только поднималось над кромкой леса, но в низинах кое-где ещё висел туман.
Двое всадников верхом на гнедых лошадях выехали из крепости. Вершники были облачены один в коричневое, другой в серое одеяния и, судя по тяжёлым перемётным сумам, снарядились в долгую дорогу.
– Мира в пути, – пожелал уезжающим выуч, стоящий у ворот.
– Мира в дому, – ответили ему в один голос.
Юноша смотрел на креффов и дивился тому, что эти двое даже в невзрачных мужских одёжах умудрялись оставаться женщинами. Красивыми женщинами.
Бьерга и Майрико ничего не подозревали о мыслях послушника, думали каждая о своём. Солнце поднималось в зенит, его лучи окунали тела в сладкую негу, размягчая души. Говорить не хотелось. Хотелось наслаждаться тишиной и теплом…
– Ты нынче сызнова не жаждешь в родные края ехать? – наконец со вздохом спросила колдунья спутницу.
Та в ответ усмехнулась.
– Верно.
– Значит, опять мне туда копытить. – Наузница досадливо скривилась.
В памяти сразу всплыл далёкий день, когда она везла новую послушницу в крепость… Случилось то почти двадцать вёсен назад. Обережнице тогда выпала нелёгкая доля ехать в Почепки. Похлеще Встрешниковых Хлябей не любили креффы те края, оттого всякий раз тянули жребий, кому эта «сласть» достанется.
Три веси, не большие и не малые, стояли средь лесов в полуобороте друг от друга. И вроде люди там жили, как прочие: хлеб сеяли, ремесло ведали, да только всем приходились они чужинами, и им всяк чужаком был.
Говорили почепские, что живут по правде древней, Хранителями завещанной. Хранителей своих звал тутошний люд Благиями. Эти-то Благии и заказали почепским родниться с чужинами, урядили жить наособицу. Даже на торг здешние мужики выезжали без баб и детей. Не покупали ни посуды расписной, ни лакомств, ни бус, ни лент девкам. Всё им казалось опоганенным.
Случись же кому стороннему через весь их ехать да воды попросить испить, не отказывали, но ковш, к которому странник приложился, выкидывали. А девок, едва те рубашонки детские пачкать переставали, почепские мужики прятали под покровы. Да такие, что за ними ни лица, ни стана было не разглядеть. В чужие веси невест не отдавали, только в две соседние, что тем же обычаем жили. Оттого никто их девок и баб в глаза не видел. Болтали-де, почепские их и за людей не держат, так, чуть выше скотины.
Словом, чудное житьё у них было. Неуютное. Вроде и улыбается тебе староста, и поклоны кладёт, а по глазам колючим ясно: обороты считает, когда уберёшься.
Потому не любили креффы туда наведываться, тянули на щепках жребий. В тот раз Хранители отвернулись от Бьерги.
Она приехала в последнюю почепскую весь после полудня, злая как упырь. Почти седмицу потратила впусте. По её приезде всех не сговорённых девок прятали, словно и в помине их не было. Приходилось колдунье идти на угрозы. Лишь после этого выводили из клетей да погребов дочерей, укутанных в глухие покровы. А отцы и братья с такой лютой злобой смотрели на посланницу Цитадели, что тянулись руки упокоить каждого. Ведь от души почепские не понимали – на что девок глупых смотреть? Какой ещё дар в бабах! Эдак и скотину крефф попросит показать: ну как в ней тоже колдовская искра теплится.
Эти «смотрины» вымотали Бьерге всю душу, а потому в последнюю почепскую весь она приехала раздосадованная и сердитая.
Спешившись у дома старосты, наузница привязала коня и вошла во двор.
– Мира в дому, Одиней.
– Мира, – отозвался худощавый, желчного вида мужик, что вышел на звук открываемых ворот. – Чай опять детей наших в срам вводить приехала?
– Приехала я выучей искать, – обрубила колдунья. – Потому собирай всех. Глядеть буду.
Староста дёрнул уголком рта. Хотел было возразить, но в этот миг хлопнула дверь хлева. Во двор вышла тоненькая невысокая девушка, упрятанная едва не до пят под плотное покрывало. Только глаза и видны, да и те опущены долу, а голова склонена так низко, словно её обладательница живёт под гнётом жестокой вины. Ещё бы не вина – девкой уродилась!
Кто там скрывался под покровом, Бьерга не знала. Диво, что дурёха на улицу при чужинке сунулась. Видать, убирала за скотиной и не слышала, как странница приехала. А ещё дивнее, что горел в вышедшей дар. Чистый и яркий, как солнечный луч.
– Кто это? – Колдунья кивнула на замершую в растерянности девку.
– Дочь моя средняя. – Староста сощурился. – Аль понравилась?
Бьерга кивнула.
– Скажи жене, чтоб кузов ей собрала да еды в дорогу. Через оборот тронемся. Я её забираю. Осенённая она. А пока других созывай, погляжу.
Мужик опешил.
– Ты… – яростно выдохнул он, но опамятовался, взял себя в руки и продолжил спокойнее: – Майрико не отдам. Выучей ищешь, так парней гляди. Девку не пущу.
– Она сговорённая? Или мужняя? – Колдунья буравила собеседника взглядом тёмных глаз.
Староста сызнова дёрнул уголком рта. Явно собрался обмануть, но сам себя осадил, понимал: креффа не проведёшь.
– Нет, – только и ответил, а потом прибавил: – Но всё одно из дома отчего за порог не пущу. Нет на то моей воли.
– Ты не забылся ли, Одиней? – вкрадчиво спросила стоящая напротив беззаконная баба. – Воля тут одна. Моя! Собирай девке заплечник. Не гневи Благиев своих. Не то ведь донесу в Цитадель, что почепские отказали крепости. К вам тогда ни колдун, ни целитель, ни ратоборец не приедут. Не будет тебе ни круга обережного, ни буевища спокойного.
– Не стращай! – возвысил голос собеседник.
Виданное ли дело, чтобы его – мужика! – баба срамила при родной дочери.
– А ты в избу пшла! – шикнул он на замершую, окаменевшую от ужаса девушку, и та метнулась в дом.
Одиней повернулся к наузнице.
– Среди парней ищи. А она девка. Её дело – детей рожать, щи варить да мужа почитать! А ты хочешь над ней непотребство учинить? Покров сдёрнуть, косы отмахнуть да порты вздеть? – Он сплюнул под ноги. – К мужикам увезти хочешь? Чтоб всякая собака лик её видела? Не бывать такому! Дочь на позорище не отдам! У меня их ещё две да сыновей трое. Какой дом их примет опосля срама этакого? И думать забудь! Парня любого бери, а про Майрико не вспоминай даже. Я её лучше удавлю собственными руками, чем позволю род опоганить.
Бьерга потемнела лицом, шагнула к собеседнику, прошипела:
– Да вы тут совсем ополоумели? Нам любой осенённый дороже самоцвета! А ты дитя родное извести собрался?
– У нас своя правда, – отрезал староста, – а тебя, коли в Почепках не любо, не держу.
– Ах, правда у вас… – протянула наузница. – Правда так правда… Гляди, как бы завтра на рассвете не пришлось тебе у меня в ногах валяться. Ежели что, у Горюч-ключа ищи. До полудня пожду. Не явишься – уеду.
– Не явлюсь. Не жди, – сказал Одиней и ушёл в дом.
– На то мы посмотрим поутру. – Бьерга взяла лошадь под уздцы и направилась прочь из веси. Потому не увидела, как Одиней вынес из конюшни вожжи и отходил дочь так, что мать с сёстрами на руках у него висли, лишь бы не засёк до смерти.
А ночью разом встал весь почепский жальник. И обережный круг не спас от упырей. Люди тряслись по домам, слыша рык и глухое топанье мёртвых ног. Упыри не смогли войти в избы и выманить зовом людей: спасли заговорённые обереги. Но зато перегрызли да распугали всю скотину: испуганно ржали лошади, мычали коровы, визжали псы. Люди в избах плакали и молились, но Благии не слышали причитаний. А мертвецы скреблись под окнами, стучались в двери, шептали, рычали, звали живых глухими скрежещущими голосами, перебирая каждого поимённо.
Лишь когда звёзды стали бледнеть, одуревшая от крови нежить подалась прочь, перерыкиваясь да огрызаясь друг на друга.
С восходом солнца люди, оглохшие от ужаса и навалившейся беды, вышли на разорённые дворы… Плакали хозяйки, скорбно и зло молчали мужчины, испуганно жались к взрослым дети. На залитых кровью улицах валялись разодранные, обглоданные туши. Женщины причитали, узнавая в бесформенных горах падали вчерашних кормилиц, Пеструшек и Нарядок. Как теперь жить?
Ни одной коровы не осталось, ни одной лошади! Кур и тех не сыскать! А ворота стоят распахнутые… Ежели не затворить черту, ночью сызнова подымутся упыри, сызнова придут бродить под окнами, пугать людей, громыхать на подворьях, в бессильной голодной злобе грызть пороги домов, бить мёртвыми руками в двери…
Одиней растерянно озирался, не зная, как совладать с бедой. Бабы тихонько выли. Мужики ходили бледные, как навьи, всё надеялись сыскать кто лошадь, кто пса, кто хоть козу заблудшую. И каждый понимал: они сегодня хоть и живы, но почитай что мертвы. Чем кормить семьи? Всё сгибло. А туши надо закопать, пока не начали смердеть. Есть опоганенное, тронутое ходящими мясо охотников не найдётся. И страшно билась в головах единственная мысль: «Голод…»
Как от него спастись? Уйти к единоверцам в соседние веси? Бросить дома? Да кто ж приютит столько лишних ртов? Ну день-другой, ну седмицу-вторую, а рано или поздно придётся воротиться. Да и кому захочется из своего дома хозяином уйти, а в чужой войти приживалой? А куда ещё податься?
Черта обережная нарушена. Креффу Одиней отказал. Теперь сторожевика звать – дело зряшное. Не пойдут обережники спасать тех, кто презрел правду и волю Цитадели.
Пока ещё люди не сгибли. Да и то вон у Гремяча двое молодших чуть из кожи не выпрыгнули, к дверям рвались. Оберегов у детей не было. Насилу мать с отцом и старшими в дому удержали, в погребе заперли. Да и вечные они, что ли, обереги-то? К весне и их сила растратится. Что тогда?
К горестно замершему старосте подковылял дед Амдор и, виновато отводя глаза, прошамкал:
– Отдай свою девку в Цитадель, Одиней. Глядишь, колдунья оттает да черту подновит.