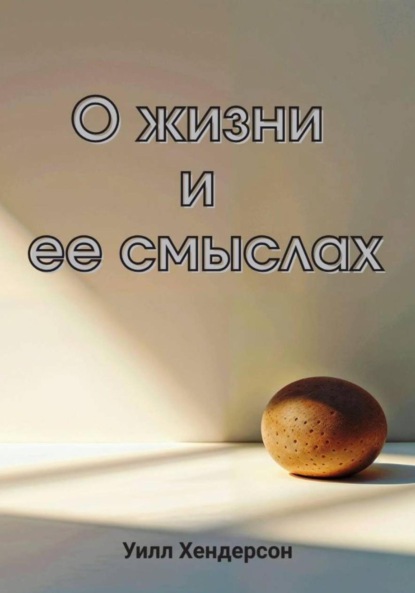- -
- 100%
- +

Введение
Нам говорят, что смысл жизни – в стремлении к удовольствию или счастью, в дарении и получении любви, в поиске своего призвания, в великих делах, в реализации своего предназначения или в участии в чём-то большем, чем ты сам. Но эти банальные ответы верны лишь отчасти, а вопросы по большей части неверны. Так утверждает множество современных философов, изучающих смысл жизни. Они утверждают, вопреки скептикам предыдущих поколений, что человеческая жизнь действительно может быть наполнена смыслом, хотя, возможно, и не в том значении, как многие полагают.
На протяжении большей части двадцатого века философы игнорировали или отмахивались от вопроса о смысле жизни, хотя многие неспециалисты полагают, что философия в основном занимается именно этим. Многие из этих пренебрежительных философов настаивали на бессмысленности этого вопроса, поскольку «смысл» обычно относится к словам и символам, а не к предметам, действиям и жизням. Для них вопрос «В чём смысл жизни?» подобен вопросу «Насколько тяжёл синий цвет?». Другие считали, что ответить на этот вопрос в принципе невозможно, или что даже если на него можно ответить, никто не знает и никогда не узнает ответа. Однако за последние четыре десятилетия этот ледяной пессимизм относительно смысла жизни начал таять. Всё больше мыслителей исследуют две области:
1 что означает вопрос о смысле жизни – что мы на самом деле спрашиваем, когда исследуем смысл жизни;
2 если вообще что-то, что делает жизнь осмысленной – что может придать смысл жизни человека?
Попутно философы развенчали некоторые мифы, которые заставили бесчисленное множество людей поверить в то, что их жизнь бессмысленна.
Смысл жизни велик или космичен?
Философы различают смысл жизни в целом – смысл вселенной или человеческого рода – и смысл в отдельных жизнях. Для многих людей «смысл жизни» относится к чему-то, находящемуся вне их. Такая точка зрения способствует мнению, что смысл жизни, каким бы он ни был, огромен, всеобъемлющ, великолепен; не говоря уже о том, что он неуловим, таинственен, возможно, недостижим и может быть открыт только гуру или мудрецами. Другие, однако, утверждают, что независимо от того, есть ли смысл где-то там, он определённо есть здесь – есть смысл, который мы находим или создаём только для себя.
Большинство философских исследований смысла жизни были сосредоточены на качествах или условиях, которые делают индивидуальную жизнь достойной того, чтобы жить в этом втором смысле. Здесь смысл связан с ценностью – с тем, что придаёт ценность или значимость, – и вещи, которые придают ценность, не являются ни таинственными, ни редкими.
Смешение этих двух значений смысла жизни приводит к путанице. Когда люди утверждают, что жизнь бессмысленна, они могут иметь в виду лишь то, что жизнь в целом лишена смысла; однако они также могут утверждать, что жизнь имеет смысл, имея в виду смысл, который проявляет их собственная жизнь. Следовательно, они могут верить, что их жизнь имеет смысл, и при этом логически последовательно утверждать, что «жизнь бессмысленна».
Заключается ли смысл жизни только в чем-то одном?
Когда люди спрашивают о смысле жизни, весьма вероятно, что они предполагают, что он состоит из одного-единственного фактора. Эта идея порождает бесчисленные шутки: смысл жизни – это фонтан, река, путешествие, 42, гольф, хоккей и кока-кола (потому что в этом вся суть). Но большинство философов, изучающих смысл, отвергают эту монистическую (единственно определённую) идею смысла – точку зрения. Они настаивают, что осмысленная жизнь заключается не только в достижении достойных целей или только в участии в чём-то большем, чем вы сами, или только в достижении достойных целей. Скорее, смысл жизни плюралистичен. Он связан с несколькими различными элементами. Если эта точка зрения верна, то вопрос «В чём смысл жизни?» – неверный.
Философ Таддеус Метц, автор книги «Смысл жизни: аналитическое исследование» (2014), предлагает следующее плюралистическое объяснение:
«В частности, я продвигаю подход, основанный на семейном сходстве, согласно которому исследование смысла жизни, по сути, сводится к изучению совокупности пересекающихся друг с другом идей. Спрашивать о смысле, на мой взгляд, означает задавать такие вопросы, как: какие цели, помимо собственного удовольствия как такового, наиболее достойны достижения ради них самих; как преодолеть свою животную природу; и что в жизни заслуживает величайшего уважения и восхищения?»
Философы считают многие виды деятельности и переживания значимыми, хотя и расходятся во мнениях о сравнительной ценности этих факторов и их взаимосвязи. Неудивительно, что в этот список входят, среди прочего, любящие и заботливые отношения, творчество, красота, личное совершенство, моральная доброта, альтруизм, знание, трансцендентность и достижения.
Смысл жизни в счастье?
Люди часто склонны отождествлять осмысленность жизни со счастьем, но большинство исследователей смысла жизни считают это ошибкой. Конечно, если ваша жизнь наполнена смыслом, вы, скорее всего, будете счастливы. Но мы можем представить себе человека, который постоянно и блаженно счастлив, например, потому что постоянно принимает тяжёлые наркотики; но мало кто назовёт такую жизнь осмысленной. Некоторые люди могут жить осмысленной жизнью, даже будучи несчастными, просто потому, что их осмысленная деятельность трудна или опасна.
Как говорит Джон Мартин Фишер в книге «Смерть, смертность и смысл жизни» (2019):
«Осмысленность – это не то же самое, что счастье, хотя мы и ожидаем связи между ними. Если жизнь наполнена смыслом, то, вероятно, человек будет счастлив. Но мы, конечно, можем представить себе людей с наполненной смыслом жизнью – учёных, художников, поэтов, философов и так далее, которые испытывают трудности в своих областях и поэтому не очень счастливы (если вообще счастливы). Или мы можем рассмотреть людей, чья карьера глубоко увлекательна и значима, но чья личная жизнь полна трудностей и поэтому не очень счастлива. Можно жить очень счастливой жизнью, которая лишь отчасти наполнена смыслом, и очень осмысленной жизнью, которая не очень счастлива».
Является ли осмысленность полностью субъективной?
Некоторые учёные придерживаются субъективизма в отношении смысла. Они считают, что смысл жизни зависит исключительно от того, чего человек хочет или выбирает. Говорят, что жизнь человека наполнена смыслом, если он получает то, чего страстно желает или к чему стремится, или делает то, что считает исключительно важным. В данном случае не существует объективных критериев осмысленности. Скорее, смысл жизни – это, как гласит интернет-мем, «что бы вы ни захотели». Однако большинство философов, изучающих смысл, с этим не согласны. Они утверждают, что смысл жизни, по крайней мере, частично независим от убеждений, установок и желаний людей. Многие действия и условия – создание прекрасной скульптуры, спасение жизни ребёнка, открытие новой экзопланеты и множество других – по их словам, объективно осмысленны. Если это так, то простая вера в то, что что-то делает вашу жизнь осмысленной, не делает её таковой. Самое весомое возражение против субъективных взглядов на смысл заключается в том, что, по-видимому, существует множество изначально ценных вещей, которые придают жизни смысл, независимо от того, желаемы ли они, преследуемы или верят ли в их значимость.
Имеют ли смысл только жизни, имеющие цель?
Многие спрашивают: «В чём смысл моей жизни?» или «Для чего я здесь?», и, не находя убедительного ответа, в отчаянии предполагают, что их жизнь бессмысленна. Но обоснован ли этот вывод? Несомненно, наличие нетривиального смысла жизни может быть важным источником смысла в жизни человека. Однако многие философы утверждают, что, во-первых, жизнь без общей цели тоже может быть осмысленной, и, во-вторых, какая бы цель ни присутствовала, она не обязательно исходит извне.
Конкретные переживания и действия могут быть значимыми, даже если они не служат какой-либо общей цели и не направлены на достижение какой-либо цели, выходящей за их пределы. Многие вещи, такие как приобретение знаний, добрые дела и созерцание красоты, обладают внутренней ценностью и, следовательно, имеют смысл – они не просто средства для достижения чего-либо. Они не направлены ни на что, выходящее за пределы самих себя. Не всё, что мы делаем, требует цели, завершения или предназначения, чтобы быть значимым.
Требует ли смысл совершенства?
Почему так много людей считают свою жизнь бессмысленной? По словам философа Иддо Ландау, в его книге «Найти смысл в несовершенном мире» (2017), главным препятствием часто становится несостоятельное честолюбие, которое он называет перфекционизм:
«Согласно этой предпосылке, осмысленная жизнь должна включать в себя некое совершенство, превосходство или какие-то редкие и трудные достижения, а жизнь, не демонстрирующая этой характеристики, не может считаться осмысленной. Осмысленная жизнь, таким образом, должна выходить за рамки обыденного и повседневного. Перфекционистов отличает то, что они не видят ценности, присущей также и несовершенству; они презирают и отвергают его… Перфекционисты считают, что если наш город не самый красивый в мире, то он отвратительно уродлив; что если человек не Эйнштейн, он глупец; и что если человек не пишет так, как Шекспир, ему лучше вообще бросить писать. Таким образом, перфекционисты настолько заняты поисками совершенства, что не видят и не находят удовлетворения в хорошем. А поскольку достичь совершенства редко, а порой и невозможно, перфекционисты, не желающие иметь ничего общего с тем хорошим, что несовершенно, не находят удовлетворения ни в чём, продолжая свои отчаянные поиски совершенства».
Ландау утверждает, что нам следует отвергнуть перфекционизм в поисках смысла. Одна из причин заключается в том, что мы, как правило, отвергаем его в других сферах жизни. Мы обычно не считаем, что прекрасная картина с крошечным изъяном бесполезна и должна быть сожжена, или что мы безнадежно невежественны, если не так мудры, как Аристотель, или что мы полные неудачники, если не получили Нобелевскую премию. Но если мы отвергаем перфекционизм в других сферах, мы должны отвергнуть его и в суждениях о смысле нашей жизни.
«В молодости я беспомощно попал в ловушку перфекционизма. Я был несчастен, потому что не мог сделать невозможное, и не обращал внимания на окружающее меня добро, которое было в пределах моей досягаемости. К счастью, я в конце концов перерос этот этап; но годы спустя я вспомнил о его безумии, когда мне поставили медицинский диагноз, который, казалось, тогда предвещал худшее. Я думал, что умру. Позже я узнал, что это определённо не так; но эта новость встряхнула меня, открыв для себя «посмертную» перспективу, с которой моя жизнь увидела переполненной смыслом, исходящим от моей семьи и друзей, людей, которым я помогаю, моих исследований и писательства, воспоминаний о хороших временах, лилейников в моём саду, детского смеха и многого, многого другого. Я видел все эти прекрасные, обычные, значимые вещи, и ни одна из них не была идеальной. Но и этого было достаточно».
Смысл жизни – обширная тема, необъятная и вызывающая множество разногласий. Но большинство тех, кто исследует эти воды, верят, что смысл можно найти в тысяче мест в жизни, большинство из которых достижимы, и что путь к ним прямее и короче, чем многие думают.
Философия смысла жизни
Многие выдающиеся исторические деятели философии дали ответ на вопрос о том, что, если вообще что-то, делает жизнь осмысленной, хотя обычно они и не формулировали это в таких терминах. Взять, например, Аристотеля о человеческой функции, Фому Аквинского о блаженном видении и Канта о высшем благе. В связи с этим вспомним Кохелета, предполагаемого автора библейской книги Екклесиаста, описывающего жизнь как «тщету» и сродни «погоне за ветром», Ницше о нигилизме, а также Шопенгауэра, когда он отмечает, что всякий раз, достигая желанной цели, мы обнаруживаем, «насколько она тщетна и пуста». Хотя эти концепции имеют некоторое отношение к счастью и добродетели (и их противоположностям), они прямо истолковываются (приблизительно) как описания того, какие высокопоставленные цели должен осознать человек, чтобы его жизнь стала значимой (если таковая вообще существует).
Лишь примерно с 1980-х годов в философии сформировалось отдельное направление, посвященное смыслу жизни. И только в последние 20 лет появились по-настоящему глубокие и сложные дискуссии на эту тему. Двадцать лет назад аналитическое размышление о смысле жизни описывалось как «тихая заводь» по сравнению с размышлениями о благополучии или качестве жизни. Сейчас это уже не так. Современная философия смысла жизни стала настолько динамичной, что в настоящее время ее слишком много, чтобы можно было привести все ее ссылки на данную тему.
Когда речь заходит о смысле жизни, люди, как правило, задают один из трёх вопросов: «О чём вы говорите?», «В чём смысл жизни?» и «Имеет ли жизнь смысл на самом деле?». Литературу о смысле жизни, написанную представителями аналитической традиции, можно эффективно структурировать в соответствии с вопросом, на который она пытается ответить.
1. Значение слова «Смысл»
Одна из целей этой области состоит в систематическом стремлении определить, что люди имеют в виду, размышляя о смысле жизни. Для многих специалистов такие термины, как «важность» и «значимость», являются синонимами «осмысленности» и, следовательно, недостаточно красноречивы, но есть и те, кто проводит различие между осмысленностью и значимостью. Также ведутся споры о том, как концепция бессмысленной жизни соотносится с идеями жизни абсурдной и не стоящей того, чтобы жить.
Полезный способ начать понимать, что подразумевается под размышлением о смысле жизни, – это определить носителя. Какую жизнь имеет в виду исследователь? Стандартное различие заключается в различии между смыслом «в» жизни, где человек – это тот, кто может обладать смыслом «жизни» в узком значении, и где человеческий вид в целом – это то, что может быть осмысленным или нет. В последнее время также обсуждался вопрос о том, могут ли животные или человеческие младенцы иметь смысл в своей жизни, причём большинство исследователей отвергают эту возможность, но другие начинают обосновывать её. Также недостаточно изучен вопрос о том, могут ли группы, такие как народ или организация, быть носителями смысла, и если да, то при каких условиях.
Большинство аналитических философов интересовались смыслом жизни, то есть осмысленностью, которую может проявить жизнь человека, и сравнительно немногие в наши дни рассматривают смысл жизни в узком смысле. Даже те, кто верят, что Бог является или будет центральным элементом смысла жизни, в последнее время чаще обращались к тому, как жизнь отдельного человека может быть осмысленной благодаря Богу, чем к тому, как может быть осмысленна человеческая раса. Хотя некоторые утверждали, что осмысленность человеческой жизни как таковая заслуживает исследования не в меньшей степени (если не в большей), чем смысл жизни, подавляющее большинство исследователей в этой области вместо этого интересовалось, имеют ли их жизни как отдельных личностей (и жизни тех, о ком они заботятся) смысл, и как они могут стать более осмысленными.
Сосредоточившись на смысле жизни, довольно часто утверждается, что концептуально это нечто хорошее само по себе или, соответственно, нечто, дающее базовую причину для действия. Некоторые учёные недавно высказали иное мнение, утверждая, что в жизни человека могут быть нейтральные или даже нежелательные виды смысла. Однако это отдельные случаи, поскольку большинство аналитических философов и, по-видимому, неспециалистов стремятся понять, когда жизнь человека демонстрирует определённую конечную ценность (или неинструментальную причину для действия).
Другое утверждение, по которому имеется существенный консенсус, заключается в том, что осмысленность не является принципом «всё или ничего», а приходит постепенно, так что некоторые периоды жизни более значимы, чем другие, и что некоторые жизни в целом более значимы, чем другие. Обратите внимание, что можно последовательно придерживаться мнения, что жизнь некоторых людей менее значима (или даже в определённом смысле менее «важна»), чем жизнь других, или даже бессмысленна (неважна), и при этом продолжать утверждать, что люди имеют равное положение с моральной точки зрения.
Рассмотрим консеквенциалистский моральный принцип, согласно которому каждый человек имеет значение в силу своей способности к осмысленной жизни, или кантовский подход, согласно которому все люди обладают достоинством в силу своей способности к самостоятельному принятию решений, где смысл является функцией реализации этой способности. В рамках обеих моральных точек зрения от нас может потребоваться помощь людям, чья жизнь относительно бессмысленна.
Ещё один относительно бесспорный элемент концепции осмысленности применительно к отдельным людям заключается в том, что она логически отличается от счастья или правильности.
Во-первых, вопрос о том, имеет ли чья-либо жизнь смысл, не то же самое, что вопрос о том, приятна ли жизнь конкретного человека или насколько она субъективно благополучна. Жизнь в машине опыта или устройстве виртуальной реальности, безусловно, была бы счастливой, но очень немногие считают её на первый взгляд кандидатом на осмысленность. Действительно, многие сказали бы, что жизнь человека логически может стать осмысленной именно через жертвование своим благополучием, например, помогая другим в ущерб собственным интересам.
Во-вторых, вопрос о том, имеет ли существование человека смысл в течение долгого времени, не тождественен размышлению о том, был ли он морально безупречным; существуют интуитивно понятные способы придания смысла, не имеющие ничего общего с правильными действиями или моральной добродетелью, например, совершить научное открытие или стать превосходным танцором. Конечно, можно утверждать, что жизнь была бы бессмысленной, если бы она была несчастной или безнравственной, или даже потому, что она была несчастной или безнравственной, но это означало бы установление синтетической, содержательной связи между понятиями, а не утверждение, что разговор о «осмысленности» аналитически сводится к коннотации идей о счастье или правильности. Вопрос о том, что делает жизнь человека осмысленной, концептуально отличается от вопросов о том, что делает жизнь счастливой или нравственной, хотя может оказаться, что наилучший ответ на первый вопрос апеллирует к ответу на один из последних.
Итак, предположим, что разговор о «смысле жизни» подразумевает нечто хорошее само по себе, что может приходить постепенно и что аналитически не эквивалентно счастью или правильности, что ещё это подразумевает? Что ещё мы можем сказать об этой конечной ценности по определению?
Большинство современных аналитических философов сказали бы, что соответствующая ценность отсутствует в проведении времени в машине опыта или жизни подобно Сизифу, мифическому персонажу, обречённому греческими богами вечно катить камень на гору (что широко обсуждалось в работе Альбера Камю и Тейлора в 1970 году). Кроме того, многие сказали бы, что соответствующая ценность типична для классической триады «добро, истина и красота» (или будет существовать при определённых условиях). Эти термины не следует понимать буквально, они представляют собой приблизительные обозначения благотворных отношений (любви, коллегиальности, морали), интеллектуальных размышлений (мудрости, образования, открытий) и творчества (особенно искусства, но также потенциально и таких вещей, как юмор или садоводство).
Продолжая, можно ли предположить, что ценности добра, истины, красоты и любые другие логически возможные источники смысла включают в себя нечто? В этой области пока нет единого мнения. Одна из основных точек зрения заключается в том, что понятие смысла жизни представляет собой совокупность или сплав пересекающихся идей, таких как достижение высших целей, достижение существенного уважения или восхищения, оказание значительного влияния, преодоление своей животной природы, обретение смысла или демонстрация захватывающей жизненной истории. Однако есть философы, которые утверждают, что в отношении этого понятия верно нечто гораздо более монистическое, так что (почти) все размышления об осмысленности жизни человека по сути касаются одного-единственного свойства. Предложения включают в себя преданность или благоговение перед качественно превосходящими товарами или внесение вклада.
В последнее время в этой области наблюдается своего рода «интерпретативный поворот», одним из примеров которого является устойчивое мнение о том, что рассуждения о смысле логически связаны с тем, можно ли и как постичь жизнь в более широкой системе отсчета. Согласно этому подходу, исследование смысла жизни – это не что иное, как поиск смыслообразующей информации, возможно, повествования о жизни или объяснения её источника и предназначения. Преимущество такого анализа заключается в том, что он обещает унифицировать широкий спектр значений термина «смысл». Однако у него есть недостатки, заключающиеся в невозможности уловить интуицию о том, что смысл жизни по сути хорош сам по себе, что не является логическим противоречием утверждения о том, что невыраженное состояние – это то, что придает смысл жизни, и что часто сами действия человека (в отличие от их интерпретации), например, спасение ребенка из горящего здания, являются тем, что несет в себе смысл.
Некоторые мыслители предполагают, что полный анализ концепции смысла жизни должен включать в себя так называемую «антиматерию» или «антисмысл», условия, снижающие осмысленность жизни. Идея заключается в том, что смысл хорошо представлен биполярной шкалой, где есть измерение не только позитивных, но и негативных условий. Неоправданная жестокость или деструктивность – первоочередные кандидаты на действия, которые не только не добавляют смысла, но и отнимают у жизни любой смысл, который она могла бы иметь.
Несмотря на продолжающиеся споры о том, как анализировать понятие смысла жизни (или сформулировать определение термина «смысл жизни»), данная область исследований остаётся в хорошем положении для достижения прогресса по другим ключевым вопросам, поставленным выше, а именно: что делает жизнь осмысленной и есть ли вообще хоть какая-то жизнь осмысленной. Определённую общую позицию обеспечивает точка зрения, что осмысленность предполагает некую конечную ценность в жизни человека, концептуально отличную от счастья и правильности, потенциальными примерами которой являются добро, истина и красота. Остальная часть этого обсуждения посвящена философским попыткам теоретически описать природу этой ценности и установить, существует ли она хотя бы в некоторых наших жизнях.
Сверхъестественное
Большинство философов-аналитиков, пишущих о смысле жизни, пытались разработать и оценить теории, то есть фундаментальные и общие принципы, призванные охватить все конкретные способы, которыми жизнь может обрести смысл. Как и в моральной философии, существуют известные «антитеоретики», то есть те, кто утверждает, что условия смысла слишком плюралистичны, чтобы их можно было объединить в виде принципа. Однако, возможно, систематический поиск единства ещё слишком мал, чтобы можно было сделать однозначный вывод о его наличии.
Теории стандартно подразделяются по метафизическому признаку, то есть по тому, какие свойства считаются составляющими смысл.
Сверхъестественные теории – это воззрения, согласно которым духовная сфера играет центральную роль в смысле жизни. Большинство западных философов рассматривали духовное в терминах Бога или души, как это принято в авраамических верованиях, где обсуждается смысл в контексте Бога, не заинтересованного в нас. Напротив, натуралистические теории – это воззрения, согласно которым физический мир, особенно хорошо познанный научным методом, играет центральную роль в смысле жизни.
Существует логическое пространство для ненатуралистической теории, согласно которой центральное место в значении занимает абстрактное свойство, не являющееся ни духовным, ни физическим.
Важно отметить, что сверхъестественное учение, утверждение о том, что Бог (или душа) наделяет жизнь смыслом, логически отличается от теизма, утверждения о существовании Бога (или души). Хотя большинство приверженцев сверхъестественного учения также придерживаются теизма, можно принять первое без второго (как, в какой-то степени, и поступал Камю), приняв точку зрения, что жизнь бессмысленна или, по крайней мере, лишена существенного смысла. Аналогично, хотя большинство натуралистов являются атеистами, не является противоречием утверждение, что Бог существует, но не имеет никакого отношения к смыслу жизни или, возможно, даже умаляет его. Хотя эти комбинации позиций логически возможны, некоторые из них могут быть по существу неправдоподобными. Данная область исследований могла бы извлечь пользу из обсуждения сравнительной привлекательности различных комбинаций оценочных утверждений о том, что делает жизнь осмысленной, и метафизических утверждений о наличии духовных состояний.