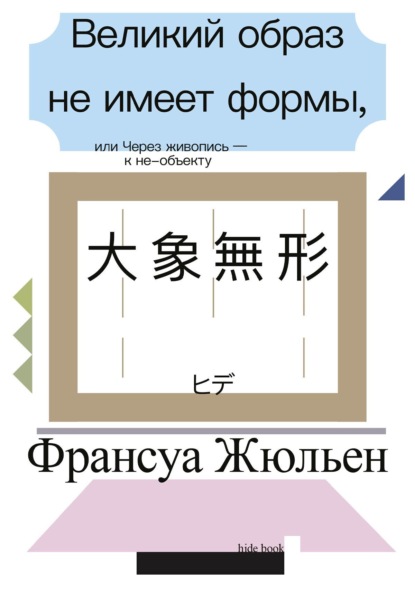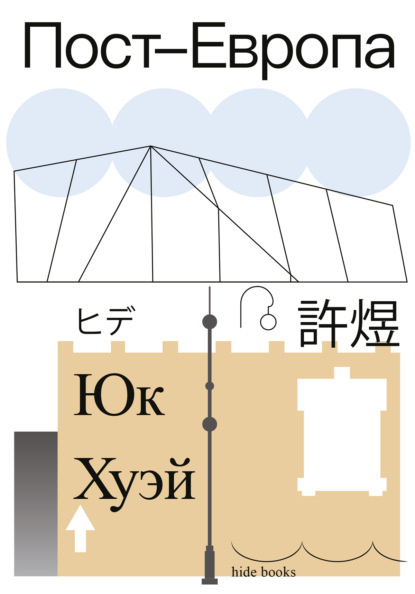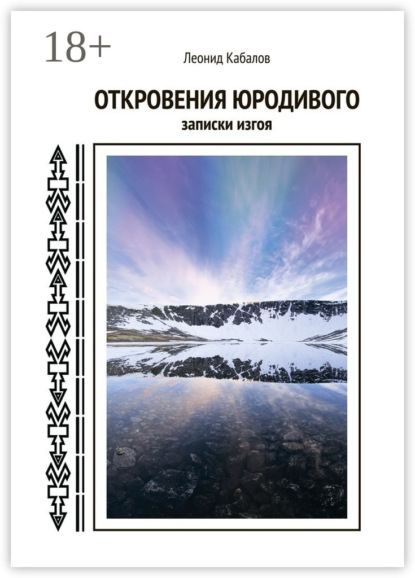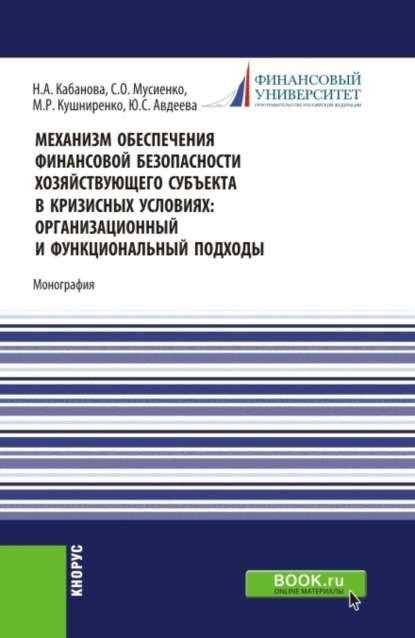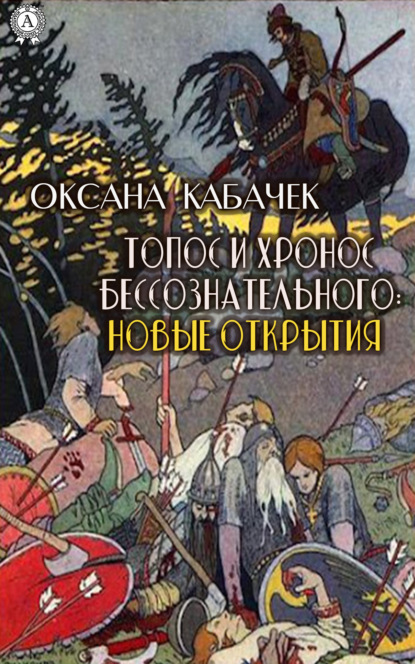- -
- 100%
- +

Genron 0: Kankoukyaku no tetsugaku @2017 Hiroki Azuma, @2017 Genron Co., Ltd.
Kankoukyaku no tetsugaku: zouhoban @2023 Hiroki Azuma, @2023 Genron Co., Ltd.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Перевод Валентин Матвеенко
Переводчик выражает благодарность Юлии Вильджюнайте за помощь в подготовке текста.
Обращение к российским читателям «Философии туриста»
Эта книга – первая из моих работ, переведенная на русский язык. Поэтому для начала я хочу кратко рассказать о себе.
Я родился в Токио в 1971 году. Свою докторскую диссертацию я защитил в 1999 году в Токийском университете, она была посвящена французскому философу Жаку Деррида. Выбери я обычную академическую карьеру, следующим шагом было бы трудоустройство в университет на должность преподавателя философии.
Но им я так и не стал. В 2000-е годы я зарабатывал на жизнь главным образом как независимый критик – писал книги, выступал на телевидении. Конечно, иногда я был аффилирован с университетами или исследовательскими центрами, но в штате никогда не состоял.
Среди моих ранних работ наибольшую известность получила книга 2001 года под названием «Постмодерн и его животные: Япония глазами отаку»[1]. Ее до сих пор считают моим главным произведением, и она переведена на несколько языков, включая английский и французский. В этой книге я рассматриваю отношения между культурой отаку и японским обществом в постмодернистском ключе. Возможно, своего читателя книга нашла бы и в России: насколько мне известно, аниме и японские видеоигры пользуются у вас популярностью.
2000-е годы были временем больших трансформаций на японском медиарынке: появились стриминговые сервисы и социальные сети. Мне тогда было чуть за тридцать, и постепенно меня стали воспринимать как одного из критиков, олицетворяющих эту эпоху перемен. Моей главной работой того периода является книга «Общая воля 2.0», вышедшая в 2011 году и также переведенная на английский язык. Она представляет собой попытку связать политическую философию Жан-Жака Руссо с теорией информационного общества.
За десять лет мне удалось добиться определенного успеха, и я стал в какой-то мере известным. Тогда у меня еще, наверно, была возможность вернуться в университет. Но вместо этого мне хотелось использовать появившиеся в те годы новые медиа, чтобы создать новое пространство для дискурса.
Так в 2010 году я основал собственное небольшое издательство, которое существует и по сей день. Оно называется «Гэнрон» [ゲンロン] (по-японски это слово означает «высказывание» или «дискурс»), и помимо книгоиздания мы занимаемся видеостримингом. Мы получаем минимально необходимую прибыль, но в полной мере коммерческим издательством нас назвать нельзя. С тех пор минуло 15 лет, я продолжаю держаться в стороне от университетов и СМИ, а свои философские тексты публикую преимущественно на собственных медиаресурсах. Японское издание книги, которую вы держите в руках, также вышло в нашем издательстве.
Поэтому назвать меня университетским человеком нельзя, а среди тех, кого таковыми назвать можно, я не пользуюсь признанием: у меня немало читателей, но в академических кругах меня в основном игнорируют. В Японии моя деятельность носит обособленный характер.
К чему этот рассказ о себе? – спросите вы. Мне кажется, знание этого контекста в значительной степени поможет понять идеи, изложенные в моей книге.
В Европе университет всегда оставался привилегированным пространством, но в Японии всё было иначе: для нас, японцев, университет – это, в конце концов, просто заимствованный институт. По-настоящему высокий статус в Японии традиционно имело, скорее, издательское дело: многие интеллектуалы никак не были связаны с университетами, и отдельное место среди них занимали именно литераторы. Даже во второй половине XX века литературные критики пользовались общенациональным признанием и нередко высказывались по политическим вопросам. Сегодняшнее доминирование поп-культуры – продолжение этой истории. Япония – страна с богатой и самостоятельной традицией гуманитарного знания, которая развивалась вне университетских рамок. Я родился в 1971 году, и дух того времени оказал на меня сильнейшее влияние.
Однако с наступлением XXI века в этой среде произошли резкие изменения. Во многом из-за упадка издательской индустрии, но, помимо этого, свои коррективы внес и рост новых интернет-медиа, о которых я уже говорил. Однако главное изменение – это стремительное внедрение в гуманитарные и социальные науки модели знания, заимствованной из англоязычного мира. Общепринятой стала точка зрения, в которой знание – это то, что принадлежит университету, а независимый критик – это не тот, кто достоин доверия. В результате сегодня в Японии, как и во многих других странах, закрепилось убеждение, что настоящий интеллектуал – это человек из академической среды.
Но в таком положении дел кроется серьезная проблема: в силу своей природы университет неизбежно разбрасывает своих представителей по узким специализациям. Литературовед говорит только о литературе, политолог – только о политике. Франковед – только о Франции, а германовед – только о Германии. Это вопрос академической этики, и в этом нет ничего предосудительного.
Но если просто сложить все эти разрозненные фрагменты экспертного знания, целостной картины общества не получится. Раньше в Японии именно внеуниверситетские издатели – и работавшие с ними независимые интеллектуалы – брали на себя задачу объединять голоса знатоков той или иной области и доносить до общества целостное понимание происходящего. Сегодня взять на себя эту роль некому. Забыта даже потребность в ней. Именно в этом зазоре и процветают сомнительные инфлюенсеры, а вместе с ними и теории заговора.
Мое отношение к этой ситуации пронизано ощущением кризиса. Именно оно подтолкнуло меня создать «Гэнрон» и написать эту книгу.
Поэтому «турист», о котором в ней идет речь, – это не только турист в буквальном смысле, но и воплощение вмешательства в нынешнюю ситуацию с устройством знания. Интеллектуал не должен замыкаться в узких рамках специализации. Он обязан выходить за ее пределы. Он должен настраивать каналы коммуникации с представителями других дисциплин и с широкой публикой. Именно эту мысль я хотел донести в своей книге.
Стиль моей аргументации чем-то схож с эквилибристикой: вот я ссылаюсь на политическую философию Карла Шмитта, а вот уже обращаюсь к математической теории сетей; читаю роман Достоевского – и тут же связываю лакановский психоанализ с интерфейсами компьютера. Я свободно пересекаю границы жанров, переплетая между собой идеи, рожденные в разных странах и в разные эпохи. Всё это далеко от академической строгости. Того, кто возьмется за эту книгу в предвкушении традиционного философского труда, ждет, скорее всего, дезориентация – и, как уже было сказано, именно поэтому книга не нашла отклика в японской академической среде.
Однако, как становится ясно из всего сказанного выше, для меня этот стиль – не просто форма изложения, а неотъемлемая часть самого послания книги.
Эта книга – не просто философское рассуждение об идее туриста. Это также попытка на практике реализовать туристскую, то есть постспециализированную, постуниверситетскую, своевольную философию.
Для меня большая честь, что эта книга переведена на русский язык. Россия долгое время служила мне источником вдохновения. Романы Достоевского и фильмы Тарковского глубоко потрясли мою душу в подростковом возрасте и стали отправной точкой моего философского пути. К тому же – что, возможно, вызовет недоумение у читателей, симпатизирующих либерализму, – в юности моим политическим героем был Солженицын. Речь, конечно, о том времени, когда он еще не вернулся в Россию и не стал сторонником великорусскости.
Поэтому в студенчестве я изучал русский язык. В своей магистерской диссертации я даже проводил параллели между Деррида и Бахтиным. В те годы я мог читать по-русски. К сожалению, сегодня этот навык уже утрачен, но я всё еще немного понимаю русский язык – самую малость, но понимаю.
Тем не менее долгое время у меня не было возможности побывать в России. Впервые это мне удалось лишь в 2013 году. В 2011 году в Японии произошло сильнейшее землетрясение, за которым последовала крупная авария на АЭС (в Фукусиме). Это побудило меня задуматься о связи между катастрофой и туризмом – и за ответами я отправился в Киев и Чернобыль (кратко об этой поездке я рассказываю во второй главе). На обратном пути у меня была пересадка в Москве, и я провел там полдня.
Я до сих пор не могу забыть то волнение, которое я ощутил в Шереметьеве, услышав вокруг себя живую русскую речь. Вот оно – я ведь действительно любил этот язык, эту культуру! Я был ошеломлен так, будто лицом к лицу встретился с давно забытым другом. Тогда я решил обязательно вернуться – и действительно потом еще несколько раз приезжал в Россию в качестве туриста. Однажды даже съездил в Старую Руссу – городок, послуживший прообразом места действия «Братьев Карамазовых».
Нет необходимости объяснять, что сегодня для меня, живущего в Японии, такие поездки стали практически невозможны. По крайней мере они не попадают в категорию «взял и поехал». На момент написания этого текста между Россией и Японией по-прежнему не восстановлено прямое авиасообщение – и неизвестно, когда это произойдет. В связи с началом второго срока Трампа политическая обстановка в 2025 году стремительно меняется. Что будет дальше в отношениях между Россией, Украиной, США и Европой – совершенно непредсказуемо. Да и перспективы российско-японских отношений не менее туманны.
Тем не менее одно я могу сказать точно: как бы ни складывались отношения между любыми государствами – даже если представить самый мрачный сценарий в виде войны,– у нас, у простых граждан, остается право отстраниться от политического курса и поддерживать добрые отношения как личности. И мы ни в коем случае не должны отказываться от этого права. В терминах этой книги – это право на туризм.
Повторюсь: для меня большая честь, что эта книга – книга, отстаивающая право на туризм, – выходит на русском языке именно в это непростое время, в 2025 году. Нам необходимо сохранять солидарность – как туристы.
В заключение я хотел бы выразить благодарность переводчику этой книги, Валентину Матвеенко, а также Ёко Уэде, которая курировала переговоры между издательствами «Гэнрон» и «Ад Маргинем».
В 2013 году Уэда была координатором вышеупомянутой поездки в Чернобыль. Тогда она только присоединилась к «Гэнрон», а сегодня уже принимает участие в управлении компанией. Она искренне влюблена в Россию, и именно она больше всех радуется выходу этой книги – пожалуй, даже больше меня. Я многим обязан ей за всё, что она делает для нас, и счастлив, что могу порадовать ее вот таким способом.
16 марта 2025 года
Адзума Хироки
Предисловие к дополненному изданию
Эта книга является дополненным изданием «Философии туриста», опубликованной в 2017 году.
Первое издание этой книги вышло при сложных обстоятельствах и мыслилось как открывающий выпуск журнала «Гэнрон». В нынешнем издании я решил убрать ту часть заголовка и оставить просто «Философию туриста», чем я вполне доволен. Подробности тех сложных обстоятельств можно прочесть в «От автора».
В настоящем издании дополнение «О вторичном творчестве» было включено в основную часть книги, став главой 2. В результате нумерация последующих глав сдвинулась. Учтите это при цитировании. Кроме того, название части II было изменено с «Философии семьи (предварительные замечания)» на «Философию семьи (введение)». Что касается содержания обеих частей книги, оно осталось нетронутым, если не считать неизбежного изменения в нумерации оглавления и исправления некоторого количества опечаток.
В конце книги добавлен раздел «Дополнение», в который включены две новые главы. Они представляют собой переработанные версии двух самостоятельных эссе, написанных уже после публикации первого издания. Содержательно эти эссе тесно связаны с основными темами книги и, как мне кажется, помогут глубже понять ее.
Настоящая книга, если выразить ее суть в паре слов, – это книга о философии, утверждающей «состояние туриста». А если еще точнее, это книга, которая признает состояние небрежности, состояние незавершенности, а также «непринужденное» течение мысли и связей.
Философия на протяжении всей своей истории стремилась к прояснению спорных вопросов, к четкому разграничению друзей и врагов, к радикальному проведению границ в мире. Однако в этом подходе есть то, что неизбежно ускользает от взгляда. Более того, если наша цель – сделать мир лучше, то в мире XXI века, где темы разделения и поляризации поднимаются повсеместно, именно это ускользающее от взгляда и имеет значение. Эту проблему и ставит перед собой настоящая книга.
Поэтому в ней я уделил внимание самому способу изложения. Это философский труд. Здесь упоминаются имена философов прошлого, встречаются сложные термины, заимствованные из других языков. Но в то же время эта книга похожа и на сборник эссе. Поэтому в ее рассуждениях присутствуют не только академические ссылки и аргументация, но и ряд «непринужденных» размышлений, не стесненных строгой логикой. «Я» в этой книге – это не просто слово, вызванное необходимостью предикации[2], а реальный человек, Адзума Хироки. Это «я» время от времени делится то личными воспоминаниями, то спонтанными мыслями.
Это не случайность, но мой собственный прием и своего рода вызов. В результате эта книга нашла отклик у многих читателей и получила престижные награды. Мне кажется, эксперимент оказался успешным.
Однако были и случаи непонимания. Незадолго до выхода первого издания я отправил сверстанный файл человеку, которому многим обязан. В ответ я получил сообщение, мол, было интересно, но хотелось бы прочесть что-то более основательное. Эти слова до сих пор грустью отзываются в моей памяти. Конечно, у каждого свой способ чтения книг, да и у меня недостатков хватает. Однако если под «более основательным» подразумевается стиль философских книг того времени, когда в них разбрасывались именами и терминами, а всякий клубок событий с треском разрубался подобно гордиеву узлу (по крайне мере так это выглядело), то именно осознание пределов такой философии и заставило меня выбрать другой стиль.
Изначально я занимался изучением зарубежной философии, в частности, постмодернизма. С тех пор прошло четверть века, я по ряду причин покинул университет и академические круги и достиг нынешнего необычного статуса независимого автора и заодно руководителя небольшой компании. Мое окружение изменилось, и теперь я размышляю о философии уже на языке, приближенном к повседневности.
Когда я смотрю на мир современной «мысли» с этой позиции, меня охватывает глубокое недоумение: некогда близкие мне постмодернизм и постструктурализм, а также выросшие из них новые академические дисциплины, такие как культурные, гендерные и постколониальные исследования, превратились в оружие для споров, в инструмент нападок и взаимных обвинений. Либеральный постмодернизм незаметно переродился в одну из самых нетерпимых и агрессивных форм дискурса. И, вероятно, истоки этого восходят к той самой «интеллектуальной» манере, которую я упоминал: к стилю философских трудов определенного времени, стремившихся ошеломить читателя незнакомыми именами и сложной терминологией, создавая иллюзию, будто теория способна нарезать мир на идеальные и ровные части, – стилю, который был одновременно чрезвычайно маскулинным, нарциссическим и угнетающим.
Поэтому я сознательно выбрал «непринужденный» стиль изложения. Разве не в самом этом выборе заключается по-настоящему «основательное» обращение к возможностям философии сегодня?
Я считаю себя либералом и постмодернистом. Однако современный либеральный постмодернизм слишком далек от того, что я понимаю под этими словами. Спустя шесть лет после выхода первого издания, на фоне войн и пережитой пандемии, эти мысли только крепнут.
Это дополненное издание выходит в июне 2023 года. Через несколько месяцев после этого планируется публикация продолжения – «Философия исправимости»[3]. На момент написания этого предисловия я приближаюсь к заключительному этапу работы над рукописью.
В новой книге рассматриваются вопросы, оставшиеся неразрешенными в «Философии туриста», – но уже через призму нового концепта «исправимости». Именно поэтому название части II книги, которую вы держите в руках, было изменено на «Философию семьи (введение)»: в первой части «Философии исправимости» эта тема будет представлена в завершенном виде. Помимо этого, основополагающим в книге будет вопрос о том, каким образом современный мир может унаследовать и переосмыслить дух либерального постмодернизма.
Я занимаюсь философией уже долгое время. Человек, который, равно как и я однажды изучал ее на факультете гуманитарных наук, приобретает назойливую привычку: говорить о собственных идеях только через отсылки к философам прошлого – цитировать одних и критиковать других. Как говорил Кант… как говорил Шмитт… как говорила Арендт… Всякая аргументация превращается в бесконечную вереницу цитат. Это едва ли понятно людям, не связанным с гуманитарными науками, но для выпускников гуманитарных направлений эта дурная привычка становится своего рода хроническим заболеванием.
Ее следы заметны и здесь. Ссылок в книге – множество. Такое же множество – и в ее продолжении. Они послужат успокоением тем читателям, кто близок к академическим кругам, но самому мне хотелось бы эту привычку уже перерасти.
Философии следует быть своевольнее, ей следует быть «непринужденнее». Возможно, «Философия туриста» и «Философия исправимости» станут последними книгами, которые я напишу в этом старом стиле «философского труда». Надеюсь, вы прочтете их одну за другой.
14 апреля 2023 года
Предисловие к первому изданию
Настоящая книга – или, если угодно, журнал – одновременно является запоздавшим «открывающим» номером (№ 0) критического журнала «Гэнрон», учрежденного нашей компанией[4] в декабре 2015 года, и заключительным выпуском (№ 5) нашего альманаха «Сисō тидзу β», который после более чем трехлетнего перерыва завершает историю издания, начатую в январе 2011 года. В то же время это философская работа, написанная мной зимой 2016–2017 годов. Вопрос о том, считать эту работу выпуском журнала или отдельной книгой, зависит от способа распространения, который, на мой взгляд, не имеет существенного значения. Как бы то ни было, весь текст был мною переработан.
Книга, которую вы держите в руках, носит философский характер. Хотя я и занимаюсь критикой, философия мне не безынтересна. Мой первый текст был опубликован в 1993 году. Это была критическая статья о советском писателе-диссиденте Александре Солженицыне. С тех пор, вот уже как четверть века, я размышляю о самых разных вещах, но в особенности о том, какая же философия действительно нужна миру XXI века, миру, охваченному сетями, террором и ненавистью. В этой книге собраны выводы, к которым я пришел на сегодняшний день.
За последние двадцать пять лет я занимался исследованиями в самых разных областях: от философии и социального анализа до литературы и культурной критики. Неудивительно, что мои работы вызывали неоднозначные отклики, а порой и откровенное недоумение. Эта книга – попытка упорядочить всё, что было сделано ранее, и объединить мои работы в единую систему, поэтому ее можно прочесть как продолжение любой из моих ранее изданных книг: «Онтологическое, почтовое: о Жаке Деррида» [1998], «Постмодерн и его животные: Япония глазами отаку» [2001][5], «Общая воля 2.0: Руссо, Фрейд, Google» [2011], «Слабые связи: путешествие по поисковым запросам» [2014]. Наверное, ее можно прочесть даже как своеобразное продолжение моего романа «Quantum Families» [2009].
В процессе работы над этой книгой я впервые за почти два десятилетия честно и открыто принял собственный стиль «критики». Вплоть до сегодняшнего дня сам факт того, что я критик, вызывал у меня тревогу: казалось, мои работы не способны принести ни удовольствия, ни пользы. Но теперь эти сомнения развеялись. Теперь, когда я закончил эту книгу, я как никогда прежде ощущаю свободу писать.
Подготовка этого текста к изданию была непростой. Изначально предполагалось, что он будет опубликован в 2013 году в пятом выпуске «Сисō тидзу β», который планировался как альманах с работами нескольких авторов, и будет разослан подписчикам четвертого сезона.
Однако по ряду причин альманах так и не вышел, но поскольку подписки уже были оплачены, необходимо было предложить читателям равноценную замену. Так родилась идея специального «открывающего» номера, в котором я выступил бы единственным автором, а его основой стала расшифровка моей речи по случаю основания «Гэнрон». Это и стало отправной точкой для издания книги, которую вы сейчас держите в руках. Началась подготовка к изданию, выход планировался уже осенью 2015 года или, самое позднее, в конце декабря. Летом материал был подготовлен и отправлен на редактирование. Вскоре был готов черновой вариант, а я внес уже более половины правок.
Однако настоящие трудности были еще впереди. В декабре 2015 года, не дожидаясь готовности «открывающего» номера, вышел просто первый номер журнала «Гэнрон». Журнал хорошо приняли. Узнаваемость нашей компании также начала расти благодаря работе кафе и школы Genron. На фоне этих событий я стал сомневаться, стоит ли выпускать книгу в ее изначальном виде. Меня смущало, что она основана на расшифровке. Да, многие современные критические работы создаются подобным образом, и кажется, что в будущем их будет только больше, но после выхода первого номера «Гэнрон» мне показалось, что лучше так не делать. Поэтому с наступлением зимы я решил выбросить все свои наработки и переписать книгу с нуля. На подготовку новой рукописи ушло три месяца.
В этой книге ключевым понятием становится «ошибочная доставка»[6]. Если позволить себе небольшое опережение, можно сказать, что и сама эта книга – результат подобной ошибки.
Эта книга никогда бы не появилась, если бы не были оплачены подписки на наш журнал «Сисō тидзу β» и если бы обстоятельства не вынудили нас отказаться от его издания. Кроме того, я бы никогда не написал эту книгу, если бы семь лет назад не решил основать компанию и начать совершенно другую жизнь. Не поступи я так, вероятно, я бы и вовсе перестал писать и никогда бы вновь не ощутил своеволия критики. На протяжении практически десяти лет я действительно не раз говорил, что не напишу больше ни одной книги. Тем не менее книга состоялась – и только потому, что я начал ее с чистого листа.
Ошибочная доставка – это то, что формирует общество, а затем солидарность. Поэтому нам следует сознательно подвергать себя такой возможности. Этот тезис будет подробно раскрыт в главе 5, однако уже само существование этой книги – хорошая тому иллюстрация.
Но стоит признать, что ошибка доставки – это, прежде всего, неудобства. Подготовка этого издания принесла немало хлопот множеству людей. Пользуясь случаем, я приношу свои искренние извинения нашим подписчикам четвертого и пятого сезонов, которые ждали публикации не один год, а также типографиям и всем участникам книжного рынка, которых мы изводили постоянно меняющимися планами и ничем не обоснованными прогнозами. Досталось и моим коллегам. Я надеюсь, что содержание этой книги позволит загладить мою вину.
Критика всё еще способна на многое. По крайней мере она способна говорить о важных вещах. Я надеюсь, что это послание будет «по ошибке доставлено» как можно большему числу читателей.
1 марта 2017 года
Часть I. Философия туриста
Глава 1. Туризм
1.В 2014 году я опубликовал небольшую книгу под названием «Слабые связи: путешествие по поисковым запросам»[7]. В ней я предложил следующую трихотомию: местные жители, странники и туристы. Мой тезис состоял в том, что для полноценной жизни необходимо быть не «местным», который принадлежит лишь определенному сообществу, и не «странником», который никакого сообщества не имеет, но необходимо быть «туристом», то есть тем, кто принадлежит определенному сообществу, но в то же время наведывается и в другие.
Книга вызвала неожиданную волну откликов. Вероятно, это было связано с тем, что описанный мною «турист», который не является ни «своим», ни «чужим», а своего рода третьим модусом существования, мог быть понят как форма мировоззрения или самосовершенствования[8]. Издатели, собственно, так это и рекламировали.
Однако читатели, более искушенные в философии и критике, вероятно, восприняли эти рассуждения как нечто достаточно тривиальное. Хотя в «Слабых связях» я об этом и не говорю, но моя теория туриста является отголоском множества идей из истории философии и критики, включая известную схему Ямагути Масао «центр – периферия».