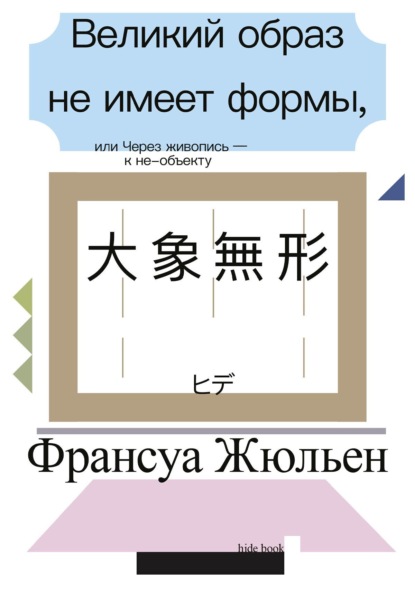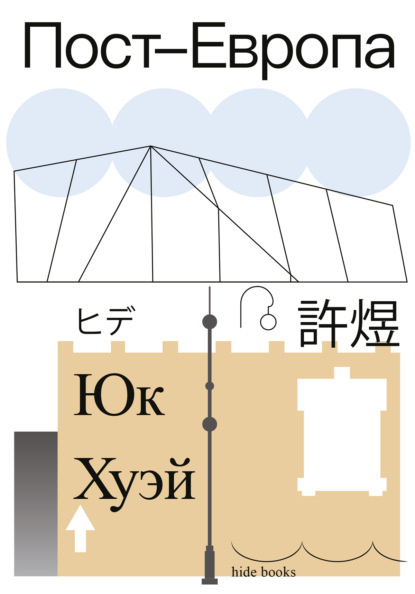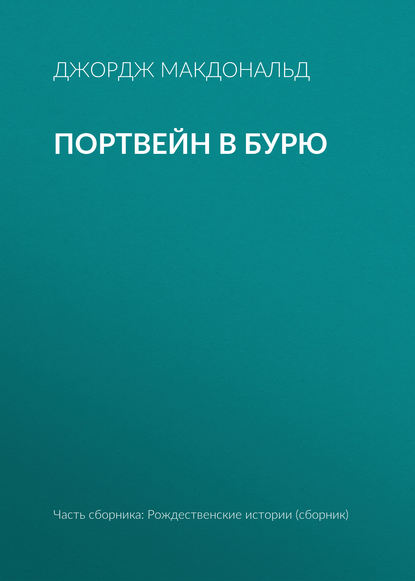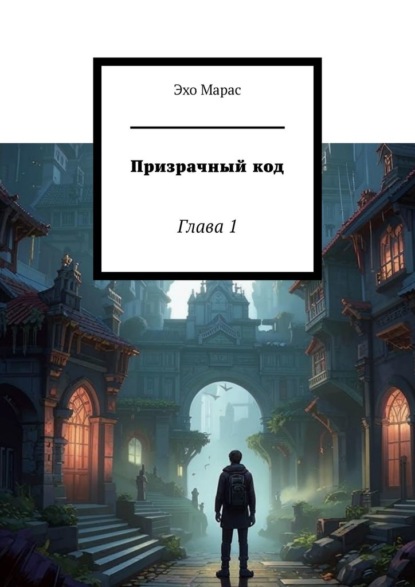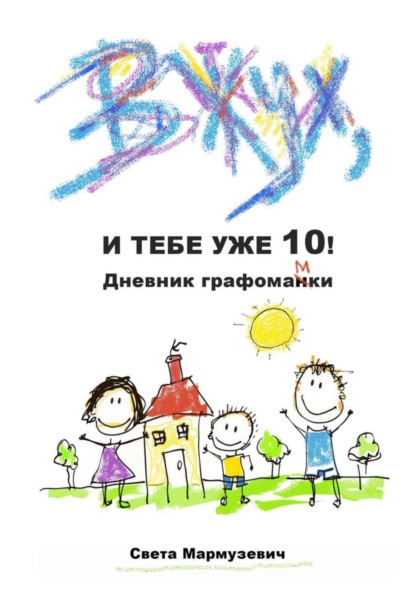- -
- 100%
- +
В исследованиях туризма не рассматривается его сущность, а за пределами таких исследований туризм воспринимается как поверхностное явление. Следовательно, о сущности туризма не задумывается вообще никто. Таков был краткий обзор истории исследований туризма. Признаки того, что ситуация меняется, начали появляться в 1990-х годах.
На самом деле вышеупомянутый «Взгляд туриста» стал знаковым трудом в этой области. Эта работа была опубликована в 1990 году в виде монографии Урри, а позже, в 2011 году, вышло значительно дополненное третье издание в соавторстве с Ларсеном (например, добавлены ответы на критические замечания к первому изданию, обозначены новые работы в свете появления интернета). Книга оказала значительное влияние на следующие поколения исследователей и представляет собой работу, в которой с учетом достижений постмодернистской критики и культурных исследований, рождение туризма рассматривается в духе Фуко как рождение «взгляда».
Однако даже эта книга начинается со следующего вступительного замечания:
Туризм, поездки и путешествия – это более значимые социальные явления, чем считают большинство исследователей. На первый взгляд не может быть более пустяковой темы для книги. На самом деле, поскольку представители общественных наук столкнулись с немалыми сложностями при объяснении более серьезных тем, таких как труд или политика, можно предположить, что они столкнутся с еще большими сложностями при рассмотрении таких незначительных явлений, как поездки на каникулы[29].
Эти слова присутствуют и в третьем издании. То есть туризм уже в 1990 году (и даже в 2011-м!) всё еще считался в академическом смысле «пустяковым» и «незначительным» явлением. Исследователи неприкладного значения туризма должны были заранее выстроить линию обороны против такого взгляда.
Кроме того, еще более трагично (или комично?) то, что Урри и его коллеги, которые должны были переломить ситуацию и заложить теоретические основы исследований туризма, сами выразили неодобрение по отношению к нынешней глобализации туризма. В заключительной главе третьего издания «Взгляда туриста», названной «Риски и будущее», выстраиваются взаимосвязи между отношениями терроризма и туризма и разрушением экосистем, а в конце приводится жесткая критика бурно развивающейся туристической индустрии Дубая:
Таким образом, угасание и упадок Дубая может стать началом гораздо более масштабного снижения значимости туристического взгляда. Будет ли в 2050 году всё еще существовать относительно широко распространенный и общепринятый «туристический взгляд»?[30]
Авторы ставят знак вопроса, но этот вопрос явно содержит неудовлетворительный ответ. Они считают, что даже если XXI век станет веком туризма, этот туризм обязательно примет измененную форму.
Однобокая критика туризма, подобная предложенной Бурстином, сегодня неприемлема. Существуют более деликатные способы рассмотреть различные аспекты туризма. Но всё же даже такие исследователи не могут найти ничего хорошего в динамике развития туризма, который глубоко связан с капитализмом.
Однако если это так, то почему сегодняшний мир заполонен туристами? В силу человеческой глупости? Продолжит ли человечество беззаботно дрейфовать по направлению к концу истории, укрывшись в постмодернистской утробе в окружении туризма, торговых центров и парков развлечений?
Не думаю. Поэтому и предлагаю философию туриста.
3.Туризм зародился в XIX веке, расцвел в XX веке, а наше столетие, возможно, станет его веком. Если это так, то настало время для философского осмысления туризма. Это отправная точка для написания настоящей книги.
Несмотря на это, при беглом рассмотрении мы обнаружили сложность: попытки говорить о туризме философски, но не в негативном ключе будто бы упираются в стену. Чтобы создать философию туриста, прежде всего мы должны разрушить эту стену. Именно с этого и начинается моя книга.
Мы встретимся с этой стеной лицом к лицу. В главе 3 мы установим, что она собой представляет, а в главе 4 сделаем в ней разлом. Затем, в главе 5, завершающей первую часть книги, мы очертим контур будущего туриста, который увидим в просвете этого разлома. В части 2 мы обратимся к другой теме.
Главы 3 и 4 написаны в непривычно «серьезном» для меня стиле сухого философского трактата. В них я поочередно обращусь к работам таких мыслителей, как Вольтер, Кант, Шмитт, Кожев, Арендт, Нозик и Негри. Поскольку данная книга претендует на звание философского труда, такой подход неизбежен. В то же время читателям, не привыкшим к витиеватому характеру изложения в философских работах, такая структура, вероятно, может затруднить восприятие замысла книги и течения мысли в ней.
Поэтому здесь, прежде чем закончить первую главу, я хотел бы прямо и в более широком контексте объяснить, чего я пытаюсь достичь, разрабатывая философию туриста. У меня три цели.
Первая состоит в том, что я хочу предложить новую рамку для осмысления глобализма.
Туризм неотделим от глобализма. Выражаясь иначе, он неотделим от пересечения границ. Так было со времен Томаса Кука: с самого начала своего дела Кук стремился к международному туризму.
Следовательно, дискуссию о плюсах и минусах туризма нельзя отделить от дискуссии о плюсах и минусах глобализма. Плюсы и минусы глобализма – это тема, обсуждаемая сегодня, в 2015 году, по всему миру. Таков контекст написания данной книги, но какова ее позиция по отношению к глобализму? Как видно из самой концепции философии туриста, в этой книге глобализм категорически не считается злом. Скорее, книга говорит об ограниченности сегодняшних гуманитарных наук в силу их неспособности рассматривать глобализм как-либо иначе.
Почему? Теоретическое разъяснение будет предложено в следующей главе, а здесь я хотел дать простое замечание о моем понимании глобализма. Глобализм – это хорошо или плохо? Когда я размышляю над этим вопросом, мне вспоминается видео, снятое каналом BBC в 2010 году, его сейчас можно найти в интернете. Рисунок 3 в схематичном виде изображает один из кадров того видео. Вероятно, это нелегко разглядеть, но там изображен график с двумя осями координат: средняя продолжительность жизни (вертикальная ось) и национальный доход на душу населения (горизонтальная ось). На самом графике в виде кругов различного диаметра, пропорциональных численности населения, отмечены различные страны от развивающихся до развитых. Одним словом, чем выше национальный доход (чем богаче) и чем выше средняя продолжительность жизни (чем здоровее), тем выше и правее страна будет расположена на графике. С течением времени положение элементов на графике будет меняться.

Рисунок 3. График из «200 стран, 200 лет, 4 минуты с Хансом Рослингом»
Я бы хотел, чтобы заинтересованные читатели сами посмотрели это видео. Потрясает тот факт, что если взять в качестве отправной точки начало XX века и двигаться вперед, то разрыв между странами будет сокращаться, и все они будут стремиться к правому верхнему углу, то есть становиться богаче и здоровее. Конечно, есть и исключения, например Первая и Вторая мировые войны: Япония сразу после войны падает в левый нижний угол. Однако это исключение. Сокращение разрыва в продолжительности жизни, начавшееся с 1970-х годов, выглядит особенно впечатляюще. Человечество, безусловно, становится богаче и здоровее.
Конечно, это упрощенное представление. Остается открытым вопрос о том, действительно ли национальный доход отражает «богатство» населения. Тем не менее очевидно, что образ мира, возникающий при просмотре этого видео, сильно отличается от представленного в однобокой критике глобализма, особенно со стороны левых СМИ.
Глобализм, безусловно, усилил концентрацию богатства. Он также увеличил разрыв между бедными и богатыми в развитых странах. Но в то же время он сократил разрыв в благосостоянии между странами. Что скажете на это счет? Считаете ли вы проблемой то, что за счет вашего собственного народа богатеет другой? Либо же вы воспринимаете это как благо, потому что богатеет всё человечество в целом?
Вне зависимости от того, воспринимать это негативно или позитивно, ясно одно: на наших глазах мир стремительно становится всё более и более однородным. Как было показано в упомянутом ранее видеоролике, экономическое неравенство между странами сегодня сокращается быстрее, чем неравенство между городами и сельскими районами внутри отдельно взятой страны (на видео для некоторых городов были построены такие же графики, как для стран). Если говорить словами Томаса Фридмана, чья книга «Плоский мир. Краткая история XXI века» была бестселлером около 10 лет назад[31], то мир сегодня действительно становится «плоским». Теперь мы живем в эпоху, когда, куда бы мы ни поехали, будь то США, Европа, Азия, страны бывшего соцлагеря или Ближний Восток, мы видим одну и ту же рекламу, слышим одну и ту же музыку, ходим в одни и те же торговые центры, полные одних и тех же брендов, и покупаем там одну и ту же одежду. Стремительный рост туризма неотделим от этих перемен. Вопрошать о философском смысле туриста сродни вопрошанию о философском смысле такого «выравнивания».
Подобные слова, вероятно, могут вызвать у некоторых читателей негодование и вопросы о том, не одобряю ли я насилие капитала. Нельзя сказать, что я собираюсь предлагать наивную апологию капитализму, это станет очевидно при прочтении книги. Я бы хотел, чтобы вы увидели, как размышления вокруг фигуры туриста могут стать опорой для «сопротивления». Постараюсь это продемонстрировать.
Вторая цель чуть более абстрактна, чем первая, и заключается в том, чтобы предложить рамку для осмысления человека и общества не с точки зрения нужности (необходимости), а с точки зрения ненужности (случайности).
Прежде всего туризм – это не то, чем занимаются потому, что так надо. Это отражено в определении из учебника, упомянутого ранее («путешествие для удовольствия»), и в статистических критериях Всемирной туристской организации ООН (отсутствие оплаты за осуществляемую деятельность в посещаемом месте). Путешествия, совершаемые из нужды в средствах к существованию или «по работе», не являются туризмом. Туризм как таковой подразумевает ситуацию, в которой вы по своей прихоти отправляетесь в места, ехать в которые нужды у вас нет, чтобы увидеть то, в чем вы не нуждаетесь, и встречать людей, в которых вы не нуждаетесь. Именно поэтому туризм – это индустрия, которая может сформироваться только в богатых обществах с возросшими со времен промышленной революции производственными мощностями, где не только прослойка богатых, но и средний и рабочий классы могут вкладывать определенную сумму денег в вещи, не нужные им для выживания.
Подобная ненужность (случайность) туризма глубоко связана с проблемами городской культуры. Урри и Ларсен отмечают, что зарождение туризма совпало с появлением «гуляющих» (фланеров), на что обратил внимание немецкий критический теоретик Вальтер Беньямин[32].
В Париже первой половины XIX столетия стали популярны торговые пространства со стеклянными крышами, известные как пассажи. Пассажи находились на улице, но были крытыми. Фланерами называли тех, кто, разглядывая витрины, праздно бродил по таким пространствам, которые сложно было назвать как уличными, так и внутренними. Такого типа людей не существовало до появления пассажей. Как отмечает социолог Вакабаяси Микио[33], пассажи – это дальние родственники торговых центров (хотя архитектурные истоки торговых центров принято относить к США 1950-х годов), а фланеры – это дальние родственники посетителей торговых центров. Теперь же та фигура, которая подобно фланеру становится частью посещаемого пейзажа, – турист. У туриста нет каких-либо житейских нужд в посещаемых местах. У него нет нужды что-либо покупать, как нет и нужды куда-либо ходить. Всякая вещь, которую встречает турист, для него представляется товаром, объектом или экспонатом, на который падает его блуждающий и праздный, иными словами – случайный, взгляд.
Выше я упомянул Всемирную выставку, проходившую в Лондоне. Собственно говоря, та выставка была тесно связана с пассажами.
Всемирная выставка 1851 года, как известно, стала поворотным событием в истории, так как ознаменовала собой смещение центра тяжести британского общества того времени от аристократии к среднему классу, а также смещение ценностных ориентиров от красоты к производству. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что главной достопримечательностью выставки было огромное стеклянное здание, которое называлось Хрустальным дворцом[34]. Сооруженная из стекла и железа, в интерьерах которой были представлены промышленные товары со всего света (сама организация внутреннего пространства обыгрывала воображаемое путешествие по миру), эта гигантская конструкция, по словам Беньямина[35]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Буквальный перевод названия книги: «Анимализирующий постмодерн: Япония глазами отаку» (動物化するポストモダン オタクから見た日本社会). На английском языке книга вышла под заголовком «Otaku: Japan’s Database Animals». Один из сюжетов книги – трансформация субъекта из состояния человека в состояние животного, вследствие чего я предложил такой вариант перевода.– Примеч. пер.
2
В силу грамматических особенностей японского языка личные местоимения в нем используются значительно реже, чем в европейских языках, а могут и вовсе не использоваться. В академической литературе «якать» или «мыкать» не принято. При переводе на европейские языки местоимения появляются неизбежно, но важно, что и в оригинальном тексте повсеместно используется местоимение боку, ぼく. Ниже Адзума характеризует эту особенность текста как «эксперимент», причем удачный. Здесь можно провести параллель с невероятной популярностью одного из главных философских произведений Японии XX века – «Исследованием блага» Нисида Китаро. Дело в том, что в начале XX века под влиянием европейской культуры в Японии возник литературный жанр ватакуси-сё̄сэцу, 私小説, название которого можно перевести как я-роман или эго-роман. Его особенностью было доведенное до предела внимание к внутренним переживаниям героя и его рефлексии над происходящим вокруг. «Исследование блага» было опубликовано в 1911 году и стало одним из самых читаемых философских произведений в Японии, но во многом его популярность была основана не на предлагаемых философских идеях, а на его стилистике: книга тоже была написана от первого лица и воспринималась как нечто более искреннее, нежели сухая академическая философия того времени.– Примеч. пер.
3
См.: Адзума Х. [東浩紀]. Философия исправимости [訂正可能性]. Токио: Гэнрон, 2023. – Примеч. пер.
4
«Гэнрон» (яп.ゲンロン)– издательская компания, основанная в 2010 году. В фокусе издательской программы междисциплинарные работы о состоянии современного общества и культуры. Одна из целей «Гэнрон» – преодоление разрыва между «академической» наукой и обществом, по этой причине компания открыла Genron Cafe, в котором на регулярной основе проводятся публичные дискуссии.– Примеч. пер.
5
На английском языке книга выходила под другим названием: Azuma H. Otaku: Japan’s Database Animals. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2009. – Примеч. пер.
6
Гохай, 誤配 – слово, используемое для обозначения доставки не по тому адресу или вручения не тому адресату. В контексте этой книги используется в связке с философией Деррида, содержание которой автор разъяснит ниже.– Примеч. пер.
7
Адзума Х. Слабые связи: путешествие по поисковым запросам [弱いつながり – 検索ワードを探す旅]. Токио: Гэнтōся, 2014. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.
8
В оригинале автор использует слова ути [ウチ] и сото [ソト], которые буквально означают «внутри/внутреннее» и «снаружи/внешнее». Дихотомия ути – сото является фундаментальной для японской культуры и пронизывает абсолютно все социальные и коммуникативные сферы, где личность воспринимается не как нечто автономное, а как часть сложной сети отношений. В общем и целом эти понятия указывают на непрерывное противопоставление коллективного и индивидуального. Поэтому возможность «выйти» из этой вездесущей системы может восприниматься как форма саморазвития.– Примеч. пер.
9
Чтобы разобраться с критикой Хабермаса в адрес Деррида, рекомендую обратиться к работе «Преодоление темпорализированной философии первоистока», включенной в книгу «Философский дискурс о модерне» (Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. М. Беляева, К. Костина и др. М.: Весь Мир, 2003). Что касается попытки Ричарда Рорти преодолеть критику со стороны Хабермаса, можно ознакомиться с его книгой «Случайность, ирония и солидарность» (Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / пер. И. Хестановой, Р. Хестанова. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.). В этой работе Рорти в основном говорит о противоречиях между Хабермасом и Фуко, но их вполне можно перенести на Хабермаса и Деррида. Если в общих чертах резюмировать их различия в концептуализации Другого, то Хабермас (модерн) утверждает, что Другого можно понять посредством разума. Деррида (постмодерн) считает, что Другой по сути своей непостижим. Рорти же (прагматизм) полагает, что не имеет смысла углубляться в определение Другого, и предлагает гибко использовать это понятие в зависимости от ситуации. К работе Рорти мы обратимся в главе 4.
10
Яп. кōцӯ, 交通. В понимании Каратани сообщение – это не просто движение между чем-то и чем-то, а обмен и взаимодействие между индивидами и сообществами в широком смысле. Каратани утверждает, что человеческое существование в своей сути связано с движением, так как последнее является необходимым условием формирования идентичности. Эта идея Каратани основана на его интерпретации ионийской философии, где движение играло ключевую роль в появлении и уничтожении вещей.– Примеч. пер.
11
Cool Japan (крутая Япония)– японская государственная стратегия культурной политики, направленная на поддержку продуктов креативной экономики (аниме, манга и т.п.), а также на популяризацию современной молодежной культуры Японии (кухня, мода, музыка и т.п.) за рубежом. Эта инициатива возникла в результате стремления Японии использовать возрастающую популярность японской культуры для укрепления международного политического и экономического влияния.– Примеч. пер.
12
«Японское экономическое чудо» – рекордный рост японской экономики с середины 50-х до середины 70-х годов XX века. «Японский финансовый пузырь» – период неконтролируемого роста цен на недвижимость в конце 1980-х годов.– Примеч. пер.
13
Окамото Нобуюки [岡本伸之編]. Введение в науки о туризме [観光学入門]. Токио: Ю̄хикаку Арума, 2001. С. 2.
14
Сатакэ Синъити [佐竹真一]. Определения туризма и туристской деятельности [ツーリズムと観光の定義] // ōсака канкō дайгаку киё̄ [大阪観光大学紀要]. Токио: Кайгаку дзюссюнэн кинэнго, 2010. (http://library.tourism.ac.jp/no.10SinichiSatake.pdf)
15
Период Мэйдзи можно охарактеризовать как период модернизации и вестернизации Японии. В это время, руководствуясь принципом «догнать и перегнать», японцы отправляли наиболее талантливых молодых людей в университеты Европы и Америки, чтобы усвоить и импортировать достижения западной науки. По этой причине в это время осуществлялось беспрецедентное обогащение японского языка неологизмами западного происхождения. В качестве примера можно привести Ниси Аманэ, благодаря которому возникла японская философская терминология. Особенностью того времени является то, что ученые не просто калькировали новые слова, но в том числе искали наиболее подходящие образы в классических текстах.– Примеч. пер.
16
См. гексаграмму 20: Гуань (созерцание).– Примеч. пер.
17
См.: Oxford English Dictionary (http://www.oed.com).
18
Подробнее о гран-турах см.: Окада Ацуси [岡田温司]. Гран-туры [グランドツアー]. Токио: Иванами синсё, 2010.
19
Urry J., Larsen J. The Tourist Gaze 3.0. London: Sage, 2011. P. 4.
20
Они пишут: «Взгляд массового туриста зародился в переулках индустриальных городков северной Англии. В данной главе мы постараемся понять, почему эти представители рабочего класса пришли к мысли, что краткосрочные поездки в другие места являются приемлемой формой социальной активности. Почему взгляд туриста развился именно там, среди рабочего класса на севере Англии? <…> Рост такого туризма представляет собой своего рода „демократизацию“ путешествий». Ibid. P. 31.
21
Ibid. P. 34.
22
Обанкротилась в 2019 году.– Примеч. пер.
23
Хирукава Хисаясу [蛭川久康]. Портрет Томаса Кука [トマス・クックの肖像]. Токио: Мадзурэн, 1998. С. 180.
24
Хирукава Хисаясу. Портрет Томаса Кука С. 146–147, 152. Там же Хирукава отмечает, что главным противником Кука был «снобизм», присущий британским чиновникам (с. 153). В своей книге «Постмодерн и его животные» я однажды цитировал Александра Кожева, противопоставляя понятие «снобизм» понятию «животное». О последнем я подробно расскажу в главе 2, но само это противопоставление наводит на интересные размышления. Туристы были животными, а туризм – индустрией, поддерживающей животных. Снобизм же представлял собой образ жизни, противоположный животному, и именно поэтому он стал главным врагом туризма.
25
Не так давно в Японии было создано новое научное общество под названием «Японская ассоциация туристических исследований». В их проспекте говорится, что «японским исследованиям туризма требуется теоретический и академический уклон. Нельзя отрицать, что имеющиеся японские исследования туризма в силу их прикладного характера являются слабыми с точки зрения научного анализа». См.: Протокол ассоциации за 2012 год, http://jsts.sc/archive.
26
Boorstin D. J. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper Colophon, 1961. P. 117.
27
Макканелл Д. Турист. Новая теория праздного класса / пер. А. Боровикова, Е. Изотова. М.: Ад Маргинем, Пресс 2016. – Примеч. пер.
28
Ср.: MacCannell D. The Ethics of Sightseeing. Oakland: University of California Press, 2011. Appendix. Здесь я лишь кратко упомяну, что американский историк Эрик Лид в своей работе «Разум туриста» [ «The Mind of the Traveler»] также вводит противопоставление между «путешествием» и «туризмом», негативно трактуя именно последнее. В контексте моей книги (начиная с главы 2) особенно интересно то, что Лид связывает рождение туризма с упадком гегельянства и смертью концепции Другого. «Возможно, это означает, что наше время представляет собой горький конец диалектики и эпоху скорби для тех, кто строил свою идентичность за счет внешних миров Других. <…> Гегель мертв, похоронен и встроен в современное сознание, в разум путешественника». См.: Leed E.J. The Mind of the Traveler: From Gilgamesh to Global Tourism. New York: Basic Books, 1991. P. 288. Туризм рождается вслед за смертью Гегеля. Иначе говоря, чтобы понять туризм, необходимо «убить» Гегеля. В следующей главе мы более глубоко займемся этим вопросом.
29
Urry J, Larsen J. The Tourist Gaze 3.0. P. 3.
30
Ibid. P. 240.
31
Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века / пер. М. Колопотина. М.: АСТ, 2006. В то же время предприниматель Судзуки Кэн, к которому я обращусь в главе 2, утверждает, что мир стал скорее «гладким», а не «плоским». Это означает, что границы исчезли, но это не привело к полной унификации. Наоборот, мир следует воспринимать как состояние, в котором политические и экономические процессы протекают в виде непрерывных изменений. Я согласен с такой точкой зрения, но здесь использую более распространенный термин «плоский». См.: Судзуки Кэн [鈴木健]. Гладкое общество и его враги [なめらかな社会とその敵]. Токио: Кэйсō Сёбō, 2013.