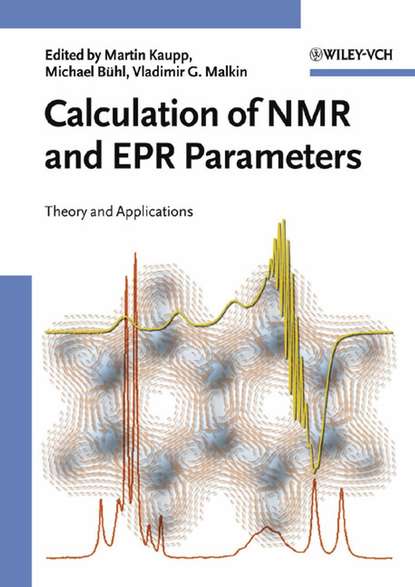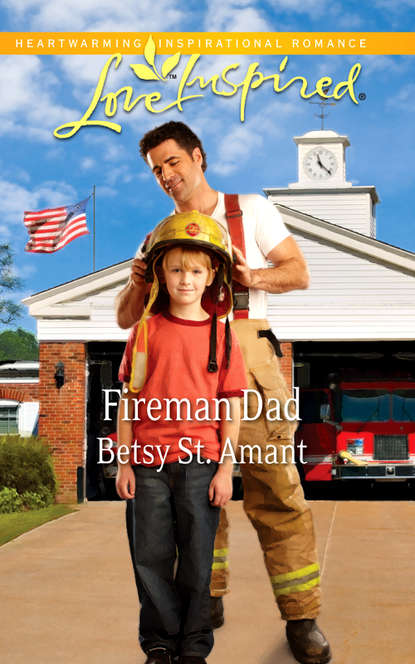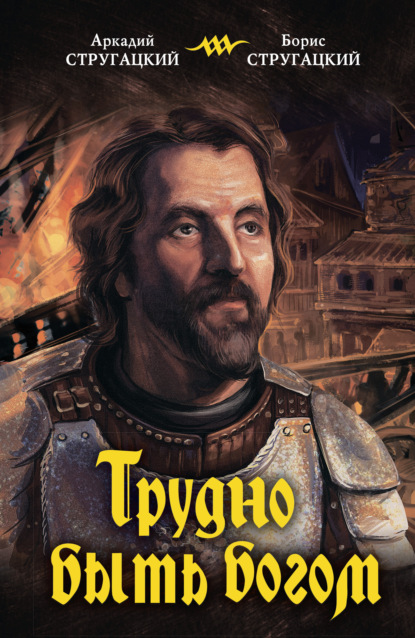Эхо Кассандры

- -
- 100%
- +

Во Вселенной равновесие необходимо. Вселенная ненавидит гениев. Она обожает посредственность. Гений – это аномалия, флуктуация, которую следует немедленно погасить. Таков закон Гомеостаза Вселенной, ее основной инстинкт – инстинкт самосохранения.
– Аркадий и Борис Стругацкие, «За миллиард лет до конца света»
Глава 1
Тишина в квартире Элеоноры была почти абсолютной, дистиллированной. Ее стены впитали тысячи часов репетиций, они научились не выпускать наружу звук и не впускать внутрь суету большого города, который ворочался во сне восемнадцатью этажами ниже. Виолончель, старая итальянка с темными, как крепкий кофе, боками, дышала вместе с ней, ее теплое дерево было продолжением тела Элеоноры, а смычок – продолжением ее воли. Сегодня она играла не Баха и не Шостаковича. Сегодня она играла свою Коду. Произведение, которое должно было расколоть привычную гармонию академической музыки, словно ледоруб – замерзшее море. Это был диссонанс, который вел к новому, болезненному, но честному откровению. Пальцы скользили по грифу, смычок танцевал, и музыка заполняла комнату, плотная, почти осязаемая, похожая на темный бархат, расшитый битым стеклом. Она закрыла глаза, полностью растворяясь в звуке, в этом контролируемом хаосе, который был ей подвластен.
Но сегодня Город играл против нее. Элеонора первой ощутила это не умом, а кожей. Слабый, почти инфразвуковой гул, который не проходил сквозь звукоизоляцию, а будто рождался в самих стенах. Она попробовала проигнорировать его, списав на усталость. Но гул не уходил. Напротив, он обрастал деталями. Далекая сирена скорой помощи, провывшая под окнами, фальшивила на полтона, отчего у Элеоноры свело зубы. Размеренный гул ночного трафика вдруг сбился в рваный, тревожный ритм, похожий на барабанную дробь испуганного сердца. Даже лай собаки откуда-то со двора прозвучал не как утверждение, а как испуганный вопрос. Она остановилась. Смычок замер над струнами. Внезапно установившаяся тишина показалась ей оглушительной и враждебной. Ей показалось, будто тысячи невидимых глаз, принадлежащих окнам соседних небоскребов, прильнули к ее стеклам.
В этой новой, вязкой тишине зазвонил телефон. Старый, дисковый аппарат, который она держала скорее как предмет интерьера. Звон был резким, неуместным, как крик в библиотеке. Она медленно подошла и подняла тяжелую эбонитовую трубку.
– Алло?
Ответом ей был не голос и не молчание. Ответом был шум. Тихий, ровный, как дыхание спящего великана. Или как шепот огромной толпы, слышимый с очень большого расстояния. Это был звук пустоты, которая была живой. Она застыла, прижимая трубку к уху. В этом шуме не было угрозы, но было нечто худшее – абсолютное, безличное безразличие. Она медленно положила трубку на рычаг, и пальцы у нее дрожали. Захотелось пить. На кухне она открыла кран, но вода, поначалу потекшая тонкой струйкой, стала казаться неестественно густой и маслянистой на ощупь. Элеонора брезгливо отдернула руку. Паника холодными иглами начала прорастать из желудка вверх, к горлу. Она вернулась в комнату, заставив себя снова взять виолончель. Музыка. Музыка всегда была ее спасением, ее крепостью.
Она села, поправила инструмент и снова посмотрела в сторону окна, за которым чернел провал ночи. Ее взгляд упал на темный, выключенный экран большого телевизора. На его полированной поверхности, как в кривом зеркале, отражалась она и ее комната. И Элеонора увидела. За ее спиной было не просто темное пятно от книжного шкафа. Пространство там двигалось, дышало, изгибалось, словно от невыносимого жара. Оно сгущалось. Это не был человек. Это была движущаяся пустота, искажение реальности, которое ее глаза отказывались принимать, а мозг – интерпретировать.
Она хотела закричать, но звук застрял в горле. Она хотела вскочить, но тело окаменело. Единственное, что она смогла сделать – это из последних сил провести смычком по струнам, издать хоть какой-то звук, чтобы разрушить этот безмолвный ужас.
В тот же миг виолончель издала не звук, а хрип. Ужасный, сдавленный, предсмертный хрип душащейся плоти. Звук умирающего дерева. Элеонора с ужасом смотрела, как первая струна, натянутая до предела, лопнула с сухим щелчком, хлестнув ее по руке. За ней, с интервалом в долю секунды, вторая. Третья. Четвертая. Как перерезанные сухожилия. Душа инструмента, ее душа, умирала прямо в ее руках. И только когда последняя струна безвольно повисла, тишина вернулась – абсолютная, мертвая, окончательная. И тогда крик Элеоноры наконец прорвался наружу, беззвучный для города, но оглушительный для нее самой.
Глава 2
Семь часов утра. Для города – начало суетливого выдоха, для меня – конец дозорной вахты. Я начинаю свое утро с запирания, а не с отпирания. Первый замок, английский, издает сухой, удовлетворенный щелчок. Второй, сувальдный, проворачивается с коротким, усталым скрипом. Третий, массивный засов, ложится в паз с глухим ударом, от которого слегка вибрирует дверь. Три рубежа обороны. Три молитвы атеиста. Моя квартира – это не дом, это батискаф, погруженный на дно ревущего, безразличного океана жизни. А я – его единственный, уставший от вахты, член экипажа. Я отхожу от двери и прохожу в комнату, намеренно не глядя в сторону окна. Шторы, плотные, как войлок, надежно изолируют меня от серого утреннего света, от тысяч окон напротив, от взглядов, реальных или воображаемых.
Телевизор включен всегда. Его ровный гул – белый шум, который отгораживает меня от неровного, живого шума снаружи. Но сегодня белый шум был нарушен. Дикторша с идеально поставленным, сочувствующим голосом говорила о новой жертве. Элеонора Васкес. Виолончелистка. «Похищена из своей квартиры, которую соседи описывали как неприступную крепость». Я усмехнулся. Люди не понимают разницы между крепостью и ловушкой. Дикторша продолжала, и ее слова были как отравленные конфеты, завернутые в блестящую фольгу. «Почерк гениального и неуловимого преступника, которого пресса уже окрестила "Маэстро", прослеживается и здесь… очередное театральное, эстетское исчезновение…» Гениальный. Неуловимый. Театральный. Эстет. Пустые калории для массового сознания, фастфуд для испуганного разума. Я взял с кофейного столика потрепанный блокнот и шариковую ручку, дешевую, одноразовую. Идеальный инструмент для фиксации одноразовых идей. Я начал записывать эти слова-ярлыки, подчеркивая каждое дважды.
– Вы не описываете его, – пробормотал я вполголоса, и мой шепот утонул в голосе дикторши. – Вы его придумываете. Создаете. Лепите из страха и газетных заголовков.
Я почувствовал его – знакомый, липкий зуд. Зов окна. Стеклянный прямоугольник за тяжелой шторой, единственное слабое место в моей броне. Искушение и приговор. Я знал, что там, за ним. Хитиновый панцирь города, испещренный светящимися точками. Дышащий механизм из бетона и стали, переваривающий миллионы жизней. Я не подошел. Вместо этого я прошел к стеллажу, который занимал всю стену, к своей единственной настоящей защите. Пластинки. Сотни виниловых дисков в картонных конвертах. Я вытянул один наугад, даже не глядя на название. Я и так знал, что это будет. Колтрейн. Пальцы аккуратно опустили иглу на край пластинки. Раздался тихий, уютный шорох, похожий на шелест сухих листьев. А потом – звук. Саксофон Колтрейна. Он не был музыкой в общепринятом смысле. Он был хаосом, которому придали форму, болью, которую превратили в звук. Он не заглушал телевизор или гул города. Он ввинчивался в хаос реальности, находя в нем скрытую, болезненную логику, которая была понятна только мне. Статика с экрана превратилась в безвредный фон. Звук города за окном отступил. Я сел в свое старое кресло, закрыл глаза и позволил джазу строить вокруг меня новые, более прочные стены. На сегодня я был в безопасности.
Глава 3
Запах свежесваренного кофе и остывающего бетона – таким для майора Соколова пахло это утро. Он стоял посреди двухуровневой студии архитектора Ремпеля, и его начищенные до блеска ботинки были единственным темным пятном на почти стерильно белом наливном полу. Ремпеля не было. По словам ассистентки, обнаружившей его исчезновение час назад, он должен был всю ночь работать над главным проектом своей жизни – «Ковчегом», энергонезависимым небоскребом с замкнутой экосистемой. Но вместо триумфального финала в студии зияла пустота, наполненная запахом растворителя и холодным утренним светом.
– Никаких следов борьбы. Взлома нет. Кофе в кружке остывший, но нетронутый, – доложил молодой оперативник, нервно переступая с ноги на ногу. – Камеры на входе в здание записали, как он вошел вчера в девять вечера. Выхода не зафиксировано.
– Он испарился, что ли? – рявкнул Соколов, не отрывая взгляда от центра комнаты. Он не любил загадки. Он любил улики, мотивы и ошибки преступников. А здесь не было ничего из этого списка.
На огромном рабочем столе, где еще вчера, по словам все той же ассистентки, стоял грандиозный макет «Ковчега», теперь была лишь гора обломков. Кто-то методично и аккуратно, будто выполняя монотонную работу, раскрошил макет на тысячи мелких кусочков пластика, дерева и картона. Синие рулоны с чертежами были вытащены из тубусов, раскатаны и закрашены той же белой грунтовкой, которой Ремпель покрывал свои модели. Не порваны, не сожжены. Уничтожены путем обнуления. Стерты. Соколов прошел дальше, его взгляд скользнул по стеллажам, полным книг по урбанистике и био-архитектуре, и остановился на огромной маркерной доске, занимавшей всю стену. Раньше на ней была диаграмма проекта. Теперь – гигантский, нарисованный черным маркером лабиринт. Безупречно вычерченные линии, идеальные прямые углы. Лабиринт был сложным, запутанным, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно – у него не было ни входа, ни выхода. Просто замкнутый узор, красивая и абсолютно бессмысленная головоломка.
– Это он. Наш Маэстро, чтоб его, – произнес Соколов так тихо, что его услышал только старший следователь. – Опять этот его цирк. Послание.
Соколов ненавидел это прозвище, придуманное щелкоперами из «Вечернего Мегаполиса». Оно придавало ублюдку романтический ореол. Но он вынужден был признать: ублюдок был умён. И театрален. Математик, программист, виолончелистка, теперь – архитектор. Он не просто похищал людей. Он уничтожал их труд, их дело жизни. И каждый раз оставлял свою «подпись» – не отпечаток пальца, а эстетский жест, который криминалисты бессильно описывали в протоколах. В кармане завибрировал телефон. Имя на экране – «Генерал». Соколов вздохнул и принял вызов.
– Майор Соколов.
– Максим, я надеюсь, у тебя есть для меня что-то, кроме очередной неразрешимой загадки? Мэр звонил мне трижды за утро. Пресса с цепи сорвалась. Тебе нужен результат.
– Мы работаем, товарищ генерал. Объект – Ремпель, архитектор. Сцена та же: похищение, уничтожение работы, символический жест.
– Найди его, Максим. Найди этого художника. Мне плевать, как. Подключи всех, кого считаешь нужным. ФСБ, экстрасенсов, дьявола в ступе. Но найди. Иначе этим делом займется кто-то другой.
Генерал отключился. Соколов убрал телефон и снова посмотрел на лабиринт. Это было не просто послание. Это был вызов. Личный вызов ему, майору Соколову. И он принял его. В его мире не было безличных сил и коллективного бессознательного. Были люди. Из плоти и крови. Были преступники и были те, кто их ловит. И он поймает этого. Даже если для этого придется самому пройти через его проклятый лабиринт.
Глава 4
Соколов ненавидел этот район. Лабиринт старых кирпичных многоэтажек, чьи дворы-колодцы, казалось, переваривали солнечный свет, не давая ему достичь асфальта. Дверь нужной ему квартиры выглядела как вход в бункер времен холодной войны – обитая потертым дерматином и усиленная тремя разномастными замками. Он нажал на кнопку звонка. Вместо трели раздалось хриплое жужжание, будто умирала огромная муха. Прошла почти минута, прежде чем за дверью послышались шаги и лязг металла. Дверь приоткрылась ровно на ширину цепочки. В щели показался один настороженный глаз.
– Что вам нужно?
– Лев Ковалев?
Голос из-за двери был сухим, как осенний лист.
– Я не покупаю страховки и не верю в бога. Уходите.
Соколов достал из кармана удостоверение и поднес его к щели.
– Майор Соколов. Уголовный розыск. Мне нужно с вами поговорить. Это не займет много времени.
Цепочка с недовольным звоном соскользнула, и дверь открылась. Соколов шагнул внутрь, и его словно поглотила другая реальность. Воздух был спертым, пах пыльными книгами и чем-то еще – едва уловимым ароматом остывшего джаза. Единственным источником света была настольная лампа, выхватывавшая из полумрака заваленный бумагами стол и глубокое кресло. Все стены, от пола до потолка, были заставлены книгами, создавая ощущение, что он находится не в квартире, а в кровеносной системе гигантской библиотеки. Хозяин квартиры, Ковалев, был худым человеком неопределенного возраста, в растянутом свитере и с глазами, которые казались слишком большими для его лица. Он не предложил сесть.
– Майор, я давно не практикую. И вряд ли могу быть вам полезен.
– Я читал вашу работу. О «нарративном заражении», – Соколов решил взять быка за рога. – Как идеи, похожие на вирус, захватывают сознание группы. Секта «Дети Рассвета».
Ковалев слабо усмехнулся.
– Эту статью уничтожили все, кому не лень. Меня уволили из университета за «ненаучный подход». Что вы хотите?
– Мне нужен портрет. Психологический портрет преступника.
Соколов прошел к столу и положил на него тонкую папку. Ковалев на нее даже не посмотрел.
– Дело «Маэстро».
– Вы его так называете? – в голосе Ковалева проскользнула ирония. – Интересно. Кто первый это придумал?
– Пресса, – отрезал Соколов, чувствуя растущее раздражение. – Мне не нужно филологическое исследование. Мне нужен анализ. Кто он? Бывший искусствовед? Психопат с манией величия? Обиженный гений? Дайте мне что-то, с чем я могу работать. Что-то из плоти и крови.
Ковалев наконец перевел взгляд на папку, потом снова на Соколова. Его глаза, привыкшие к полумраку, изучали майора так, словно он был экзотическим насекомым под стеклом.
– Вы уверены, что хотите именно этого, майор? Портрет? А что, если я скажу вам, что портрет, который вы ищете, уже давно нарисован? Только рисуете его не вы, и не я, и даже не ваш… "Маэстро".
– Перестаньте говорить загадками, Ковалев. Да или нет? Вы поможете?
Тишина повисла между ними, плотная, как пыль на книжных полках. Соколов чувствовал себя здесь чужеродным элементом – человеком действия в царстве отвлеченных идей. Он уже почти развернулся, чтобы уйти, когда Ковалев наконец ответил.
– Оставьте папку. Я посмотрю. Но не обещаю, что вам понравится то, что я там найду.
Соколов кивнул. Он вышел из квартиры, и три замка за его спиной щелкнули, как приговор. Он полной грудью вдохнул свежий, сырой воздух улицы. Ему нужен был маньяк. А он нашел книжного червя, который говорил как философ-деконструктивист. Но отчаяние было плохим советчиком, и сейчас Соколов был готов выслушать даже его.
Глава 5
Майор ушел, но его присутствие осталось. Тяжелый, уверенный запах одеколона, аура человека, который верит в прямые линии и ясные ответы. Я сидел в своем кресле и смотрел на папку, которую он оставил. Тонкий картонный гроб, в котором были похоронены чужие жизни и чужие заблуждения. Я не хотел ее открывать. Я знал, что за ней стоит холодная, прагматичная реальность майора Соколова. Но любопытство – единственный грех, в котором я никогда не мог себе отказать. Я поставил пластинку – на этот раз что-то тихое, медитативное. Билл Эванс. Его фортепиано было похоже на звук падающих капель в глубоком колодце, идеальный саундтрек для погружения.
Я открыл папку. И сразу отложил в сторону отчеты криминалистов и судмедэкспертов. Вся эта баллистика, трасология, анализ ДНК – это была грамматика реальности майора. Она описывала последствия, а не причины. Меня же интересовали поля, примечания, вычеркнутые фразы. Мусор, который полиция отбросила как несущественный. Первым шло дело Арона Гинзбурга, математика, работавшего над неевклидовой моделью вселенной. Отчет был сух: проникновение без взлома, уничтожение рукописей, жертва не найдена. Я пролистал дальше, к свидетельствам. Консьерж, дежуривший в ту ночь. Протокол допроса был коротким, почти формальным. «Ничего необычного не видел, не слышал». Но на прикрепленном черновом листе, исчерканном рукой следователя, была фраза: «Жаловался на светофоры. Говорит, вся улица сошла с ума. Мигали все разом зеленым и красным. Минут пять». Эта запись была перечеркнута и помечена как «не относится к делу». Я сделал пометку в своем блокноте. Светофоры.
Следующее дело. Кира Волкова, программист, создатель самообучающегося ИИ. Та же схема: проникновение, стертые дочиста серверы. Киру нашли через два дня на скамейке в парке, она смотрела в одну точку и повторяла бессмысленный набор нулей и единиц. Я снова пропустил официальные бумаги и углубился в рапорты патрульных, первыми прибывших на вызов от ее соседа. Снова ничего. Но в приложении – технический отчет от оператора мобильной связи. «Зафиксирован необъяснимый сбой базовой станции в секторе F-7. В период с 02:15 по 02:30 ночи полная потеря сигнала для всех абонентов в радиусе двух кварталов». Время исчезновения Волковой. Сбой признан случайной технической неполадкой. Я записал: Сотовая связь.
Элеонора Васкес, виолончелистка. И последнее, сегодняшнее – архитектор Ремпель. Картина повторялась с пугающей точностью. Но дьявол, как всегда, был не в самой картине, а в раме, на которую никто не смотрел. Я читал и читал. Интервью с соседом Васкес, который мельком упоминал «странный гул, будто от трансформатора, хотя никакого трансформатора рядом нет». Сообщение в чате дома Ремпеля: «У кого-нибудь еще лифт живет своей жизнью? Ездит сам по себе между этажами». Полиция искала закономерности в действиях преступника. Они собирали портрет человека из его жестокости и театральности. Я же видел другое. Я видел набор системных сбоев, хаотических помех, случайных аномалий. Это был не почерк. Это был шум. Белый шум реальности, в котором вдруг начали проступать зловещие паттерны.
Соколов искал человека. Он хотел найти руку, которая держит нож. А я все отчетливее понимал, что ножа нет. Есть лишь серия смертельных «опечаток» в тексте мироздания. И кто-то – или что-то – заставляет всех нас верить, что эти опечатки складываются в осмысленное, зловещее предложение. Я закрыл папку. Музыка Билла Эванса закончилась, и в тишине игла тихонько шуршала по последней дорожке пластинки. Этот звук всегда успокаивал меня. Но сегодня он впервые показался мне тревожным. Словно шепот чего-то огромного, нечеловеческого, что просачивалось сквозь стены моей квартиры.
Глава 6
Ключ в замке. Поворот. Один. Второй. Третий. Дверь поддается, и в щель врывается чужой воздух. Он пахнет влажным асфальтом и выхлопными газами, и этот запах бьет в нос, как нашатырь. Я стою на пороге, как пловец перед прыжком в ледяную воду. Последний оплот – тонкая линия дверного проема. Я делаю шаг. И мир обрушивается на меня. Не как лавина, а как медленно опускающийся пресс. Звук. Тысячи разрозненных звуков сливаются в единый, монотонный, низкочастотный гул. Скрежет колес метро где-то под ногами. Вой сирены где-то вверху. Бесконечный шорох шин. И голоса, сотни голосов, которые сплетаются в безликий гобелен из слов, смеха и кашля.
Я иду по улице, втянув голову в плечи. Каждый шаг – усилие воли. Я чувствую себя голым, с содранной кожей. Город смотрит на меня. Не люди, нет. Люди не замечают меня, они спешат по своим делам, их лица – смазанные маски с одинаковыми выражениями озабоченности или усталости. Смотрит сам Город. Смотрит сотнями оконных глаз. Смотрит неоновыми зрачками рекламных вывесок, на которых улыбающиеся люди предлагают мне купить счастье в кредит. Огромный цифровой щит на крыше дома напротив. На нем сменяются картинки: идеальная семья на фоне идеального газона, шипучий напиток, новый смартфон. Лицо девушки с рекламы смотрит прямо на меня, и на долю секунды ее запрограммированная улыбка кажется мне хищным оскалом.
Я спускаюсь в метро. Там гул становится плотнее, ниже. Теплый, пахнущий озоном и человеческими телами воздух давит на барабанные перепонки. Поезд вырывается из тоннеля с воплем терзаемого металла. Двери разъезжаются с пневматическим шипением, выплевывая одну порцию толпы и заглатывая другую. Меня вносит внутрь. Я стою, зажатый между чужими телами, стараясь не дышать, не смотреть по сторонам. Смотрю на свои ботинки. Вагон раскачивается. Мелькают огни тоннеля. Я чувствую биение этого механизма. Ритмичный стук колес, как гигантский метроном, отсчитывающий секунды бессмысленной жизни. Мне кажется, что все мы – не пассажиры. Мы – кровяные тельца, несущиеся по артериям этого бетонного чудовища, этого суперорганизма, которому нет до нас никакого дела.
Выйдя на нужной станции, я почти бегом преодолеваю последние сотни метров до массивного серого здания полицейского архива. Я толкаю тяжелую дверь и оказываюсь в тишине. Тишине относительной, казенной. Но после акустического ада улицы она кажется благословением. Я стою в пустом холле, пытаясь унять дрожь в руках. Дыхание сбито, сердце колотится в ребра, как пойманная птица. Это была пытка. Каждая секунда за пределами моей квартиры была пыткой. Но эта пытка была необходима. Потому что там, в этом ревущем хаосе, я не только почувствовал свою паранойю. Я почувствовал подтверждение. Подтверждение того, что Город – это не просто скопление домов и людей. Это живая, дышащая, равнодушная сущность. И то, что я ищу, нужно искать не в отчетах криминалистов, а в его аритмии, в его сбоях, в его внезапных приступах безумия.
Глава 7
Кабинет Соколова был полной противоположностью моей квартиры. Светлый, просторный, с огромным окном, выходящим на гудящий проспект. На стенах висели не книжные полки, а карты города, схемы и фотографии с мест преступлений, соединенные красными нитками. Алтарь порядка, возведенный посреди хаоса. Соколов сидел за своим столом, похожий на капитана, который уверен, что держит курс под контролем, несмотря на шторм. Он указал мне на стул напротив.
– Ну что, Ковалев? Вы излучаете оптимизм, как дохлый аккумулятор, – он попытался пошутить, но вышло не очень. – У вас есть что-нибудь для меня? Хотя бы набросок портрета?
Я положил на стол свой блокнот, открытый на нужной странице. Соколов бросил на мои каракули быстрый, пренебрежительный взгляд.
– Портрета не будет, майор.
– Что значит, не будет?
– Это значит, что вы ищете не того и не там. У вашего "Маэстро" нет единого психологического профиля.
Соколов откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Его лицо выражало смесь усталости и плохо скрываемого раздражения.
– Объясните. Только, пожалуйста, без ваших лингвистических экзерсисов. Простым, человеческим языком.
– Хорошо. Возьмем его так называемые послания. Уничтоженные рукописи, стертые серверы, лабиринт на доске. Криминалисты и пресса видят в этом эстетский жест, уникальный почерк.
– И что, это не так? – в голосе Соколова зазвенел металл.
– Это не так. Почерк – это то, что объединяет, что создает стиль. А здесь нет стиля. Это компиляция, коллаж, – я постучал пальцем по своему блокноту. – Это не похоже на послание одного человека. Это похоже на то, как если бы кто-то вырезал слова и картинки из разных газет и журналов, чтобы составить анонимное письмо. Лабиринт у архитектора – это из журнала головоломок. Обнуленные картины – цитата из эссе художника-концептуалиста. Стертые серверы – стандартный протокол безопасности. Здесь нет индивидуальности. Это мешанина из клише, из обрывков культурного шума, который нас окружает.
Соколов подался вперед, его глаза сузились.
– Что вы хотите сказать? Что у нас банда? Группа подражателей?
– Я хочу сказать, что мы ищем автора текста, а самого автора, возможно, не существует. Мы пытаемся прочитать осмысленное предложение там, где стоит просто набор случайных букв. Ошибка в грамматике реальности.
Вот тут я его потерял. Он побагровел. Не от гнева, а от какого-то глубокого, экзистенциального оскорбления. Он резко встал и прошелся по кабинету.
– Ошибка в грамматике?! – он почти выплюнул эти слова. – Ковалев, у меня трупы! Ну, почти трупы! У меня люди, чьи жизни и разум превратили в пыль! А вы мне тут про грамматику? Мне нужен человек! Из плоти и крови! Человек, которого я могу найти, допросить и посадить за решетку! А не ваша эта… лингвистическая чепуха!