Путешествие к водопаду Учар
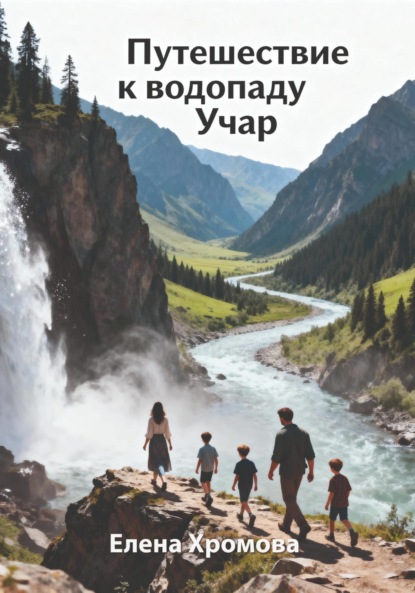
- -
- 100%
- +
Папа остановил машину у смотровой площадки, и все вышли. Перед ними была мощная, чистая река. Петя вспомнил: Катунь – это река в Алтайском крае и Республике Алтай. Она берёт начало в ледниках у подножия Белухи, на юго‑западном склоне, и бежит на север, пока недалеко от Бийска не соединится с Бией, образуя одну из крупнейших сибирских рек – Обь.
Мама тихо добавила:
– Для алтайцев Катунь – священная река. Говорят, что в горах, на Белухе, находится вход в Шамбалу – мистическую страну. А вода Катуни, рожденная ледником, несёт силу и мудрость гор.
Витя посмотрел на поток:
– Она правда сильная. Наверное, и нас сделает сильнее.
– Если будем уважать природу, обязательно, – ответил папа.
Петя записал: «Катунь – длинна 688 км, сливается с Бией, образуя Обь. Исток – ледники Белухи. Для алтайцев – священная».
Солнце склонялось к горизонту, но путь продолжался. Впереди ещё перевалы, ещё реки и ещё тысячи интересных фактов, но пока семья остановилась на берегу Катуни, чтобы отдохнуть и сделать глоток свежего горного воздуха. Они успели проехать Барнаул, увидеть «ворота в Алтай» – город Бийск, помахать Сросткам и всмотреться в голубой поток Катуни. Чуйский тракт только начинался, и каждый новый километр приносил всё больше удивительных открытий.
Глава 5. Домашнее кафе у Маруси
После того как машина снова встала на трассу, за окном будто бы сменились кадры фильма. Сначала – широкие поля, потом – всё больше леса, и, наконец, первые предгорья. Петя задумчиво переворачивал страницы блокнота, время от времени отмечая очередной километр.
Вскоре они подъехали к селу Манжерок, которое стоит на правом берегу Катуни. Мама рассказала, что это маленькое село появилось в конце XIX века: русские крестьяне-переселенцы основали его возле реки, где занимались животноводством и торговлей. Сейчас здесь живёт около полутора тысяч человек, а сам Манжерок знаменит фестивалем дружбы, который проходил в 1966 году, и песней «Манжерок», ставшей шлягером. Гостей привлекают природные достопримечательности: сама река Катунь, Манжерокское озеро – старица Катуни, где вода хорошо прогревается для купания, минеральный источник с целебной водой, а ниже по течению – Манжерокские пороги, где пять огромных валунов образуют бурный водоворот.

Рисунок. Манжерок
Возле села, рядом с поворотом к горнолыжному комплексу, стояло уютное домашнее кафе, которое местные называли «у Маруси». Деревянная веранда была увита диким хмелем. Папа заказал борщ и блины со сгущенкой. Он взял для всех по тарелке, и через несколько минут семья сидела за широким столом в беседке. В ароматном борще плавали зелёные листочки укропа, блины дымились. Алёша, как обычно, начал с того, что ударил ладошкой по спине брата – для него это знак самой большой любви.
– Тебе бы всё хлопать, – улыбнулся Витя.
– Если не похлопаю, ты не узнаешь, как сильно я тебя люблю Витя – серьёзно ответил Алёша, и все рассмеялись.
После обеда дорога опять потянулась вдоль реки. Через несколько десятков километров они подъехали к селу Усть‑Сема. Здесь Чуйский тракт переходит с правого берега Катуни на левый: в 2010 году перед деревней построили новый железобетонный мост, первый такой мост на тракте. Мама показала влево:
– Видите? Это старый мост – деревянный подвесной, он стоял здесь с 1935 года. Сейчас по нему редко кто ездит, но раньше это была единственная переправа.
Само село Усть‑Сема удобно расположено: в сторону Чемала уходит дорога, известная как Чемальский тракт. Эта дорога идёт по правому берегу Катуни и окружена турбазами и кемпингами. По сути, с поворота в Усть‑Семе начинаются две разные дороги: официальная, федеральная трасса Р‑256 уходит на левый берег – это Чуйский тракт, а по правому берегу Катуни идёт немноголюдный Чемальский тракт. Папа сказал:
– Вот здесь заканчивается «туристический» Алтай и начинается совсем другая история. Чемальская дорога узкая, местами грунтовая, она петляет вдоль реки и уходит в глубь гор. Тут встречаются настоящие алтайские деревни, где люди живут своим укладом, а до ближайшего супермаркета десятки километров.
Братья только кивнули. Петя сделал пометку: «Усть-Сема – граница Майминского и Чемальского районов. Здесь Чуйский тракт пересекает Катунь по мосту, а вдоль правого берега идёт Чемальский тракт».
Вдалеке торчали остроконечные вершины Теректинского хребта. Семейство проехало через небольшие деревни: Усть‑Муны, Беклемишево, Караколь. В каждом дворе виднелись круглые аилы – конусообразные хижины из жердей и коры лиственницы, которые до сих пор строят в традиционном стиле. В этих сёлах чтут бурханизм – смесь шаманизма, буддизма и языческих верований; алтайцы уважительно поклоняются духам природных стихий и не берут воду из ручья на закате, чтобы не разозлить духов.
В один из моментов Петя заметил указатель на «Алтайское». Папа объяснил:
– Есть районный центр Алтайское. Он лежит в стороне от Чуйского тракта, но дорога к нему уходит отсюда, через Камаринский перевал. Именно по этой дороге раньше шёл Старый Чуйский тракт. Теперь основная трасса обходит перевал через Семинский и Чике‑Таман, а сюда ездят редко. Это настоящий непарадный Алтай: маленькие деревни, где пастухи гонят табуны лошадей, и места, где до сих пор думают, что Шёлковый путь ещё не закончился.
После остановки семья снова села в машину. Дорога шла вдоль шумной Катуни, а за окном мелькали скалы, поросшие сосной, и разбросанные деревни. Папа сказал, что впереди их ждут ещё Семинский и Чике‑Таманские перевалы, улучшающийся серпантин и бесконечные виды. Но это будет уже в следующей части их путешествия.
В этот день они проехали Барнаул, Бийск, посёлок Манжерок, поворот на Усть‑Сему, прошли вдоль Чемальского тракта, увидели слияние Чуи. Петя подвёл итог: «Алтай открывается постепенно: сначала знакомые туристические места, потом глухие сёла и дороги, где чувствуешь дыхание древности. И чем дальше – тем сильнее эта магия».
Глава 6. Перевалы Семинский и Чике‑Таман. Дорога до Акташа
Дорога становилась всё круче и извилистее, словно начинала проявлять характер. Машина гудела, будто медведь, проснувшийся после долгой зимней спячки, а кругом возвышались покрытые туманом вершины. Деревья за окном сменились – если раньше по обе стороны дороги росли берёзы и сосны, то теперь к ним примешивались могучие кедры, а подножье укрывали заросли можжевельника. Мама говорила, что на определённой высоте меняется не только воздух, но и весь растительный мир, потому что деревья приспосабливаются к холоду и ветрам. Папа с юмором добавил: «На этой высоте даже мы, люди, начинаем ветров бояться».
Петя записывал в дневник: «Всё, что случается, нужно записывать. Мы двигаемся к первому перевалу – Семинскому. Это 583‑й километр Чуйского тракта и высота 1717 метров. Сюда добираются не ради порогов и цветочных луг, а чтобы почувствовать себя на крыше мира». Витя, разглядывая из окна лес, заметил:
– Смотри, как будто это зелёные гребешки крокодила.
– Это кедры, они растут только на высоте, – пояснил Петя. – У бабушки в Витаминке их нет.
Машина подошла к подъёму на Семинский перевал. Папа понизил передачу, мотор загудел громче. Асфальт серпантином огибал склоны, дорога поднималась на гору, а за каждым поворотом открывался новый вид. Отец рассказывал, что перевал лежит между горами Сарлык и Тияхты. На северной стороне течёт река Сема, а на южной – Туекта. Здесь находится водораздел между бассейнами Бии и Катуни: поэтому эту точку называют «границей Северного и Центрального Алтая».
Длинный подъём протянулся на девять километров. Петя пытался сосчитать, сколько раз дорога петляет, но сбился. Мама рассказала, что до XX века дорога проходила в обход хребта, а на перевал начинали ездить лишь в 1950‑х, когда построили шоссе. До этого эту гору пересекали только табуны лошадей, и пешком здесь ходили лишь самые отважные.
На вершине перевала путешественники вышли размять ноги. Ветер свистел в ушах, но пахло смолой и свежестью. Посреди поляны стоял обелиск – белый столб с красной звездой на вершине. Это памятник добровольному присоединению Алтая к России. Папа пояснил, что его поставили в середине XX века. Чуть дальше виднелись деревянные домики тренировочного центра, где зимой учат кататься на лыжах. Летом вокруг обелиска бегали туристы, хлопая ладонями по разноцветным лентам – каждый завязывал ленту на ритуальной сосне, прося у гор доброго пути.
– Я хочу пить, – вдруг сказал Алёша, громко похлопывая маму, как ему было привычно.
– Реки текут с этой горы в разные стороны, – шутливо подхватил Петя. – Но вода в них холодная. Терпи, мы остановимся позже.
Северный склон перевала остался позади, и машина начала спускаться на южную сторону. Вниз дорога тянулась одиннадцать километров. Воздух теплел, а кедры сменялись лиственницами. С каждой сотней метров вид менялся, и вскоре на горизонте показались величественные горы, скрывающиеся в дымке. Мама сказала, что в ясную погоду отсюда видно даже заснеженную Белуху.
– Интересно, сколько сил тратят машины, чтобы подняться, – размышлял Витя.
– Столько же, сколько тратит каратист, когда преодолевает новую «кату», – ответил папа. – Главное – не сдаваться.
После Семинского перевала дорога выровнялась. Лес раступился, и впереди показался длинный зелёный хребет. Петя снова открыл блокнот. Он записал: «Чуйский тракт здесь похож на бирюзовую ленту, сворачивается и разворачивается, как подвижный змей. Наша цель – следующий перевал – Чике‑Таман. Его высота 1295 метров, подъём и спуск по четыре километра, и здесь раньше было 34 крутых поворота!».
Между двумя перевалами находился посёлок Шебалино, где стояли чабанские аилы и выращивали овец. Семья не стала останавливаться, хотя у дороги торговали кедровыми орехами и солёными грибами. Папа пообещал, что на обратном пути они обязательно купят горсть орехов.
Тем временем ландшафт снова менялся. Склоны стали строже, скалы – выше, дорога сузилась. Впереди росла стена горы: это и был Чике‑Таман. Само название происходит от алтайских слов «чике» – «ровный», «таман» – «подошва», хотя по иронии судьбы перевал совсем не ровный, а извилистый. Папа усмехнулся:
– Ирония судьбы: алтайцы назвали перевал «ровной подошвой», потому что сравнивали его с другими, более крутыми перевалами. А мы, горожане, чувствуем, что дорога похожа на гигантскую змею.
Подъём начался. Современная дорога была широкой, но каждый поворот открывал новую неожиданность: то скала нависнет прямо над краем, то пропасть заглянет в окно. Петя с интересом наблюдал, как дорожные знаки предупреждают о резких виражах. Мама рассказывала, что в прошлом здесь была лишь узкая тропа, по которой могли пройти только лошади. Первый автомобиль проехал здесь в начале XX века, но дорога была настолько опасной, что люди ездили на телегах. Только в 1984 году на Чике‑Тамане построили новую трассу – с меньшим количеством поворотов и укреплёнными обочинами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

