Мне можно. Как перестать запрещать себе жить, чувствовать и хотеть
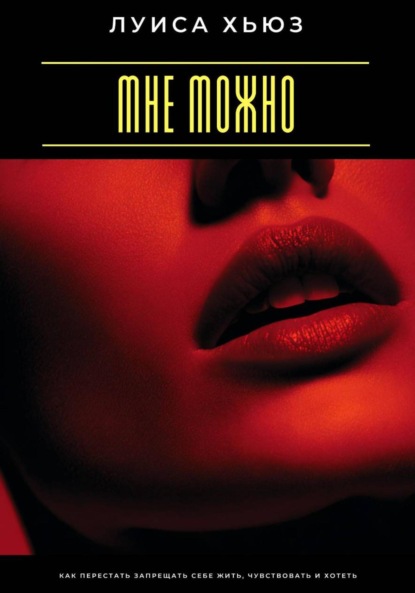
- -
- 100%
- +

Введение
Иногда кажется, что человек рождается с внутренней свободой – с искренним смехом, живыми глазами, с готовностью радоваться каждому дню, не измеряя его полезностью или правильностью. Посмотрите на ребёнка, который бежит по лужам, не думая о грязных ботинках, или на девочку, поющей во весь голос в маршрутке, не подозревая, что через несколько лет будет бояться даже просто сказать своё мнение. В какой момент мы перестаём быть живыми? В какой момент изнутри нас начинают звучать голоса – тихие, но настойчивые: «нельзя», «стыдно», «не будь такой», «не высовывайся», «будь как все»?
Мы взрослеем в мире, где всё устроено так, будто жизнь – это бесконечная серия экзаменов, которые нужно сдать: быть хорошим, быть удобным, быть нужным, быть успешным, не подводить. И в этом бесконечном «быть» мы теряем самое простое и самое важное – право просто быть собой. Мы учимся улыбаться, когда больно, молчать, когда хочется кричать, соглашаться, когда внутри всё сопротивляется. Мы превращаемся в тех, кто живёт аккуратно, чтобы никого не задеть, чтобы никому не мешать, чтобы соответствовать образу, который кто-то когда-то нарисовал для нас. И однажды утром просыпаемся с чувством, что внутри пусто.
Ты чувствуешь это? Не злость, не грусть – а именно пустоту. Когда вроде всё хорошо: работа есть, семья, обязанности выполняешь, вроде живёшь как надо – но не чувствуешь, что живёшь. Внутри тихо, слишком тихо. Как будто выключили свет, но ты продолжаешь двигаться по инерции, потому что так принято. Именно об этой внутренней тишине и будет эта книга. О той тишине, которая рождается не из покоя, а из подавленности. О людях, которые когда-то сами себе запретили быть живыми, чувствующими и желающими.
Когда-то давно, ещё в детстве, каждый из нас услышал свой первый запрет. Для кого-то он прозвучал в форме строгого «не кричи, не будь громкой», для кого-то – «не плачь, не злись», для кого-то – «не мечтай, это всё ерунда». Мы не понимали тогда, что эти слова станут кирпичами в стене, которую потом выстроим внутри себя. Стене, за которой спрячем собственную душу – ту часть, которая когда-то была настоящей. Мы научились быть правильными, но забыли быть живыми.
Со временем эти внутренние «нельзя» превращаются в привычку. Мы даже не замечаем, как начинаем жить, сверяясь с невидимыми правилами: «так не делают», «это неуместно», «меня не поймут». Мы перестаём пробовать новое, боимся перемен, боимся своих желаний, потому что когда-то за них нас осудили. Мы говорим себе, что уже поздно, что не получится, что не стоит. Мы начинаем жить в режиме выживания, не замечая, как перестаём чувствовать радость. И что страшнее – начинаем считать это нормой.
В какой-то момент ты начинаешь понимать: запреты больше не приходят извне – они уже живут в тебе. Тебя уже не нужно одёргивать – ты сама себя останавливаешь. Ты сама себе говоришь: «Не стоит радоваться раньше времени», «Не говори слишком громко», «Не будь навязчивой», «Не обижайся, это мелочь». Ты сама ставишь себе ограничения, потому что так безопаснее. Потому что если не чувствовать, не просить, не хотеть – не будет боли. Но вместе с болью исчезает и вкус жизни.
Именно поэтому эта книга – не о том, как стать лучше, а о том, как перестать быть кем-то другим. Она не про то, как исправить себя, а про то, как разрешить себе быть настоящей. Это книга-приглашение: не к идеалу, а к живости. К живости, которая проявляется в искреннем «нет» и не менее искреннем «да». К живости, которая не боится ошибаться, плакать, смеяться, просить, чувствовать, идти к своему.
Ты имеешь право злиться. Ты имеешь право хотеть. Ты имеешь право быть уставшей. И тебе не нужно ничего заслуживать, чтобы просто чувствовать. Твоя жизнь не должна быть постоянной демонстрацией силы и правильности. Ты имеешь право быть слабой, противоречивой, неуверенной, яркой, шумной, тихой – какой угодно, лишь бы настоящей.
Я часто думаю о женщинах, которые приходят на консультации, и о том, как много в них внутренней тишины. Они говорят спокойным голосом, но в этом спокойствии – усталость от постоянного самоконтроля. Они привыкли сдерживать эмоции, чтобы никого не обидеть, чтобы не показаться «трудными», «эмоциональными», «неуравновешенными». Они научились быть для всех – для детей, партнёров, коллег, родителей, но совсем забыли быть для себя. Однажды я спросила одну из них:
– А что вы чувствуете прямо сейчас?
Она долго молчала. Потом сказала:
– Ничего. Просто хочется тишины.
Но тишина, о которой она говорила, – не покой, а опустошение. Это тишина, в которой человек перестаёт слышать себя. И тогда начинается самое страшное – жизнь превращается в бесконечную череду задач, где всё можно отложить «на потом»: отдых, радость, мечты, любовь, собственные желания. Мы становимся заложниками своих же правил и думаем, что живём правильно.
Эта книга – о том, как выйти из этой тюрьмы. Не с криком, не с революцией, а с мягким, честным шагом навстречу себе. О том, как разрешить себе плакать без стыда, радоваться без повода, говорить «нет», когда не хочешь, и «да», когда по-настоящему хочется. О том, как вернуть себе внутреннее «можно» – не как вызов, а как естественное состояние человека, который перестал бояться жизни.
Разрешение – это не акт вседозволенности, это акт зрелости. Это момент, когда ты говоришь себе: «Я не обязана быть идеальной, чтобы быть достойной». Когда ты больше не ждёшь одобрения, а выбираешь внутреннюю честность. Когда перестаёшь жить на выживание и начинаешь жить на дыхание – вдохом и выдохом, чувствуя вкус каждого мгновения.
Разрешение быть живой начинается с малого. С момента, когда ты впервые не извиняешься за свои чувства. Когда позволяешь себе говорить «я устала» без оправданий. Когда не заставляешь себя улыбаться, если хочется просто молчать. Когда выбираешь себя не из эгоизма, а из любви к жизни.
Однажды ты проснёшься утром и почувствуешь: внутри стало просторнее. Как будто кто-то открыл окно в комнате, где долго не было воздуха. Ты вдохнёшь глубже и поймёшь – тебе не нужно больше ничего доказывать. Не нужно быть правильной, соответствовать, оправдываться. Тебе можно просто быть.
Эта книга не даст тебе инструкций. Она не научит «быть счастливой» и не предложит готовых ответов. Она просто напомнит тебе то, что ты уже знаешь: ты имеешь право. На жизнь, на чувства, на ошибки, на покой, на радость.
Тебе можно.
И если сейчас, читая эти строки, ты чувствуешь, что внутри что-то начинает шевелиться – как будто сердце впервые за долгое время откликнулось, – значит, ты уже начала. Начала возвращать себе жизнь. Ту, которую когда-то отложила «на потом».
Глава 1. Ребёнок, который всё понял неправильно
Когда-то всё было просто. Мир был большим, открытым и непостижимо интересным. У ребёнка не было сложных слов для описания своих чувств, но он знал, когда ему страшно, когда радостно, когда больно, когда хочется обнять. Он жил без фильтров, без сомнений, без внутреннего цензора, который позже поселится внутри и станет судить за каждую эмоцию, за каждое слово, за каждый вдох. Ребёнок не спрашивал разрешения на жизнь. Он просто жил.
А потом появились взрослые. Они пришли не со злом – наоборот, с желанием научить, направить, защитить. Но вместе со своей любовью они принесли язык, на котором любовь часто звучала как запрет. «Не плачь, ты же сильная девочка». «Не злись, это некрасиво». «Не смейся так громко, на тебя смотрят». «Не трогай, не лезь, не спорь, не перечь». И в этих бесконечных «не» маленький человек начал учиться одному – миру нельзя показывать, что с тобой внутри.
Так ребёнок стал осторожным. Он понял, что чувства – это что-то небезопасное. Что плакать – значит быть слабым, злиться – быть плохим, радоваться – выглядеть глупо. Он начал прятать всё живое внутри себя, аккуратно складывая эмоции в коробочки, чтобы не обидеть, не вызвать раздражения, не быть слишком громким. Он стал наблюдать, как мама, сдерживая слёзы, улыбается, будто ничего не случилось. Как папа, уставший, но молчаливый, уходит в себя, чтобы никто не заметил, что ему тяжело. Как взрослые врут себе и друг другу, что всё хорошо, когда всё рушится. И ребёнок решил: «Наверное, так и надо. Наверное, настоящие чувства – это плохо».
С этого момента начинается та внутренняя тишина, о которой мы потом будем говорить на терапии, которую будем глушить едой, делами, прокручивать в голове, не понимая, откуда она. Потому что запреты, которые мы получили в детстве, не просто ограничили нас. Они стали внутренним законом.
Есть женщина, тридцать семь лет, успешная, образованная, у неё двое детей и хорошая работа. Она говорит тихо, сдержанно, аккуратно подбирая слова. Когда я спрашиваю, что она чувствует, она отвечает: «Я не знаю». Она говорит, что ей трудно плакать, трудно злиться, трудно радоваться. Всё как будто ровно. «Я не понимаю, где я. Я просто делаю то, что надо». А потом добавляет, чуть не слышно: «Я, наверное, плохая мама, потому что иногда мне хочется побыть одной».
Я смотрю на неё и вижу ту самую девочку, которая когда-то услышала: «Не будь эгоисткой». Маленькая девочка, которая хотела просто побыть в тишине, отдохнуть, но узнала, что просить о своём – это стыдно. Теперь она взрослая, но внутри всё та же. Она всё ещё боится хотеть. Боится признаться, что устала, потому что внутри живёт родительский голос: «Ты должна быть хорошей».
«Хорошей» – это значит удобной. Это значит не обижаться, не злиться, не спорить. Это значит молчать, когда больно, и улыбаться, когда тяжело. В обществе, где женщина с детства слышит: «будь ласковой, скромной, послушной», внутри неё вырастает чувство, что любое проявление силы или протеста – это угроза любви. И поэтому она учится выживать, не привлекая внимания. Она становится отличницей в школе, примерной дочерью, добросовестной сотрудницей, идеальной женой. Но внутри живёт тоска.
Тоска по себе настоящей – той, что могла смеяться до слёз, кричать от восторга, обижаться, топать ногами, спорить, плакать навзрыд, не думая, как она выглядит. Тоска по живости.
Я помню разговор с мужчиной лет сорока, который сказал:
– Я не умею злиться. Я всегда гашу это чувство. Мне кажется, что злость – это опасно.
– А кто сказал, что это опасно? – спросила я.
Он задумался, потом ответил:
– Мама. Она всегда плакала, если я повышал голос. Говорила: “Ты становишься как отец”.
И я понял, что нельзя злиться, потому что от этого другим больно.
Он не просто перестал злиться. Он перестал чувствовать вообще. Ведь когда одну эмоцию запрещаешь, все остальные тоже тускнеют. Это как выключить звук в жизни – сначала хочется тишины, а потом замечаешь, что пропала музыка.
Ребёнок, который всё понял неправильно, не глуп. Он просто хотел выжить. Он понял, что любовь взрослых часто условна. Что его принимают, когда он послушный, вежливый, благодарный. А когда он проявляет себя – обижаются, раздражаются, отстраняются. Он делает вывод: «Меня любят не за то, какой я есть, а за то, каким я им нужен». И с этого момента он начинает жить не из себя, а для других.
Он растёт, и вместе с ним растёт его внутренняя тюрьма. Она обустроена уютно, почти невидимо: вежливость вместо честности, терпение вместо границ, самокритика вместо любви. Он гордится, что умеет сдерживать себя, что умеет быть сильным. Но эта сила – не про зрелость, а про выживание. Это сила того, кто давно забыл, что такое быть живым.
Когда этот ребёнок становится взрослым, он уже не помнит, как звучит его собственный голос. Все решения он принимает, ориентируясь на чужие ожидания. Он может даже стать успешным – добиться признания, карьеры, семьи – но внутри всё равно будет ощущение, что он живёт не свою жизнь. Это ощущение невозможно объяснить логикой: вроде всё хорошо, но внутри будто кто-то тихо плачет.
Я видела это много раз. Люди приходят с вопросом: «Почему я не чувствую радости? Почему мне всё время кажется, что со мной что-то не так?» А дело не в том, что с ними что-то не так. Просто они всю жизнь жили по сценарию, который написали другие.
В детстве этот сценарий кажется спасением. Он помогает выжить в мире, где не принимают твои эмоции. Но во взрослой жизни он превращается в клетку. Мы продолжаем бояться тех же вещей, что и тогда: что нас не полюбят, что отвергнут, что осудят. И чтобы избежать этой боли, мы отказываемся от себя.
Ты можешь вспомнить, как в детстве стояла с рисунком в руках, гордая, счастливая, и мама сказала: «А почему солнце зелёное?» И ты не заметила, как внутри что-то сжалось. С тех пор ты стала осторожней. Ты поняла, что даже радость нужно дозировать, чтобы не вызвать критику. Или как однажды, когда тебе было больно, ты плакала, а тебе сказали: «Не реви, ты же не маленькая». И ты перестала. Слёзы больше не текли – но боль осталась, просто ушла глубже.
Эти мелочи, повторённые сотни раз, формируют внутренний мир, где чувства – это угроза. Где тишина – это способ выжить. Где улыбка – броня. И взрослый человек продолжает жить с этим сценарием, пока однажды не начинает задыхаться.
В какой-то момент наступает кризис – не обязательно громкий, не всегда разрушительный. Иногда это просто утро, когда ты не можешь встать. Или вечер, когда смотришь в зеркало и не узнаёшь себя. Или разговор, в котором вдруг понимаешь, что говоришь не то, что чувствуешь. И в этот момент где-то внутри тихо шепчет тот ребёнок, которого когда-то заставили замолчать. Он не злится, не обвиняет. Он просто хочет, чтобы его услышали.
Путь к себе начинается с этого шёпота. С признания, что тот ребёнок всё понял неправильно. Что ему никто не хотел зла, но он сделал вывод, который стал его тенью: «Меня нельзя показывать настоящим». И теперь твоя задача – объяснить ему, что можно. Что злиться не страшно. Что плакать – это не слабость. Что хотеть – это не эгоизм. Что быть живым – не грех.
Этот разговор с внутренним ребёнком не произойдёт сразу. Он требует времени, тишины, честности. Но именно он возвращает тебе жизнь. Потому что до тех пор, пока ты продолжаешь жить, доказывая, что ты хорошая, послушная, сильная, правильная – ты остаёшься в той комнате, где когда-то сказали: «Не плачь».
А ведь можно. Можно плакать, можно злиться, можно хотеть, можно быть. И чем чаще ты это себе разрешаешь, тем громче становится твой настоящий голос – тот, что ты когда-то потеряла, пытаясь заслужить любовь.
И, может быть, однажды ты проснёшься утром и впервые скажешь себе: «Мне можно». И поймёшь, что внутри – тишина. Но уже не та, мёртвая, от страха. А другая – живая, глубокая, спокойная. Та, в которой ты наконец-то дома.
Глава 2. Привычка быть удобной
Есть женщины, у которых в голосе всегда немного извинения. Они говорят мягко, выбирают слова осторожно, словно каждое из них может случайно ранить другого. Они улыбаются, даже когда внутри – усталость, обида, пустота. Они привыкли быть вежливыми, спокойными, не мешать, не требовать, не возмущаться. Их хвалят за терпение, за выдержку, за то, что с ними «легко». И только они знают, какой ценой даётся эта лёгкость.
Привычка быть удобной редко осознаётся. Она прорастает незаметно, где-то в детстве, когда за послушание давали любовь, а за несогласие – холод или обиду. Когда мама уставала, но всё равно улыбалась и говорила: «Главное – не расстраивай папу». Когда в школе учительница хвалила: «Вот умница, всегда тихая, не спорит». Когда подруга обижалась: «Ты что, злишься? Не думала, что ты можешь быть такой». Мы учились: быть удобной – значит быть хорошей. Значит, тебя будут любить.
Так начинается история внутреннего разрыва. Когда ты живёшь не из того, что чувствуешь, а из того, что нужно другим. Ты угадываешь, как сделать, чтобы никто не расстроился, чтобы не создать напряжения, чтобы всё было гладко. Ты становишься мастером невидимости – искусно прячешь раздражение, глотаешь обиды, улыбаешься, когда хочется закричать. И со временем этот навык становится настолько естественным, что ты перестаёшь даже замечать, как предаёшь себя.
Когда-то я наблюдала за женщиной в кафе. Она сидела с мужчиной, наверное, с мужем. Он говорил громко, уверенно, размахивая руками, а она тихо кивала, вставляя короткие «да», «конечно», «ты прав». Когда он отвернулся, её взгляд опустел, словно из неё ушёл воздух. Она не спорила не потому, что соглашалась, а потому, что устала объяснять. Она просто знала: спорить – бесполезно. Она привыкла быть удобной.
Иногда удобство – это броня. Оно защищает от конфликта, от боли, от чувства вины. Ведь сказать «нет» для удобного человека – всё равно что нарушить закон. Отказать – значит быть плохой, неблагодарной, равнодушной. Поэтому мы соглашаемся – на лишние дела, на неудобные просьбы, на чужие ожидания. Мы идём туда, куда не хотим, общаемся с теми, кто нам неприятен, работаем на пределе, потому что внутри звучит голос: «Не отказывай, они обидятся». И вот однажды мы обнаруживаем, что живём не свою жизнь.
Привычка быть удобной проявляется даже в мелочах. Когда ты в компании смеёшься над шуткой, которая тебя задевает, чтобы не показаться «слишком чувствительной». Когда соглашаешься остаться после работы, потому что «все остаются». Когда берёшь на себя ответственность за чужие эмоции, потому что «так будет проще». Ты думаешь, что выбираешь мир, но на самом деле выбираешь исчезновение.
Мир любит удобных. С ними комфортно, рядом с ними не нужно меняться. Их не боятся, их не оспаривают, их не воспринимают всерьёз. Но именно в этом и ловушка – быть удобной значит быть незаметной. Ты становишься частью чужих сценариев, растворяешься в чужих жизнях, теряешь собственное «я». И чем дольше живёшь так, тем труднее вспомнить, кто ты вообще.
Когда ты живёшь в режиме «как надо», у тебя не остаётся внутреннего пространства для «как хочется». Это похоже на жизнь в маленькой комнате, заставленной чужими вещами. Везде аккуратно, чисто, но дышать нечем. И однажды ты вдруг осознаёшь, что все эти «да», произнесённые за годы, – не про доброту, а про страх. Страх быть отвергнутой, непонятой, осуждённой. Страх, что если ты покажешь себя настоящую – с раздражением, с усталостью, с желаниями – тебя не полюбят.
Но любовь, которая держится на удобстве, всегда условна. Она существует, пока ты соответствуешь, пока не выходишь за рамки, пока не требуешь слишком многого. Стоит тебе начать говорить честно – и эта любовь дрожит, как тонкий лёд. Именно поэтому многие не решаются: лучше быть удобной, чем остаться одной.
Когда-то одна моя клиентка сказала фразу, которая застряла во мне надолго:
– Я живу так, чтобы никому не мешать.
– А тебе самой ты не мешаешь? – спросила я.
Она замолчала. Потом тихо улыбнулась – той самой вежливой улыбкой, за которой живёт усталость, копившаяся годами.
Быть неудобной – страшно. Это значит нарушать правила, ломать шаблоны, рисковать. Это значит позволять себе говорить «нет», когда от тебя ждут «да». Это значит вызывать у других недовольство, раздражение, непонимание. Это значит встречаться с виной и страхом, которые поднимутся внутри. Но именно в этом и начинается свобода.
Когда ты впервые отказываешь, тебе кажется, что происходит что-то ужасное. Тело напряжено, голос дрожит, внутри буря. Ты ждёшь, что тебя осудят, отвергнут, перестанут любить. Но проходит время, и ничего страшного не происходит. Мир не рушится. Кто-то удивляется, кто-то злится, но потом всё утихает. А ты чувствуешь странное, почти незнакомое ощущение – облегчение. Потому что в этом «нет» есть вкус жизни. Это первый вдох после долгого пребывания под водой.
Сначала эти «нет» редкие и неуверенные, но каждое из них возвращает тебе часть твоей силы. Ты начинаешь чувствовать границы – не как стены, а как очертания себя. Границы – это не про отдаление от людей, это про честность. Это про умение сказать: «Вот здесь я. И я не обязана стираться ради чужого комфорта».
Иногда люди вокруг не понимают. Они привыкли к твоей мягкости, к твоему согласию, к твоей предсказуемости. И когда ты начинаешь меняться, им кажется, что ты стала «холодной», «жёсткой», «эгоистичной». Но на самом деле ты просто перестала быть удобной. И это – не холод, это взросление.
Когда-то одна женщина рассказала, как впервые не поехала на семейный ужин, на который обычно шла через силу. Она написала матери: «Я устала, хочу остаться дома». В ответ получила короткое: «Ты изменилась». И она испугалась. Ей хотелось оправдаться, объяснить, что это не каприз, а потребность. Но потом она вдруг поняла, что да – изменилась. И в этом нет ничего плохого.
Быть неудобной – значит быть живой. Это значит чувствовать, реагировать, выбирать. Это значит признавать: «Мне не нравится», «Мне больно», «Я не хочу». И в этом нет жестокости. Это про честность – с собой и с другими. Потому что когда ты всё время соглашаешься, ты обманываешь не только себя, но и тех, кто рядом.
Привычка быть удобной часто маскируется под доброту. Мы говорим: «Я просто не хочу никого обидеть». Но за этим часто скрывается другое: «Я не выдержу, если меня не полюбят». Мы путаем принятие и одобрение, путаем заботу и самопожертвование. Но любовь, в которой ты обязана быть удобной, перестаёт быть любовью. Это контракт, где ты платишь собой за покой других.
Когда ты перестаёшь быть удобной, ты теряешь не всех – только тех, кто любил твою покорность. Но взамен приходят другие. Те, кто видит в тебе живого человека, а не функцию. Кто ценит твою честность, кто уважает твоё «нет», кто радуется твоему «да» не из выгоды, а из сопричастности.
Женщина, которая учится быть неудобной, сначала похожа на человека, идущего босиком по стеклу. Каждый шаг – боль, страх, неуверенность. Но с каждым шагом кожа становится крепче, дыхание – глубже, а взгляд – яснее. Она начинает чувствовать вкус своих решений, ощущать силу своих слов. Она перестаёт искать одобрение, потому что впервые одобряет сама себя.
Быть неудобной – не значит быть грубой. Это значит быть настоящей. Это значит позволить другим увидеть тебя без фильтров, с живыми эмоциями, с несовершенством, с усталостью и радостью. Это значит перестать бояться своего голоса.
Иногда, стоя перед выбором – сказать «нет» или снова проглотить, ты услышишь знакомый внутренний шёпот: «Не обижай, будь мягче». Но теперь ты можешь ответить ему спокойно: «Я выбираю себя». И это не эгоизм. Это возвращение. Потому что в мире, где все стараются быть удобными, самый смелый поступок – это позволить себе быть живой.
И, может быть, однажды ты посмотришь в зеркало и впервые увидишь не женщину, которая старается всем угодить, а женщину, которая дышит. У которой есть голос. У которой есть право быть. Которая больше не извиняется за своё существование. И в этот момент ты поймёшь: тебе больше не нужно быть удобной, чтобы быть любимой. Тебе просто можно быть.
Глава 3. Страх жить по-своему
Есть одна странная вещь, которая случается с каждым человеком, едва он начинает осознавать себя. Мы словно начинаем жить под невидимой камерой наблюдения. Неважно, кто на том конце – родители, друзья, общество, случайные люди. Мы чувствуем этот взгляд постоянно, он сопровождает нас с детства, тихо, но настойчиво напоминая: «Следи за собой. Не делай лишнего. Не выделяйся. Не разочаруй». И в какой-то момент этот взгляд становится нашим внутренним наблюдателем, нашей собственной цензурой. Мы уже не нуждаемся в чьём-то одобрении, чтобы чувствовать себя под контролем – мы сами себе стали надзирателем.
Жить по-своему – значит однажды выйти из этой зоны наблюдения. Но это не просто шаг, это внутреннее землетрясение. Потому что пока ты живёшь для других, тебя защищает иллюзия – будто ты на правильном пути. Правильный путь всегда там, где ты никого не раздражаешь, не вызываешь споров, не ломишься против течения. Правильный путь – это дорога без скандалов, без громких решений, без риска потерять чью-то любовь. И именно поэтому он кажется безопасным.
Но безопасность, построенная на чужом одобрении, всегда оказывается тюрьмой. В ней уютно, но душно. Снаружи мир огромен – со своими шансами, открытиями, ошибками, но мы стоим за решёткой страха. Потому что если выйти, придётся столкнуться с главной болью – возможностью разочаровать.
Страх разочаровать – один из самых сильных страхов человека. Он рождается рано, ещё тогда, когда ты приходишь к маме с рисунком, гордый и радостный, а она говорит: «Красиво, но почему солнце зелёное?» И в этот момент ты впервые чувствуешь, что твоя правда – не та, что ждут. Потом, когда ты плачешь, а тебе говорят: «Не реви, это ерунда», ты учишься, что твои чувства – слишком громкие, их лучше спрятать. Когда тебя сравнивают с кем-то: «Посмотри, как старается Маша» – ты понимаешь, что чтобы быть любимым, нужно соответствовать. И так внутри тебя формируется узкий коридор, в котором можно жить, не вызывая разочарования. Всё, что за его пределами, – опасно.

