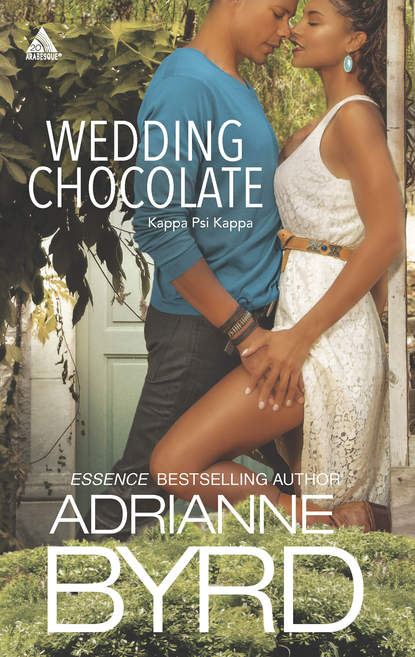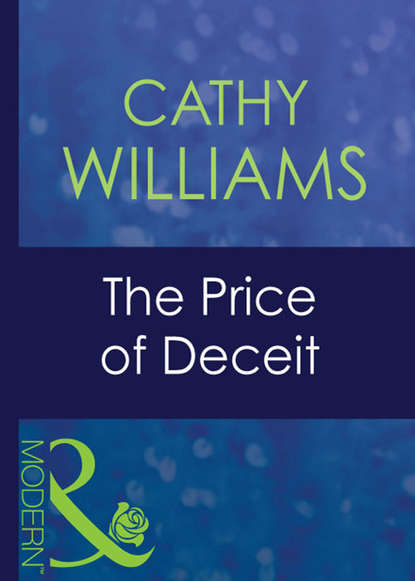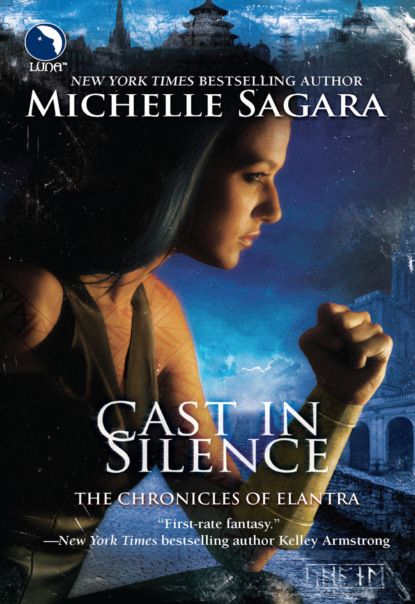Я отменяю идеальность. Как перестать гнаться за чужими стандартами и вернуть себе жизнь
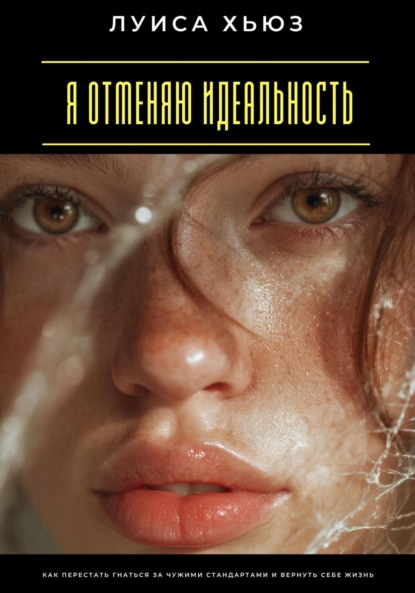
- -
- 100%
- +
Бывает, что внутренний судья полюбил слишком крепкие метафоры, обвешивает нас ими и будто лишает манёвра. «Ты всегда всё портишь», «из тебя никогда ничего не выйдет», «с тобой тяжело всем», «твоя усталость никого не должна волновать». Эти лозунги звучат как правда, потому что мы подкрепляли их годами, но если разобрать их на части, окажется, что в каждой есть хоть один эпизод, который выбивается из общего правила, а значит, правило неверно. Я помню разговор с женщиной, которая сказала «я никогда не держу обещания себе», и мы с ней нашли три момента только за последнюю неделю, где она оставалась верной выбору, даже если они были маленькими и незаметными. Этот поиск не про позитивное мышление, он про справедливость к фактам, потому что внутренний критик не уважает факты, он уважает драму. Когда факты возвращаются, драма сдувается, и появляется пустота – та самая, где можно слышать себя.
Разговаривая о телесном заземлении, я часто прошу людей описать, как они стоят на полу, и это кажется неуместным для «серьёзных» тем, но именно в этот момент яснее всего видно, где мы теряем контакт. Под тяжестью стыда стопы становятся словно из картона, мы как будто перестаём доверять опоре, и тогда полезно просидеть минуту, ощущая пятна давления, не оценивая, а просто считая, что здесь есть поверхность, которая держит тебя без условий. Иногда мы добавляем к этому простой жест – опустить ладони на грудную клетку и живот, не чтобы «успокоиться», а чтобы сказать себе: я здесь, и со мной есть я. За этим всегда следует волнa сопротивления, потому что внутренний критик не любит такие ритуалы, считает их сентиментальными и бесполезными. Но тело откликается быстро, и этот отклик не нуждается в разрешении цензора. Как только дыхание возвращается, мысли перестают звучать как ультиматум. Можно позволить себе сомнение, можно позволить себе паузу, можно услышать человека напротив. И в этом – начало света.
В один осенний вечер я вышел из метро и увидел мужчину, который стоял у витрины книжного, сжав пальцами переносицу. Он выглядел как человек, который сейчас ругает себя за что-то, может быть, за неправильные слова в разговоре, может быть, за медлительность, может быть, за усталость, которую считал слабостью. Рядом откуда-то вырос мальчишка лет пяти, тянул за руку то ли отца, то ли дядю и говорил: «Пойдём уже, а то книги на нас рассердятся». Мужчина усмехнулся, опустил руку и, как будто приняв приглашение, сделал шаг внутрь. Я поймал себя на мысли, что внутренний судья отступает в тех местах, где появляется тёплая нелогичность, детская фраза, не вписывающаяся в систему, смех, который вынимает из нас металлический кол и возвращает способность дышать. Этот судья не выносит человечности в её простой форме, потому что она не признаёт его монополии на правила. И чем чаще мы позволяем себе нелинейность – осторожную и осмысленную, чем чаще практикуем лёгкое несовершенство там, где не разрушается фундамент, тем меньше власти у приговоров, и тем больше у нас уважения к себе настоящему.
Если попытаться собрать всё сказанное в одну фразу, она будет звучать примерно так: внутренний судья вырос из попытки заслужить принадлежность и избежать изгнания, стыд давал нам энергию меняться и возвращаться, но со временем стал нашим надсмотрщиком, и теперь наша задача – вернуть его на место, где он предупреждает, а не парализует, где помогает нам оставаться в связи, а не жить на коленях. Это возможно, когда мы учимся говорить с собой языком наблюдения вместо приговора, когда позволяем телу сообщать нам о границах, вместо того чтобы перекрикивать его идеальной логикой, когда находим в себе мужество признать человеческую сторону любой компетентности, когда в разговоре с другими отказываемся приносить им только полированную версию, выбирая настоящую, может быть, не ровную, но живую. И в каждом таком выборе стыд теряет часть своей гипнотической силы, а внутренний критик перестаёт быть неоспоримой инстанцией и становится тем, чем должен быть по природе, – инструментом, который помогает нам быть добрее к миру и к себе, а значит, свободнее.
Глава 3. Экономика сравнения: как мы учимся мерить себя чужими линейками
В каждом городе есть улицы, по которым лучше всего идти вечером: там мягкий свет витрин, в которых всё разложено так, будто у жизни есть аккуратная система хранения, и если долго смотреть, улавливая, как блестит стекло, как осторожно подвешены ценники, как складки одежды падают именно в те места, где на настоящих людях они обычно сопротивляются, то возникает странное чувство, что где-то рядом существует параллельная реальность, лишённая шероховатостей, и все в ней знают, как правильно жить. Сравнение рождается именно там, между реальной тканью дня и обещанием идеальной выкройки, которую, кажется, продают совсем недорого – всего лишь за внутреннюю свободу. Оно не похоже на явную зависть, оно ближе к экономической модели с невидимыми курсами: мы обмениваем собственный опыт на чужие истории, свою усталость – на их гладкость, своё «пока не знаю» – на их уверенность задним числом, и эта валюта всегда в нашу сторону обесценивается. Сравнение умеет сжимать время и пространство, оно превращает чужую кульминацию в наш понедельник, оно стирает контекст, как если бы ты пытался оценить картину по одному фрагменту мазка и объявлял весь холст шедевром или неудачей, не видя, что было до, после и вокруг.
Я вспоминаю разговор с Лерой в кофейне на первом этаже дома с неряшливым двором, где под окнами вечно сушатся коврики. Лера пришла с ноутбуком, словно собиралась защитить диплом перед строгой комиссией, и весь вид её говорил, что каждое слово будет проверено. «Я не знаю, как перестать сравнивать, – сказала она, – это как навязчивая привычка: куда ни гляну, везде вижу чужие стандарты, и мой день рядом с ними выглядит недоразумением. Мне двадцать девять, у меня нет впечатляющей должности, нет впечатляющей кухни, и я всё время как будто должна быть чуть дальше, чуть выше, чуть громче». Она не говорила о конкретных людях, она говорила о витрине, через которую мы все то и дело смотрим – витрине кураторских историй, где герои укладывают личную жизнь в лаконичные абзацы, карьеру – в драматургически правильные повороты, тело – в график без срывов, а сложные части биографии аккуратно обходят, чтобы не разрушить композицию. Мы не видим репетиций, мы видим премьеру, и в этом нет чьей-то злой воли, просто премьеры светят ярче, чем день за днём, в котором всё не слишком фотогенично. «Я понимаю, что возможно там есть тени, – продолжала Лера, – но мой мозг верит картинке быстрее, чем пояснению. Я начинаю составлять математическую модель чужой жизни и понимаю, что в моей не сходится».
Экономика сравнения построена на дефиците. Чтобы сравнение работало, нам нужно всё время ощущать нехватку: времени, признания, навыков, красоты, смелости. Нехватка делает нас управляемыми, как управляем покупатель, который приходит в магазин за «чем-то, чтобы стало нормально». Внутри мы держим список пунктов, пункты с возрастными дедлайнами, с отметками «пора», «уже бы», «ещё бы»; и если внимательно прислушаться, голос, который читает этот список, почти всегда говорит чужими интонациями. Мы не замечаем, как перенимаем эти интонации, как они становятся частью нашей собственной оптики. И в этой оптике мы смотрим на отношения и видим не тепло двух несовершенных людей, а соответствие сценарию, на работу – и видим не значение, а вывеску, на тело – и видим не благодарного партнёра, а материал для улучшений, из которого можно выжать ещё. В такой логике опыт перестаёт быть опытом и становится отзывом: вместо того чтобы проживать, мы описываем, как прожили, мысленно примеряя, насколько хорошо этот отзыв дополняет общую витрину.
Сережа, тридцатитрёхлетний продюсер, говорил мне как-то ночью, после премьерного показа документального фильма, ради которого команда год работала без выходных: «Самое странное, что я испытываю не радость, а тоску. В зале аплодировали, критики кивнули, а я уже думаю о следующем проекте, потому что этот, как ни старайся, в моей голове со временем окажется недостаточно важным». Он не кокетничал, он описывал симптом экономики сравнения: любое достижение быстро приравнивается к нулю, если его невозможно конвертировать в статус следующей ступени. Успех становится не событием, а обязательством, а значит, его нельзя прожить – его нужно поскорее упаковать в историю, которая будет работать на будущий спрос. Сережа не был циничен, он просто не замечал, как его отношение к собственным результатам определяет рынок чужих взглядов. «Я понимаю, что нужен зритель, – говорил он, – но я как будто живу уже в следующих реакциях и хаю себя за тихие дни, в которых ничего «стоящего внимания» не происходит». Мы долго обсуждали тишину между успешно сделанным и собственным правом не конвертировать её немедленно в новый проект, и оказалось, что страшнее всего ему казалось остаться один на один с неэффективностью дня, где никто не видит, сколько труда было вложено, где нет ярлыка, где есть только местами складная, местами неровная жизнь, которая не обязана быть прокрученной кем-то ещё.
Кураторская подача чужой жизни устроена как музейная экспозиция без подсобных помещений. Ты видишь отобранное, вычищенное, выстроенное по логике маршрута, но не видишь, как у смотрителя болят ноги к концу дня, как реставратор спорит с экономистом, потому что на ту самую работу, от которой зависит всё, жарко не выделили бюджет, как утром не приехали грузчики, и картину вешали втроём, замирая на лестнице. Невидимая работа скрыта, потому что она разрушает иллюзию «естественности успеха». Эта «естественность» соблазнительна: если у кого-то получилось так легко, значит, со мной что-то не так, раз мне тяжело. Но правда в том, что практически любой осмысленный результат тянет за собой километры незаметного, и вопрос не в том, чтобы романтизировать трудности, а в том, чтобы восстановить справедливую пропорцию: тяжёлое – не показатель непригодности, а составная часть пути, и она не обязана попадать в витрину, но обязана быть признанной внутри нами самими, иначе мы будем всё время выбрасывать себя, как бракованный товар.
Лёша, атлет, с которым я встречался по утрам в парке, где дорожки пахнут речной водой и влажной землёй, рассказывал о том, как в его голове живёт постоянно обновляющийся эталон. Он установил личный рекорд, и вместо того чтобы радоваться, сразу подумал: «ну да, но это ведь слабый сезон»; он вошёл в сильную команду, но сказал себе: «ну так сказалось стечение обстоятельств». Любая хорошая новость проходила через строгий фильтр, который не позволял ей задержаться. «Я как будто храню внутри какого-то невидимого тренера, – смеялся он с горечью, – и этот тренер не хочет, чтобы я расслаблялся, поэтому дискуссия всегда заканчивается аргументом “могло быть лучше”». Мы говорили про то, как эта установка экономически выгодна, если твоя задача – выжимать из себя максимум любой ценой, и как она разрушительна, если твоя задача – жить долго и осмысленно. Он слушал и кивал, а потом признался: «Мне выгоднее ненавидеть себя за слабость, чем столкнуться с тем, что я смертен и конечен». Этот болезненный тезис объясняет, почему сравнение так прочно: оно позволяет не встречаться с конечностью, заменяя её перегонами по бесконечной лестнице, и чем быстрее мы бегаем, тем меньше времени видеть, что лестница уходит в никуда.
Если посмотреть на сравнение как на рынок, можно увидеть, что мы приносим туда своё время и внимание, а уходим с покупками из чужих витрин, которые решают проблему нехватки не больше, чем сладкая вода утоляет жажду в полдень: становится легче на мгновение, потом хочется ещё, а чем больше пьёшь, тем меньше чувствуешь собственный вкус. Информационная диета – выражение не очень точное, но по смыслу верное: вопрос не в том, чтобы обесточить себя и жить без новостей, а в том, чтобы перестать есть всё подряд, потому что голодно и потому что «так положено». Нужно научиться узнавать, что именно вызывает у нас приступы голода, который не связан с реальной потребностью. Я вспоминаю Леру, которая поначалу объявила цифровое голодание и выдержала его ровно три дня, после чего сорвалась и провела ночь за длинной лентой чужих историй, а утром её нахлынуло чувство стыда, как после тайного переедания. Мы с ней договорились о другом эксперименте: не запрещать себе смотреть жизнь других, а менять вопрос, с которым она это делает. Вместо «что со мной не так?» – «что в этом откликается и чем мне это полезно?»; вместо «почему у меня не так?» – «есть ли здесь зерно, которое я хочу посадить у себя?»; вместо «все успевают, а я нет» – «какой у меня сегодня реальный объём и какая одна вещь будет честной для меня?». Эти вопросы выключают режим потребителя и включают режим автора, а автор, в отличие от потребителя, живёт как-то по-другому: он меньше вспыхивает, он бережёт ритм, он знает, что не обязан находиться в кадре каждую секунду.
Ведь без собственной оптики человек превращается в проводника чужого света, и у этого света всегда есть хозяин. Восстанавливать оптику – значит возвращать себе способность видеть, что для нас важно, и отделять живое важное от шумного значимого. В каждой биографии есть место, где мы впервые решили, что собственному взгляду доверять опасно. Это может быть случай, когда тебя засмеяли за «неправильный» вопрос, и ты навсегда сместил тембр любопытства на внутренний шёпот. Или утро, когда тебе сказали, что «нечего мечтать», и ты выучил, что мечта – для тех, у кого «есть основания», и больше не брался за то, что не обеспечено заранее. Или целая юность, в которой любое «я хочу» переводили как «такая у нас фантазёрка», и ты теперь терпишь до последнего, чтобы не стать этой карикатурой. Задача взрослой жизни – поймать этот момент и вернуть себе законное право быть автором собственной линейки. Наша линейка, в отличие от чужой, не деревянная с чёткими делениями, она гибкая, она похожа на портновский метр, которым обмеряют живого человека, а не манекен. Она признаёт, что сегодня ты спал три часа и поэтому «лучший вариант» будет не самым доблестным, но самым разумным. Она признаёт, что у тебя есть цикл, в котором приходят и уходят силы, и твоя задача – не фиксировать максимум, а выстраивать устойчивый средний. Она признаёт, что человек, который сидит напротив, не обязан быть версией из твоих ожиданий, и это не провал отношений, а пространство для разговора.
Истории маленьких разворотов важнее громких деклараций. Пётр, сорок два года, экономист, привык считаться «человеком, который всё знает». У него были аккуратные костюмы, аккуратные формулировки и аккуратный ужас при мысли, что кто-то может увидеть его сомнение. Он научился делать энергетические инъекции из контента: короткое видео о чьём-то прорыве утром, вдохновляющий кейс днём, чужая победа вечером. Он любил говорить, что это помогает ему «держать руку на пульсе», но каждый раз, когда он выключал экран, его собственный пульс начинал бешено колотиться и требовал подтверждения: «ты хотя бы приблизился?» В какой-то момент он заметил, что его жизнь похожа на человека, который постоянно смотрит на карту метро, забывая, куда ему ехать. Я попросил его попробовать неделю задавать себе один вопрос перед любым потреблением чужой истории: что у меня сейчас болит настолько, что я хочу анестезии? Оказалось, что чаще всего ему было стыдно за то, что он медленнее стал считать, чем десять лет назад, что он не продвинулся в иностранном языке, хотя давно обещал себе, и что он боится финансовой неопределённости, хотя внешне выглядит состоятельным. Услышав это, он начал выбирать контент, который не наполняет его чужими высотами, а помогает быть честным с нынешним состоянием. Внутренний шум и физическая тахикардия снизились. Нет, он не стал аскетом, он просто перестал покупать товар, который ему не подходит, даже если витрина соблазнительно блестит.
Есть и обратная сторона – мы сами иногда становимся кураторами своей жизни, и для этого не нужно тысячи постов, достаточно пары колких фраз, которыми мы прикрываем слабость, и пары побед, которыми заслоняемся от близких, чтобы они не видели, как иногда мы сдуваемся. Сравнение живёт там, где мы боимся показать реальность. В одной семье подросток перестал делиться ничем, кроме оценок, потому что видел, как родители оживляются только тогда, когда в дневнике полоса высоких баллов. Он принёс высокий балл как аванс на право быть услышанным, а разговор всё равно свернул к планам «какую кафедру выбрать». Желание лучше для ребёнка перевели в систему координат, где услышанным можно быть при соблюдении правил эффективности. И этот подросток автоматически стал куратором собственной витрины: он будет приносить то, что покупают, и прятать то, что «портит картину». Родители потом спрашивали, почему он живой, но недоступный. Потому что их общий рынок давно перешёл на расчёты чужой валютой: внимание в обмен на соответствие.
Устойчивость к сравнению появляется там, где возвращается телесная и эмоциональная связность. Мы привыкли осуждать «информационную зависимость», как будто дело только в экранах, но чаще дело в том, что без чужих историй мы остаёмся наедине с собственной скукой, и нам кажется, что скука – признак бессмысленности. На самом деле скука иногда – сигнал, что вы наконец вышли из режима потребления и не знаете, что в вас звучит без внешних громкоговорителей. Это самая пугающая тишина, но именно в ней возможно услышать не витринный голос «будь лучше», а ваш внутренний «будь собой». Я видел, как люди в эту тишину проваливались, а потом выплывали с простыми, не героическими решениями: наладить сон, перестать обесценивать обед, который приготовил для себя, перестать назначать встречу за встречей, чтобы не сталкиваться с пустым вечером, начать раз в неделю идти там, где красивый свет, даже если никаких целей нет, кроме нежного ощущения присутствия. Удивительным образом после этого простого возвращения сравнения становится заметно меньше: энергия перестаёт уходить на поддержание витрины и начинает работать на построение внутреннего ритма.
Ирина, психолог в городской поликлинике, рассказывала мне, как изменилась её оптика после болезни. Несколько месяцев она могла только медленно ходить вокруг дома и пить тёплую воду маленькими глотками. Внезапно вся её система критериев рухнула, потому что сравнивать «чья жизнь ярче» оказалось бессмысленно, когда твой главный критерий – отсутствие боли в теле. Она вылечилась и вернулась к работе, но сравнение уже не работало прежним образом. «Я увидела, что у многих есть привычка считать чужие окна, – говорила она, – а у меня появилась привычка подсчитывать свои вдохи и выдохи. Это не про эгоизм, это про благодарность. Когда настраиваешься на своё дыхание, к чужим высотам относишься как к погоде: иногда красиво, иногда грозно, но в любом случае у тебя есть твой дом». Это не магическая история преобразования, это результат вынужденного, но мудрого сдвига внимания: от витрин к внутренним параметрам, от чужих циклов к своим, от историй для публики к разговорам на кухне, где пахнет супом и временем.
Когда я думаю о собственной оптике, я представляю себе ручную работу – шлифовку стекла, которая требует терпения и внимания, и итог может быть незаметен, пока на стекло не падает свет. В обычном дне вы не заметите, насколько чище стало изображение после десятка маленьких корректировок, но в критический момент – в разговоре, где важно не обороняться, а услышать, в выборе, где важно не конформистски, а по смыслу, – вы почувствуете, что видите лучше, и это «лучше» не про чёткость чужих границ, а про ясность своих. Восстанавливая оптику, мы возвращаем право жить с огрехами, потому что ценим не ровность картинки, а достоверность содержания. А достоверность появляется там, где в хронологию вписаны не только победы, но и паузы, не только быстрые выводы, но и вопросы, не только «успех», но и «не знаю», и именно это «не знаю» делает нас способными к подлинному выбору.
Сравнение не исчезнет навсегда – так же, как не исчезнет желание иногда подглядывать в витрину – но его можно превратить из жадного акционера в спокойного наблюдателя, который не диктует курс дня. Для этого важно сохранять внутреннее ощущение достаточности не как самоуспокоение, а как рабочую модель: я не лучше и не хуже, я на своём участке пути, и мой участок не должен выглядеть как чужой. Иногда это звучит как дерзость, как будто ты отказываешься платить налоги чужому порядку вещей, но на самом деле это и есть гражданство в собственной жизни. Я видел, как после нескольких месяцев такой «финансовой реформы» люди буквально менялись лицом: сходило хроническое напряжение, появлялась мягкая внимательность, исчезала необходимость объяснять каждый шаг, потому что он больше не требовал внешней валюты подтверждения. Они по-прежнему радовались чужим премьерам, по-прежнему восхищались чьими-то траекториями, но перестали на них подписывать договор о собственной несостоятельности.
Однажды я шёл вечером через тихий двор. В одном окне сидела женщина с книгой, в другом кто-то чинил велосипед, в третьем человек разговаривал по телефону, опираясь лбом в стекло. Весь этот сложенный из отдельностей мир был неожиданно цельным. И я подумал, что если б у каждого была кнопка «показать весь контекст», сравнение в прежнем виде потеряло бы удельный вес. Но такой кнопки нет, да и не нужно. Нам хватит другой – внутреннего переключателя, который говорит: помни, ты видишь не жизнь, а свет из окна; помни, у каждого – и у тебя – есть кухня без скатерти, зима, когда слишком рано темнеет, упорство, которое никто не аплодирует, и маленькие, почти незаметные победы, от которых теплеет в груди. Когда он включён, экономику сравнения перекраивает другая бухгалтерия: ценность перестаёт определяться курсом на внешней бирже и начинает складываться из тихих дивидендов собственного смысла. И тогда, даже проходя мимо самых манящих витрин, можно улыбнуться не тому, что предлагается купить, а тому, что у тебя уже есть то, что нельзя выставить – твоё «достаточно», которое дышит и растёт вместе с тобой, и которого достаточно не для того, чтобы победить всех, а для того, чтобы не предавать себя.
Глава 4. Тело как проект: от насилия планок к бережной заботе
Иногда мысль о собственном теле приходит как план ремонтных работ, составленный слишком усердным прорабом: сроки, сметы, ежедневные отчёты, штрафы за просрочку, и чем дольше живёшь по этому плану, тем сильнее стены внутри становятся голыми и холодными, будто в них забыли провести отопление. Перфекционизм селится в теле бесшумно: сначала это «здоровая дисциплина» – встать на рассвете, отмерить «правильный» завтрак, отработать тренировку без скидок на плохую погоду и недосып, затем «мотивирующая» таблица в телефоне, где каждый день должен быть закрашен цветом успеха, а белые клетки воспринимаются как позор. Спустя месяц появляются первые взыскания: если не отработал, значит, накажи себя дополнительными подходами, откажи себе в ужине, затяни ремень на один прокол. Через некоторое время «режим» перестаёт быть опорой и становится властителем, который не знает про твои ритмы, усталость, горе, радость, случайный праздник у друзей, неожиданную простуду ребёнка, – он требует соответствовать, как будто телу нравится жить без выходных. Снаружи это похоже на «сильный характер», внутри – на плохо скрываемое насилие, в котором мнимый порядок держится на страхе увидеть себя «слабым».
Я вспоминаю Диану, переводчицу на удалёнке, которая пришла однажды с блестящими глазами и сложным, как финансовый отчёт, планом «перезапуска». До этого она годами пробовала «начать новую жизнь с понедельника», копила приложения, плейлисты и советы «как стать лучшей версией себя», и каждый раз на второй неделе ломалась, потому что жизнь не терпела линейности: дедлайны, ночные правки, недосып, а потом – внезапная поездка к родителям и поезд в шесть утра, где никакой зелёный смузи не влезал ни в чемодан, ни в душу. «Я решила пойти жёстко, – сказала она, – никаких оправданий, просто спортсмен из меня, который выполняет план». Её телефон действительно выглядел как табло тренировочного лагеря: шаги, пульс, калории, вода, сон, растяжка, по каждой строке – цель, по каждой цели – чекбокс. Через три недели она пришла уставшая и сухая на лицо, как пустынная ветка. «Каждый день я просыпаюсь с чувством долга, – сказала она, – будто мое тело взяли в лизинг, и я должна его отработать, чтобы вернуть себе право на жизнь. Я ем по часам, тренируюсь на автомате, и если вдруг что-то сбивается, ощущение, что я плохая и моя воля ничего не стоит». Мы затихли на минуту, потому что в этом признании было больше любви к жизни, чем в любой героической таблице. Она не хотела сдаться, она хотела перестать жить под прессом.
Перфекционизм в теле всегда начинается с одной и той же лжи: «я делаю это ради здоровья». Но когда присматриваешься, выясняется, что «здоровье» здесь звучит как эвфемизм для «контроля», «соответствия», «искупления». Тело превращается в проект, а проект требует инвестиции в виде страданий, и чем больше страданий, тем будто бы выше прибыль. Мы влюбляемся в план и перестаём слышать обратную связь. Сигналы голода и насыщения объявляются «капризами», желание движения – «недостаточно выверенным», тяга ко сну – «слабостью», усталость – «невоспитанностью», и вот уже мы создаём циклы, в которых жёсткая неделя сменяется срывом, затем виной, затем ещё более жёсткой неделей. Тело привыкает к качелям как к единственному языку общения: если ты говоришь с ним кнутом, оно научится разговаривать с тобой срывами. Я видел, как люди, умные и бережные в других сферах, в отношении себя становились тюремщиками, следящими за «режимом», и как вся палитра живых ощущений сужалась до «удержал/не удержал». В такие периоды зеркала превращались в штрафные стенды: любое отражение считывалось только через несовпадение с планом, а не через вопрос «как я на самом деле?».