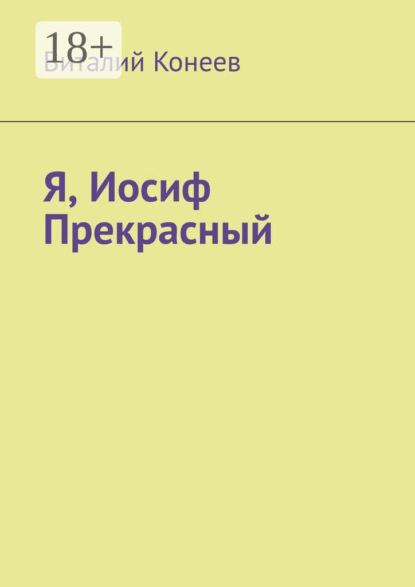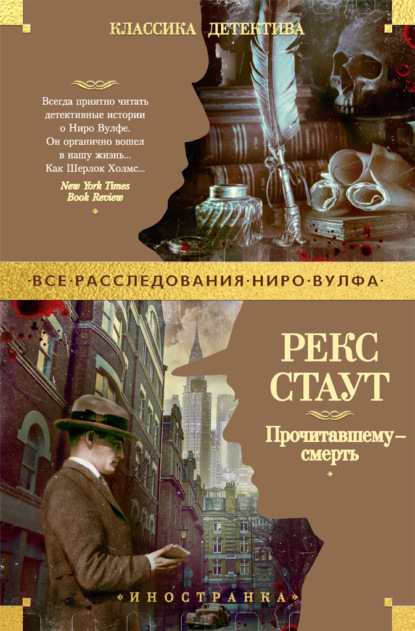Я выбираю себя. Как перестать быть всем для всех и стать главным человеком в своей жизни

- -
- 100%
- +

Введение
Иногда возвращение начинается не с дороги, а с осознания того, что ты слишком долго жила не в своём доме. Не в том, где стены окрашены в любимый цвет и пахнет утренним кофе, а в доме, который называется «собственная жизнь». И вот ты стоишь в ней – своей – но чувствуешь себя гостьей, на цыпочках, как будто боишься потревожить кого-то или нарушить чей-то порядок. Ты срываешься по первому зову, отзываешься на просьбы, ещё до того как услышала их. Ты живёшь, словно тебя постоянно кто-то оценивает: в родительском голосе в голове, в укоризненном взгляде начальника, в ожиданиях близких, которые стали твоими автоматическими реакциями. И при этом ты удивляешься, почему так тяжело дышать, почему тело словно не твоё, а мысли бегут по кругу, в котором нет ни начала, ни конца, только тревожный фон, который уже стал привычным.
Я написала эту книгу не как теоретик, не как учёный или консультант с правильными формулировками, а как женщина, которая много лет искала себя между чужими «надо», «будь хорошей» и «не подведи». Я написала её, потому что знаю, как больно просыпаться утром с мыслью, что ты снова должна – быть сильной, вежливой, понятной, удобной, красивой, успешной, терпеливой. Я знаю, как это – улыбаться, когда хочется плакать. Как это – чувствовать себя виноватой за то, что устала. Как это – бояться, что если однажды ты скажешь «нет», тебя перестанут любить. Но я также знаю, что однажды всё меняется. Не вдруг, не волшебным образом. А постепенно, больно, честно – с первой смелостью сказать: «Я больше так не могу».
Эта книга – не инструкция, не руководство к действию. Это приглашение. Приглашение вернуться. К себе. К своим желаниям, потребностям, к своему телу, к своей внутренней опоре. Это не про нарциссизм, не про эгоизм, не про «все вокруг мне должны». Это про взрослую, зрелую, тёплую любовь к себе, которая даёт силу не быть всем для всех, а быть собой – полностью, без скидок и без оправданий. Потому что сколько бы ты ни старалась заслужить любовь, она никогда не станет настоящей, если начинается с предательства себя.
Мне хочется, чтобы, открывая эту книгу, ты почувствовала: тебя понимают. Не потому что кто-то знает ответы на все вопросы, а потому что здесь есть голос, который говорит: «Ты не одна». Здесь есть истории – мои, твои, наши – которые собираются в одну большую правду о том, как много женщин живут на грани между «я должна» и «я больше не могу». И как непросто сделать шаг в сторону «я хочу», «я чувствую», «я выбираю себя».
Я помню женщину, которая, приходя домой с работы, ставила сумку у порога и замирала. Не от усталости – от пустоты. В этой тишине не было отдыха, потому что в ней не было её. Только привычные действия: приготовить ужин, проверить уроки, ответить на сообщения, запланировать завтрашний день. И нигде – ни одного жеста, сделанного ради себя. Она говорила: «Я живу ради семьи», и даже не замечала, как эта фраза постепенно стирает её саму. А потом приходил вечер, в котором она лежала в темноте, уткнувшись в подушку, и молча плакала. Потому что никто не спрашивал, как она. Потому что она и сама давно себя не спрашивала. Я видела, как в ней росла злость – не к другим, а к себе. За молчание, за терпение, за то, что позволила себе исчезнуть. И однажды она встала с кровати и написала письмо. Не кому-то. Себе. «Прости, что забыла тебя. Прости, что не слышала. Я хочу тебя вернуть».
Эта книга – как то письмо. Только длиннее. Только в голос. Только с надеждой, что ты тоже захочешь написать своё. Что ты захочешь снова стать главной героиней своей жизни, а не второстепенным персонажем в чьём-то сюжете. Что ты перестанешь ждать разрешения быть собой и начнёшь спрашивать: «А чего хочу я? Что я чувствую? Что мне нужно?»
Да, это страшно. Быть собой всегда страшно. Потому что это значит – рисковать быть непонятой. Значит, возможно, огорчить кого-то. Разочаровать. Потерять чью-то поддержку. Но всё это ничто по сравнению с тем, что ты теряешь, если продолжаешь быть чужой даже самой себе. Это значит не просто отдаляться от своей жизни – это значит не жить вовсе. Только выживать.
Путь домой – это не идеальный путь. Ты будешь спотыкаться, сомневаться, возвращаться к старым моделям. Но каждый раз, выбирая себя – даже в малом, даже на минуту – ты укрепляешь фундамент, на котором строится твоя новая жизнь. Жизнь, в которой ты не оправдываешься, не заслуживаешь, не объясняешь – ты просто есть. Такая, какая есть. И этого достаточно.
Я не могу пройти этот путь за тебя. Но я могу идти рядом. Словом, голосом, примером. Глава за главой, история за историей, шаг за шагом. Потому что ты не одна. Потому что ты имеешь право быть собой. Потому что ты нужна – настоящая, живая, чувствующая. Не потому что ты полезна. А потому что ты есть.
Так что если ты держишь в руках эту книгу – ты уже начала. Ты уже сделала первый шаг. Пусть он будет не последним. Пусть он станет началом большого, честного, своего возвращения.
Ты уже идёшь домой. К себе.
Глава 1: «Я устала»
Усталость, о которой пойдёт речь, не проходит после чашки кофе, выходного дня или отпуска на море. Это не про физическое утомление и не про нехватку сна, хотя и то, и другое может быть спутниками. Эта усталость живёт где-то глубже, в тканях души, в складках памяти, в голосе, который ты больше не слышишь, потому что он слишком долго говорил в пустоту. Это та усталость, которую невозможно объяснить словами, но которая живёт в теле, в сутулых плечах, в беспричинных слезах, в ощущении, что ты каждый день как будто переносишь по горам тяжёлый рюкзак, набитый чужими ожиданиями, и не имеешь права его снять.
«Я устала» – это не просто фраза, которую женщина говорит в конце дня, разуваясь у входа. Это крик, который копился годами. Он может быть произнесён с улыбкой, сквозь сжатые губы, в полуобморочном состоянии или вообще не быть сказанным вслух. Но он живёт внутри, тихо точит душу, и однажды ты просыпаешься утром с тяжестью в груди, и понимаешь: ты не можешь больше так. Не потому, что слабая. А потому что невозможно вечно быть сильной для всех и при этом исчезать для самой себя.
Когда-то давно одна женщина сказала мне, что её усталость началась в тот день, когда она перестала задавать себе вопрос: «А как я себя чувствую?». Это был не громкий переломный момент, не катастрофа, не трагедия. Это был незаметный поворот, как будто кто-то тихо повернул руль её жизни в сторону чужих нужд, и она, не заметив, поехала по этой дороге. Всё началось с маленького компромисса – остаться на работе допоздна, чтобы помочь коллеге. Потом – отменить встречу с подругой, чтобы съездить к маме. Потом – отложить отпуск, потому что мужу неудобно. Потом – отказаться от обучения, потому что ребёнку нужна поддержка. И вот однажды она стояла на кухне, смотрела, как варится суп, и поняла, что не помнит, когда в последний раз делала что-то по-настоящему для себя.
Мы живём в обществе, где женщинам с раннего возраста внушают, что их ценность – в заботе. Что быть нужной – это честь. Что отдавать – это благородно. Что молчать о своих потребностях – это скромность. И вот она – взрослая, самостоятельная, ответственная – тащит на себе всё, что положили: детей, дом, родителей, коллег, партнёров. Она даже не замечает, что уже не дышит, потому что у неё нет на это времени. У неё нет времени на боль. На страх. На одиночество. У неё нет времени на себя. А потом вдруг наступает день, когда тело начинает кричать: бессонницей, скачками давления, слезами без повода, паническими атаками. Или просто тишиной внутри, в которой исчезла даже надежда на облегчение.
В какой-то момент ты понимаешь: быть нужной – это ловушка. Потому что ты кормишь эту нужность, как хищника, который требует всё больше. Чем больше ты отдаёшь, тем сильнее ощущаешь вину за то, что у тебя тоже есть предел. Ты стыдишься своей усталости. Ты сравниваешь себя с другими: «У неё трое детей и бизнес, и ничего, улыбается». Ты боишься, что если скажешь: «Я устала», тебя сочтут неблагодарной. Или слабой. Или эгоисткой. Но правда в том, что эта усталость – не слабость. Это сигнал. Это стоп. Это шанс что-то поменять, пока ты ещё можешь.
Я помню женщину, которая каждый день вставала в шесть утра, готовила завтрак, собирала детей, ехала через весь город, чтобы быть на совещании к девяти. Она возвращалась вечером, помогала с уроками, мыла полы, раскладывала одежду, отвечала на сообщения. Когда все засыпали, она садилась на край кровати и смотрела в одну точку. Её глаза были пустыми, как будто она исчезла. А однажды, когда она резко встала, чтобы выключить чайник, её сердце дало сбой. Она упала. И, лежа на кухне, думала не о себе. Она думала, что теперь уж точно не успеет проверить тетрадь сына. Вот она – цена этой нужности. Вот она – граница, которую никто не заметил. Даже она сама.
Женская усталость – это не только про физику. Это про то, что десятилетиями нас учили быть фоном. Быть стеной, опорой, ресурсом. Но никто не учил, как быть человеком. Как быть собой. Как слышать и уважать себя. Как не стираться в роль, в функцию, в обязательство. Эта книга начинается с признания: «Я устала», потому что это – честно. Потому что только из этой точки – точки боли, точки правды, точки отказа от иллюзий – может начаться что-то настоящее. Настоящее восстановление. Настоящая любовь. Настоящая жизнь.
Ты имеешь право быть уставшей. Ты имеешь право останавливаться. Имеешь право не тащить. Не спасать. Не быть идеальной. Твоя ценность – не в том, сколько ты выдержала. А в том, что ты есть. Целая, живая, чувствующая. С усталостью. С болью. С желаниями. С правом на отдых. С правом сказать: «Хватит».
Иногда самый важный шаг – это не рывок вперёд. Это пауза. Глубокая, честная, неловкая пауза, в которой ты впервые задаёшь себе вопрос: «А как я на самом деле?» И слушаешь. Без фильтров. Без стыда. Без привычки прятать. Потому что именно в этом вопросе рождается путь назад. К себе. И именно там ты начнёшь возвращаться. Не ради кого-то. Ради себя.
Ты устала. Это не диагноз. Это правда. И это начало.
Глава 2: «Роль хорошей девочки: сценарий, который не работает»
Она училась молчать раньше, чем говорить. Её учили не шуметь, не перебивать, не лезть со своим мнением, уступать, быть послушной, быть «удобной», не злиться, не спорить. Учили, что если она будет хорошей, её будут любить. Что быть хорошей – значит быть правильной, полезной, нужной. И она старалась. Изо всех сил. День за днём, год за годом. Она изучала реакцию взрослых, подстраивалась под их настроение, угадывала желания до того, как их озвучат. Она знала, когда лучше замолчать, когда улыбнуться, когда обнять, когда уйти. Она быстро поняла, что если будет вести себя «правильно», её не накажут, не отвергнут, не оставят одну. И это было самое главное – быть не одной.
Роль хорошей девочки – это не просто поведение. Это выживание. Это способ остаться в системе, где тебя будут любить за то, что ты «удобная», а не за то, какая ты на самом деле. Это маска, которую она примерила в три, в пять, в семь лет и так и не сняла, потому что слишком крепко она срослась с кожей. Эта девочка выросла. Она стала женщиной. Вежливой, отзывчивой, бесконечно терпеливой. Она слушает, помогает, соглашается, поддерживает, улыбается даже тогда, когда внутри всё сжимается от боли и злости. Она говорит «ничего страшного», когда её обидели. Она говорит «ладно, неважно», когда её снова забыли. Она говорит «главное, чтобы всем было хорошо», когда сама уже не помнит, когда ей самой было хоть немного хорошо.
Угождение – это не выбор. Это инстинкт, встроенный с детства. Девочку учат, что злиться – плохо, обижаться – некрасиво, спорить – стыдно. Что настоящая любовь – это когда ты не думаешь о себе. И она старается. До изнеможения. Но рано или поздно наступает момент, когда в этой хорошести становится тесно. Как будто живёшь в чужом пальто: снаружи всё в порядке, но внутри – не дышится. Эта женщина приходит домой и чувствует, что больше не знает, кто она. Все видят её как сильную, добрую, спокойную. А она внутри – уставшая, обесточенная, пустая. Потому что вся энергия ушла на то, чтобы быть хорошей. Не быть собой – а быть такой, какой ждут.
Однажды ко мне пришла женщина. Ей было под сорок. У неё была семья, работа, успех. И внутренняя пустота. Она говорила: «Я всегда старалась делать всё правильно. Была хорошей дочерью – помогала, когда мама болела, жила по её правилам. Была хорошей женой – прощала, терпела, поддерживала. Была хорошей сотрудницей – не жаловалась, работала допоздна, брала сверхурочные. А теперь… я больше не знаю, зачем всё это. Я не знаю, кто я, если я не нужна». Её лицо дрожало, когда она это говорила. Потому что в этих словах была боль утраты. Потери себя. За все эти годы она так старалась быть нужной, что полностью отдала себя другим. И в этой нужности её не было.
Когда тебя с детства учат быть «хорошей девочкой», ты учишься прятать свои чувства. Ты учишься, что твоя злость – это угроза любви. Что твоя усталость – это слабость. Что твои желания – это капризы. Ты учишься отказываться от себя, чтобы не потерять других. Но эта сделка всегда заканчивается одинаково: ты остаёшься одна. Потому что чем больше ты угождаешь, тем меньше ты собой являешься. И в какой-то момент перестаёшь быть собой вообще.
Есть женщины, которые не знают, что им нравится. Они не могут выбрать, что поесть, что надеть, куда пойти – не потому, что глупы или безвольны, а потому что десятилетиями тренировались подавлять своё «хочу». Потому что любое собственное желание сначала проходило через фильтр «а можно ли?», «а не будет ли кому-то неудобно?», «а правильно ли это?». И в итоге единственный критерий выбора остался – «так будет лучше для всех». Только не для неё.
Хорошая девочка внутри каждой женщины – это испуганная девочка. Она боится, что, если станет собой, её перестанут любить. Она боится сказать «нет». Боится разочаровать. Боится быть отвергнутой. И эта боль – не каприз. Это глубокая травма, наследие поколений женщин, которые выживали через угождение. Через молчание. Через самопожертвование. И теперь мы пожинаем плоды: эмоциональное выгорание, депрессии, тревожные расстройства, одиночество даже в отношениях.
Однажды я была свидетельницей сцены в кафе. Женщина с ребёнком. Мальчик лет пяти. Он говорит: «Мама, я хочу вон то пирожное». Она отвечает: «Нельзя. Ты уже ел». Он: «Но я хочу». Она: «Надо быть хорошим мальчиком. Хорошие мальчики не капризничают». И он замолкает. Опускает голову. Тихо говорит: «Я больше не хочу». Я смотрела на него и понимала: вот так и происходит это предательство себя. Сначала ты хочешь. Потом тебя стыдят за это. Потом ты отказываешься от желания. Потом от себя. А потом становишься взрослым, который уже не чувствует, чего хочет, потому что давно убедил себя, что желания – это плохо.
Быть «хорошей» часто значит – быть удобной. А удобство всегда означает, что ты сгибаешься, подстраиваешься, замолкаешь, чтобы никому не было неудобно. Но разве это – любовь? Разве любовь требует, чтобы ты перестала быть собой? Настоящая любовь начинается с принятия. А принятие невозможно без правды. А правда невозможна, если ты всё время врёшь – себе, другим, миру – что тебе хорошо, когда на самом деле тебе плохо.
Ты не обязана быть хорошей. Ты имеешь право быть живой. Со злостью. С болью. С протестом. С усталостью. С «нет». Ты имеешь право быть собой – не потому, что это заслужено, а потому, что ты есть. Хватит предавать себя ради мира, который не замечает твоего молчаливого отказа от жизни. Настоящая ты не требует одобрения. Она требует присутствия. И ты можешь это дать – себе. Начни с малого: услышь себя. Пусть этот голос будет сначала тихим, неуверенным, испуганным. Это всё равно ты. И она – живая, настоящая – ждет, когда ты наконец перестанешь быть хорошей и станешь собой.
Глава 3: «Когда любовь – это обязанность»
Есть один тип усталости, который почти невозможно распознать, потому что он не кричит и не ломает тебя одномоментно, а вплетается в повседневность как нечто естественное, как часть быта, привычки, «женского долга». Это не та усталость, что приходит после бессонной ночи или тяжёлого разговора. Это нечто другое – туманная, вязкая тяжесть, которая оседает внутри, когда любовь перестаёт быть выбором и становится обязанностью. Когда ты уже не чувствуешь, хочешь ли обнять, приласкать, поддержать, потому что давно живёшь в режиме «надо». Это «надо» тихо и терпеливо формирует твой день, твои отношения, твой голос, твои границы – и с каждым годом ты превращаешься не в женщину, не в живого человека, а в функцию. Ту, что заботится, угадывает, спасает, отдаёт, молчит, держит и не падает.
Я знаю одну женщину, которую все считали идеальной матерью. Она не пропускала родительские собрания, не позволяла детям есть фастфуд, водила их на кружки, читала им перед сном, знала всех учителей по именам. У неё была выверенная система поощрений и наказаний, ежедневные семейные ужины и даже правило выключать телефоны во время общения. Со стороны – образец. Но однажды она призналась мне: «Иногда я просто смотрю на них и не чувствую ничего. Не потому, что не люблю. А потому что так устала быть нужной, что во мне не осталось пространства для любви. Только автоматизм. Только “ещё немного, ещё один день, потерпи”». И в этих словах не было жалобы. Только боль – оттого, что она перестала быть живым участником своей жизни и стала её исполнителем.
Женщина, чья любовь превратилась в обязанность, – это женщина, которая живёт по расписанию. У неё есть чёткие роли: жена, мать, дочь, коллега, подруга. В каждой из них – функции, задачи, регламенты. Она знает, как правильно вести себя в каждой ситуации, когда говорить, когда молчать, когда гладить по голове, а когда строго смотреть. Она может утешать, когда внутри хочет кричать. Молчать, когда душит обида. Терпеть, когда давно прошла точка боли. И делать всё это с видом уверенного спокойствия, потому что научена: её чувства – не приоритет. Главное – держать всех остальных в порядке.
В детстве ей часто говорили: «Ты старшая, уступи». Или: «Мама устала, не нервируй её». Или: «Ты девочка, ты должна быть доброй». Эти фразы не казались злыми. Это была забота – так говорили взрослые. Но каждый раз, когда её чувства откладывались на потом, в ней закреплялось убеждение: чтобы быть любимой, нужно быть удобной. И вот уже, став взрослой, она не может не заботиться. Это стало её идентичностью. Её основной моделью быть в мире.
Я наблюдала за одной женщиной, которая всю жизнь жила ради других. Она отложила свою мечту поступить в университет, потому что нужно было сидеть с младшими братьями. Она вышла замуж за человека, которого не любила, потому что «так будет правильно» и «он хороший». Она рожала, работала, жила, отдавая всего себя. А когда ей исполнилось пятьдесят, она села напротив своей подруги и спросила: «А когда уже я?» И её голос дрожал, не от страха – от пустоты. Она не знала, что ответить на этот вопрос. Потому что «я» никогда не было частью её уравнения. Она жила в режиме постоянной внутренней мобилизации – быть опорой, ресурсом, источником. И даже когда никто уже ничего не требовал, она продолжала выполнять. По инерции. Из страха, что если остановится, её не станет.
Любовь, которая превращается в обязанность, перестаёт быть тёплой. Она становится тяжёлой. Она начинает давить. Не только на того, кто её даёт, но и на того, кто её получает. Дети чувствуют это – когда мама рядом, но не с ними. Партнёр чувствует – когда за заботой нет взгляда, нет прикосновения. Родители чувствуют – когда в голосе дочери звучит доля усталости, пусть и прикрытая улыбкой. И самое страшное – сама женщина чувствует, что внутри уже давно не горит, а тлеет. Что там, где раньше было желание обнять, появилась привычка. Там, где был интерес, осталась необходимость. Там, где было «хочу», теперь одно «должна».
И вот в этой точке наступает не озарение, а глубокое сомнение: а могу ли я по-другому? Ведь быть нужной – это вся моя суть. Без этого кто я? Женщина, которая жила не ради, а вместе. Не из долга, а из чувства. Не для кого-то, а с собой. Такой я не знаю. Такая – пугает. Потому что она может сказать «нет». Может захотеть для себя. Может устать, остановиться, потребовать, отойти. А если я не подойду вовремя, не спрошу, не предложу – что будет со мной?
Многие женщины не позволяют себе свободу, потому что их научили: их любовь – это фундамент. Что, если они хоть на секунду перестанут держать этот дом – он рухнет. Но правда в том, что любовь не требует жертв. Она требует присутствия. Честности. Эмоциональной включённости. Любовь не должна быть доказательством. Она не измеряется степенью твоей усталости. Если ты любишь – это видно. Если ты выживаешь – это чувствуется.
Когда женщина живёт в режиме спасателя, она не замечает, как становится заложницей. Она убеждена, что если перестанет помогать, рядом всё развалится. И она продолжает спасать – детей, мужа, родителей, подруг, коллег. Хотя иногда единственный человек, который нуждается в спасении – это она сама. Её сердце, её тело, её душа, которые уже не выдерживают бремени постоянной отдачи без возможности наполнения.
Я вспоминаю женщину, которая пришла на терапию, потому что больше не могла спать. Ночью она лежала с открытыми глазами и думала: «А вдруг я что-то упустила?». Её день был расписан по минутам. Она помогала дочери с проектами, водила сына на тренировки, готовила мужу ужин, ухаживала за мамой. Её телефон не умолкал. Она боялась пропустить хоть один сигнал: вдруг кто-то нуждается. А потом начались приступы паники. И она впервые в жизни задала себе вопрос: «А кто позаботится обо мне?» Ответа не было. Потому что никто. Потому что она сама годами убеждала всех, что справится. Что не нужно беспокоиться. Что у неё всё под контролем.
И вот в этой тишине, посреди ночи, когда никто не требовал и не звал, когда дом был тих и мирен, она заплакала. Не от боли. От признания: она больше не может. Она не хочет быть функцией. Она хочет быть человеком. Она хочет любви – не за то, что она делает, а за то, кто она есть.
Любовь, которую ты отдаёшь другим, должна быть тем же, что ты готова дать себе. Если ты отдаёшь, истощаясь – это не любовь, это долг. Если ты заботишься, теряя контакт с собой – это не любовь, это выживание. Если ты жертвуешь собой, надеясь, что кто-то оценит – это не любовь, это торговля. И она всегда ведёт к обиде, к опустошению, к горечи. Потому что когда ты отдаёшь не из полноты, а из страха быть ненужной – ты предаёшь себя. А ничто не истощает женщину так сильно, как ежедневное предательство самой себя.
Ты имеешь право заботиться – но не в ущерб. Ты имеешь право любить – но не за счёт себя. Ты имеешь право быть нужной – но не растворённой. Ты имеешь право выбирать, когда, сколько и кому отдавать. Потому что настоящая любовь не измеряется в количестве принесённых жертв. Она живёт в свободе. В честности. В возможности сказать: «Сейчас я не могу». И услышать в ответ: «Я понимаю».
Женщина, которая любит, потому что должна, – исчезает. Женщина, которая любит, потому что чувствует, – становится. И ты можешь выбрать. Не сразу. Не резко. Но шаг за шагом – вернуться туда, где любовь снова будет выбором. Живым, настоящим, тёплым. Начни с себя. Потому что именно тебе она нужна больше всего.
Глава 4: «Стыд за свои желания»
Женщины редко учатся желать открыто. Их желания, как правило, живут в тени – между заботой о других и обязательствами, между нужно и должно. Они прячутся в глубине души, как маленькие огоньки, которые когда-то горели ярко, но были задувлены чужими правилами, стыдом и страхом показаться ненужной, жадной или эгоистичной. Желания, которые не просто не поощрялись, а нередко обесценивались или высмеивались, заставляют женщину выстраивать жизнь вокруг компромиссов, оправданий и постоянного внутреннего конфликта между тем, что она действительно хочет, и тем, что «прилично».
Женщина, наученная чувствовать стыд за свои желания, рано начинает понимать: просить – это опасно, а хотеть – неудобно. Она помнит, как в детстве ей говорили, что хорошая девочка не требует. Что «надо быть скромной», «не зазнаваться», «не выпендриваться». Она помнит, как, сказав однажды, что хочет красивое платье, услышала раздражённое: «У нас нет на это денег» – и сразу почувствовала вину, как будто совершила преступление. Не потому, что была плохой. А потому, что кто-то рядом был уставший, обиженный, несправедливый. И она поняла: её желания – это нагрузка для других. И лучше их спрятать.
Это прятанье становится привычкой, частью характера. Она растёт, становится взрослой, но в голове продолжает звучать те же голоса: «это слишком», «ты не заслужила», «что скажут люди», «не высовывайся». И теперь, даже когда она мечтает о новой работе, о путешествии, о своём доме, о тишине, о времени для себя – у неё внутри как будто автоматически включается внутренний судья, который строго смотрит в глаза и спрашивает: «А ты уверена, что имеешь на это право?». И вот она уже снова откладывает свои мечты, уговаривает себя, что сейчас «не время», что сначала надо разобраться с детьми, с родителями, с делами, с долгами, а потом – потом, может быть… если останется сила, если позволит жизнь.