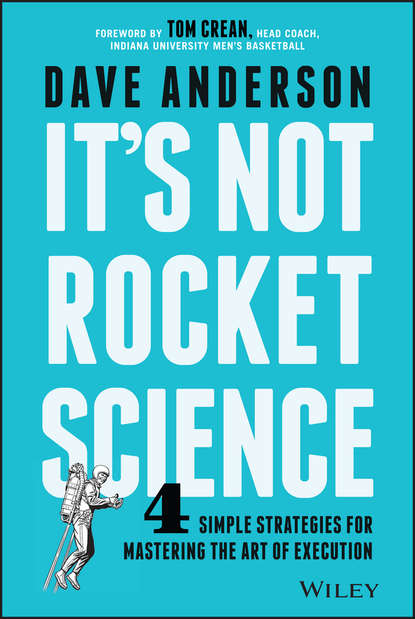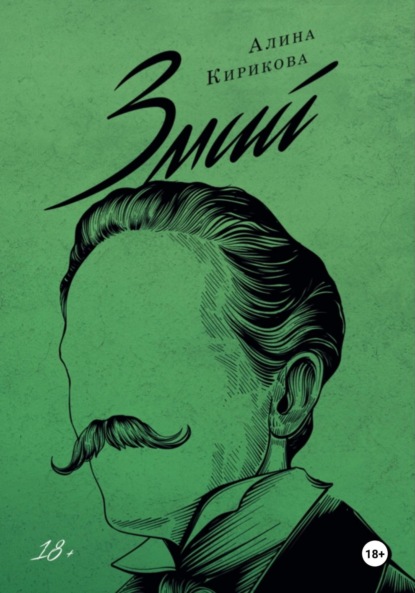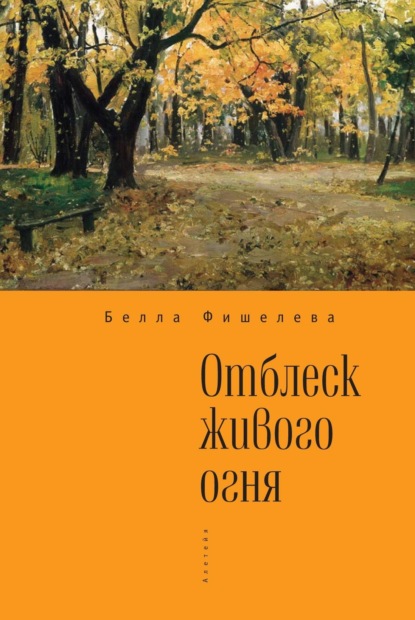Ставропольский протокол: Новый путь
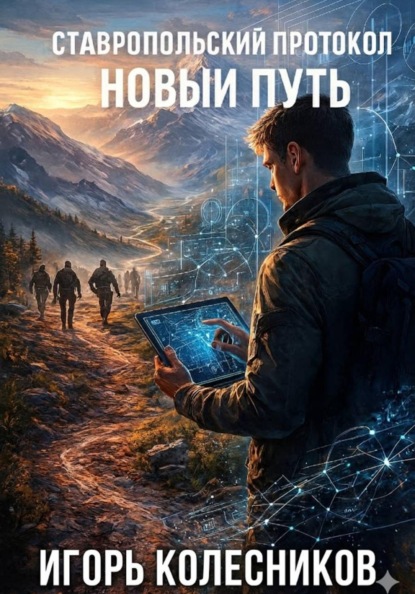
- -
- 100%
- +

Глава 1 Сила
Этап 1: Пролог. Две реальности одного города
Воздух на окраине Кисловодска пах иначе, чем в центре. Не целебной смесью хвои, нарзана и дорогих духов курортниц, а пылью просёлочных дорог, едким дымом от сжигаемого бытового мусора и сладковато-горьковатым запахом перебродивших яблок из заброшенных садов частного сектора. Пятиэтажки-хрущёвки, выкрашенные в блёклые, выцветшие на солнце цвета, стояли, как уставшие солдаты, выстроившиеся в немую оборону против наступающих предгорий Кавказа.
Этап 2: Начало. Рождение и крепость
Именно в одной из таких квартир на четвертом этаже, с окнами, смотрящими не на Эльбрус, а на гаражи-ракушки, и началась моя история. Это случилось 23 февраля 2000 года, в День защитника Отечества. Пока вся страна по инерции чествовала мужчин, мой отец, вчерашний лейтенант, а ныне – грузчик, с затаённым волнением ждал в коридоре роддома. Его отечество сузилось до размеров родового зала, а главным стратегическим объектом стал крик новорождённого сына.
Меня, Игоря, принесли в эту хрущёвку, которая пахла свежей побелкой, дешёвым пластиком и надеждой. Это был их плацдарм, территория, отвоёванная у обстоятельств, скандальной родни и злых языков. Крепость, которую они защищали вдвоём.
Этап 3: Две семьи – два мира
Мир матери: Хуторская идиллия с тревожной изнанкой.
Если городская жизнь была крепостью, то выезды на хутор к маминым родным – самой долгожданной и безмятежной амнистией. Дорога казалась путешествием в другой мир: городская пыль сменялась терпким ароматом полыни и нагретой за день солнцем земли. «Жигули» отца лихо подпрыгивали на ухабах грунтовки, а я, прилипнув к стеклу, ловил глазами мелькающие силуэты коров и покосившихся заборов.
Дом бабушки Арины и деда Николая стоял в конце улицы, упираясь огороженным участком в бескрайнее поле. Это было низкое, приземистое строение под рыжей черепичной крышей. Бабушка Арина была его сердцем – крупная, мягкая, её объятия пахли свежим хлебом и абсолютной безопасностью. Рядом с ней всегда крутилась, как тень, моя тихая, застенчивая тётя Мария, вся нерастраченная нежность которой переливалась на меня и на бесконечную вышивку, покрывавшую скатерти и подушки причудливыми узорами.
А потом был дед Николай. Высокий, сухопарый, с пронзительными голубыми глазами, которые в трезвом состоянии смотрели куда-то внутрь себя, а в пьяном – стекленели. Его возвращения с поля или из магазинчика были подобны надвигающейся грозе. Сначала – гулкий шаг в сенях, скрип двери, а затем – натягивавшаяся, как струна, тишина. И вот она, первая нота грома: грубый окрик, придирка, за которыми мог последовать грохот опрокидываемого стула и сдержанные всхлипывания бабушки. Моё детство проходило мимо этих мгновений, а вот моей маме в её годы здорово доставалось, как и бабушке – всю жизнь вместе с тётей. Утром дед был другим – тихим, виноватым, он молча пил крепчайший чай и уходил, оставляя после себя тяжёлый запах перегара и стыда. Цикл повторялся, составляя тёмную, тревожную изнанку хуторской идиллии.
Мир отца: Ядовитое гнездо.
Но если история со стороны матери была тревожной, то со стороны отца – откровенно ядовитой. Она пахла не перегаром, а дешёвым парфюмом и ложью, а её олицетворением была моя бабушка по отцу, Людмила.
Отец редко говорил о своём прошлом. Его отец, дед Иван, прошедший Афганистан, был человеком с изломанной судьбой, чья армейская закалка смешалась с фронтовой травмой, находившей выход в запоях. Но в светлые промежутки он для сына был почти героем. Людмила же была его полной противоположностью: ухоженная, с холодными, оценивающими глазами, она жила в мире сплетен и постоянного поиска выгоды. После скоропостижной смерти деда Ивана в 1995-м её истинная натура расцвела пышным цветом. Под предлогом помощи младшей дочери, моей тёте Ирине, которой для учёбы нужно было временно переехать в Ставрополь, Людмила развернула настоящую кампанию. Слёзы, упрёки, манипуляции – всё привело к тому, что отец, раздавленный чувством вины, подписал бумаги и уступил одну из трёх унаследованных квартир. Этот акт семейного предательства разом отрезал его от части его прошлого и будущего.
Этап 4: Встреча родителей и начало войны
То были лихие 90-е. Отец, вчерашний офицер, оказался никому не нужным. Чтобы выжить, он стал уличным фотографом в Кисловодске. Это было унизительно: уговаривать сфотографироваться важных курортников, ночами проявлять пленки в ванной и продавать воспоминания тем, у кого жизнь была лучше, светлее и беззаботнее.
Именно у колоннады он увидел её – мою маму. Молодую девушку с серьёзными глазами, приехавшую отдохнуть от рутины работы в Сбербанке. Он сфотографировал её тайком, а через неделю разыскал и принёс снимок. На нём она была удивительно живой, с мечтательным взглядом, устремлённым на заснеженные склоны Эльбруса. Так началась их история – двух людей, решивших построить будущее с чистого листа.
Когда отец привёл маму знакомить к Людмиле, та встретила их ледяным молчанием, вскоре переросшим в откровенную ненависть. Для Людмилы мама была невесткой из нищеты, а я – символом краха всех её планов. Травля началась мгновенно. Людмила и тётя Ира, которая ещё не уехала в Ставрополь, открыто называли маму «шлюхой», а меня в утробе – «выродком». Главным оружием были сплетни, которые Людмила мастерски сеяла среди соседей, и яд капал в уши исподтишка.
Этап 5: Предательство и стойкость
Затем Людмила нанесла удар ниже пояса. Используя свои связи, она добилась увольнения отца с его скромной должности уличного фотографа. Расчёт был простым и циничным: оставшись без средств, молодая семья будет вынуждена попрошайничать, а мама – униженно умолять её о помощи. Людмила была уверена, что поставит невестку на колени и та будет её вечной должницей, вынужденной обслуживать финансовые махинации и прихоти свекрови.
Но моя мама не поддалась. Вместо слез и просьб, она молча, с сухими глазами, отнесла в ломбард свою единственную ценность – золотые серьги, подаренные её покойной бабушкой, и на эти деньги они прожили с отцом целый месяц, пока он искал новую работу.
Ирония была в том, что эту новую работу – грузчика на заводе «Нарзан» – он нашёл сам, без чьей-либо протекции. Узнав об этом, Людмила впервые поняла, что просчиталась. Как-то вечером, пьяная, она приперлась к нам в комнату. Она стояла на пороге, шатаясь, и смотрела на маму не с ненавистью, а с тупым удивлением.
– Откуда ты такая свалилась? – просипела она, и в её голосе сквозь хмель пробивалось что-то похожее на уважение. – Ну откуда?
Мама ничего не ответила. Она молча закрыла дверь, повернув ключ в замке. Этот щелчок прозвучал громче любого крика.
Этап 6: Выбор и окончательный разрыв
Отец, разрываясь между женой и матерью, в конце концов сломался. Он слег с тяжелейшим неврозом. Три месяца мама была его ангелом-хранителем: ухаживала за ним, ходила на работу, терпела злые взгляды и шёпот за спиной. И именно её стойкость подняла его на ноги.
Но силы её были на исходе. В декрете мама пробыла не более полугода, затем вернулась на работу, к удивлению всех коллег. Вечерами она занималась со мной, а иногда тихо плакала, заглушая звуки подушкой. Отчаяние и понимание, что в этой войне не может быть компромисса, привели её к страшному, но единственному, как ей тогда казалось, выходу. Она поставила перед отцом жёсткий ультиматум: или эта бесконечная тирания со стороны его семьи, или другая жизнь – без него, а меня, в случае её неспособности одной поднять, она была готова отдать в детдом. Это была жестокая манипуляция от безысходности, крик души, в котором стоял железный, не допускающий возражений восклицательный знак.
Этот ультиматум подействовал как удар током. Он встал с постели другим человеком. Вышел во двор и, обращаясь к собравшимся соседям, холодно и четко разоблачил все манипуляции Людмилы, показав, что её ядовитые сплетни в любой момент могут обратиться против любого из них. Затем он повернулся к самой матери: «Ты перешла черту. С этого дня у меня другая жизнь, и ты в этой жизни мало имеешь на меня значение».
Они ушли из той жизни, купив самую среднюю квартиру на окраине города. Война оставила шрамы, главным из которых было горькое понимание, что они отныне абсолютно одни. Некоторое время отец, по доброте душевной, давал шанс матери и тёте с двоюродной сестрой, разрешая им приезжать, надеясь, что они изменятся. Но всё осталось по-прежнему. Ярким примером был случай, когда мне было пять лет: я поднял с земли пятирублёвую монету, а бабушка Людмила выхватила её у меня из рук, заявив, что эти деньги пойдут моей сестре «в счёт». Тогда я не понял, а просто кивнул, но позже, осмыслив это, испытал жгучую обиду и гнев.
Когда мне было семь лет, в один из их визитов, мама увела меня в комнату. Я чувствовал, что надвигается что-то важное. В тот день отец окончательно и бесповоротно высказал Людмиле всё, что о ней думает. После этого она больше не переступала порог нашего дома. Тётя с двоюродной сестрой тоже забыли к нам дорогу. Бабушка делала всё, чтобы не замечать наше существование.
Этап 7: Суровая жизнь и тихая победа
Их быт был суровым до крайности. Отец устроился грузчиком на завод ОАО «Нарзан». Его мир сузился до цеха, наполненного грохотом конвейеров и сладковато-минеральным запахом нарзана, въедавшимся в стены. Он работал на машине, которая загружала ящики с готовой продукцией в фуры и вагоны, включая специальные рейсы в аэропорт; кисловодский нарзан отправлялся и в страны Европы. Платили, к счастью, хорошо, хватало на минимальные потребности и даже на средние расходы. Но это была каторжная работа: ящики с бутылками нужно было хватать, разворачивать и ставить в кузов, формируя ровные, неустойчивые штабеля.
Я видел его после смены: он сидел на кухне, не в силах поднять руку, чтобы донести ложку до рта, его пальцы дрожали от перенапряжения, а от него самого пахло солью, едким потом и той самой минеральной водой, что въелась в кожу намертво. Он никогда не жаловался. Для него это была плата за наше спокойствие, кирпичики в стене, что ограждала нашу маленькую семью от внешнего хаоса.
Мама же сделала впечатляющую карьеру в банке: начав с операциониста и кассира, она дошла до заместителя руководителя филиала, а в 2008 году стала руководителем всего банка, когда её начальник перевелся в Москву. Тогда у нас впервые появилась мысль: а может быть, и нам тоже?
Этап 8: Эпилог. Горькая ирония и обретённый покой
В любом случае, родители справились, ирония судьбы была абсолютной. Тётя Ира, ради которой отец лишился квартиры, вскоре после моего рождения встретила человека, родила дочку (мою двоюродную сестру, которая родилась 31.12.1999, а записали как 01.01.2000) и уехала с ним в Ставрополь. Позже она развелась, и для Людмилы это стало окончательным приговором. Вся её любовь и все ресурсы были отданы внучке и дочери. Мы с отцом были для неё мертвы. Отец особо не говорил со мной на эту тему, но как-то раз горько усмехнулся: та квартира в конечном счёте стала платой за его свободу.
А у нас была своя жизнь. С тяжёлой работой, которую они несли вместе, и с редкими выездами на хутор, где пахло хлебом и добротой. И было тихо. Самое главное – было тихо. Никто не называл маму шлюхой. Никто не называл меня выродком. И за это спокойствие, за эту тишину, мой отец был готов таскать ящики с «Нарзаном» до конца своих дней. Он нашёл свою войну и свой способ её вести. Не на поле боя, а у грохочущего конвейера.
И он её выиграл.
Глава 2 Будущее
Если судьба моего отца была выкована в огне семейного предательства и закалена на грохочущем конвейере завода «Нарзан», то судьбы других мальчиков, родившихся в те же февральские дни на Ставрополье, складывались из иного металла, в иных горнилах. Они еще не знали друг друга, их пути лежали в разных направлениях, как лучи от одного солнца, но уже тогда, в самом начале нового тысячелетия, была в них та общая нота, которую диктовало время – время крушения опор и поиска новых.
Дмитрий Аристократов. Ставрополь. 25 февраля 2000 года.
Воздух в роддоме Ставрополя пахнет иначе, чем в Кисловодске. Здесь нет горьковатой свежести нарзана, смешанной с ароматом реликтовых сосен. Здесь пахнет стерильной чистотой, сладковатым молоком и простым, некурортным человеческим теплом.
Дмитрий Аристократов сделал свой первый вдох именно этим воздухом. И пока страна еще по инерции приходила в себя после недавних праздников – 25 Февраля, затем масленичной недели, – его мать, усталая и счастливая, смотрела на него глазами, в которых читалась не городская утонченность, а спокойная, земная сила. Его отец, Александр, еще пахнувший навозом с фермы – он мчался в город прямиком с дойки, не заезжая домой, – стоял в коридоре, сжимая в своих крупных, мозолистых руках букет простых, но ярких тюльпанов. Его отечество было не в броне танков и не в блеске парадных сабель, а в черноземе, в котором тонули колеса его трактора, в тепле боков дойных коров, в немудреном, но крепком хозяйстве, доставшемся от отца.
Их дом ждал в селе Надежда, что в сорока минутах езды от краевого центра. Не хрущевка на окраине, а собственный дом под шиферной крышей, с резными наличниками, покосившимися от времени, но выбеленными к его рождению заново. Дом, который пах не надеждой, как наша квартира, а совершенно другими, куда более основательными вещами: свежим сеном, хранящимся в сарае, парным молоком, томленой в печи говядиной и яблочной пастилой, которую бабушка сушила на русской печке.
Детство и юность Дмитрия были пропитаны этим запахом – запахом земли и большого, дружного клана. Семья Колесниковых была той самой редкой породой, где между поколениями не было войны. Дедушка Василий, еще крепкий, с руками, исколотыми щепками и прожилками медной проволоки, был для Димы не седым стариком, а главным волшебником. Он мог из обломка дерева выстругать лошадку, такую живую, что, казалось, вот-вот ржет, мог починить любой механизм, от советского телевизора до нового китайского мопеда, одним лишь прикосновением и ворчанием: «Эх, железяка…».
Бабушка Галина, в прошлом – зоотехник, а ныне – бессменный командир кухни и огорода, была генералом в юбке. Ее слово было законом и для скотины, и для детей, и для самого Александра. Но законом справедливым. Ее объятия пахли дрожжевым тестом, укропом и какой-то непоколебимой, вековой уверенностью в завтрашнем дне. Она не боялась ни бандитов лихих девяностых, ни засух, ни падежа скота. «Выживем, – говаривала она, закатывая на зиму огурцы. – Земля-матушка всех прокормит. Лишь бы руки росли откуда надо, да голова на плечах была».
Их мир был цельным. Простым и сложным одновременно. В пять лет Дмитрий уже знал, как правильно держать ягненка, чтобы его напоить из соски. В семь – управлялся с трактором «Беларус», сидя на коленях у отца. В десять – сам мог запрячь лошадь. Его жизнь была подчинена ритму природы: подъем затемно, чтобы успеть на утреннюю дойку; школа; потом – помощь по хозяйству; уроки при свете керосиновой лампы, если вдруг ветром рвало провода; и глубокий, безмятежный сон под перешептывание родителей на кухне и треск поленьев в печи.
Они не были богачами. Деньги были тугими, техника – вечно ломающейся, а урожай – непредсказуемым. Но у них было главное – единство. Они были крепким сплетением корней, уходящих глубоко в свой клочок земли. Их защищали не стены квартиры, а просторы полей, верность сторожевых псов да надежность соседей, таких же, как они, крепких хозяев. Дима рос с чувством, что он – часть чего-то большого и прочного. Его будущее виделось ему не в отрыве от этого мира, а в его продолжении. Он видел себя на месте отца, его сын – на его месте. Это была не линия, а круг. Вечный и надежный.
Артем Казаков. Кисловодск – Буденновск. 23 февраля 2000 года.
В тот самый день, когда Игорь появился на свет в кисловодском роддоме, в соседнем предродовом зале кричал другой мальчик – Артем Казаков. Наша судьба распорядилась так, что мы разминулись на несколько часов, и наши семьи никогда не пересеклись в той жизни.
Его отец, Сергей Казаков, не ждал в коридоре, как мой. Он был рядом с женой, держал ее за руку. Его ладонь была испачкана машинным маслом – он только что закончил срочный ремонт своего старого «Москвича», на котором они едва успели доехать до больницы. Сергей был инженером на небольшом заводе в Кисловодске, что производил запчасти для сельхозтехники. Завод дышал на ладан, но Сергей верил, что его знания, его чертежи спасут предприятие. Он был из породы романтиков-технарей, для которых главным был не заработок, а красота инженерной мысли.
Мать Артема, Елена, была бухгалтером. Точной, педантичной, она вела домашнюю бухгалтерию так же скрупулезно, как и заводскую. Они были сиротами. Оба. Сергей вырос в детском доме в Невинномысске, Елена – в интернате в Минеральных Водах. Они нашли друг друга на студенческой стройке, и их союз был больше, чем любовью. Это был пакт о выживании. Двое против всего мира, у которых за спиной не было никого, кроме друг друга.
Их квартирка в Кисловодске была крошечной, но уютной. Она пахла паяльной кислотой, свежей стружкой и конторскими книгами. Их мир был миром цифр, схем и тихой, взаимной поддержки. Они не ждали помощи и не искали ее. Они были своей собственной крепостью.
Но через месяц после рождения Артема грянул гром. Завод, на котором работал Сергей, окончательно остановился. Инженерам перестали платить зарплату. Вариантов не было. После недели мучительных раздумий, просчитывая каждый рубль, Елена нашла вакансию главного бухгалтера на нефтеперерабатывающем заводе в Буденновске. Сергей, стиснув зубы, согласился. Для него это было поражением. Бегством.
Их переезд в Буденновск был не похож на наши поездки на хутор. Это было не путешествие в идиллию, а бегство в неизвестность. «Москвич», нагруженный до потолка скрипучими коробками с книгами, инструментами и детскими вещами, пыхтел по дороге, увозя их от предгорий Кавказа на плоскую, продуваемую всеми ветрами равнину.
Новая жизнь началась в общежитии при заводе. Комнатка в «гостинке», общий туалет на этаже, запах дешевой туалетной воды, жареного лука и тоски. Для Сергея, привыкшего к чистоте и порядку Елены, это было пыткой. Он не мог найти работу инженера. Его знания были никому не нужны в городе, живущем нефтью и газом. Месяц он ходил по собеседованиям, и каждый вечер возвращался домой все более сломленным и молчаливым.
Однажды вечером Артем проснулся от громкого спора. Родители ссорились редко, но на этот раз голоса были сдавленными, полными отчаяния.
– Я пойду, Лена! – почти кричал Сергей, но шепотом, чтобы не разбудить сына. – Кончились деньги! Ты одна нас тянуть не можешь!
– Куда? Слесарем в цех? Ты инженер! – плакала Елена.
– Я – никто! – прозвучал страшный, окончательный приговор самому себе.
На следующее утро Сергей устроился слесарем-ремонтником на тот же нефтеперерабатывающий завод, где работала Елена. Его мир, который он выстраивал из точных расчетов и красоты механизмов, рухнул. Теперь он пах сероводородом, горелой соляркой и унижением. Его руки, умевшие создавать тончайшие детали, теперь оттирали от мазута грубой пастой, которая разъедала кожу до крови.
Артем рос в этом запахе. Он был тихим, замкнутым мальчиком. Его не окружала большая семья, как Дмитрия. Его миром были мать, целыми днями пропадающая на работе, и отец, который возвращался домой усталый, чуждый, и молча, уставившись в стену, пил чай. Они по-прежнему были друг у друга, но их крепость дала трещину. Общая беда не сплотила их, а лишь подчеркнула их одиночество. Они были двумя кораблями в бушующем море, стараясь идти рядом, но каждый капитан был сам за себя.
Будущее для Артема виделось туманным и тревожным. Он не хотел быть инженером, как отец, – эта профессия ассоциировалась с поражением. Он не хотел быть бухгалтером, как мать, – это было скучно и тоскливо. Он искал свой путь, свой побег. Часто он забирался на крышу общежития и смотрел на огни завода, на клубы пара и дыма, за которыми уже не было видно гор. Он мечтал уехать. Далеко. Туда, где воздух не пахнет нефтью, а пахнет свободой.
Виктор Громов. Невинномысск. 27 февраля 2000 года.
Три дня спустя, в Невинномысске, в городке химиков и промышленных гигантов, родился Виктор Громов. Его появление на свет было омрачено трагедией. Мать, которую он никогда не увидит, умерла от внезапно начавшегося кровотечения через несколько часов после родов.
Его первый крик был встречен не слезами радости, а гробовым, шокированным молчанием персонала и оглушительным, животным воплем отчаяния его отца, Алексея. Для Алексея Громова, сильного, молчаливого электрика с завода «Азот», мир в одночасье перестал существовать. Его отечество, его вселенная, его маленькая хрупкая жена Катя – все рухнуло, оставив после себя лишь хрупкий, пищащий комочек жизни, который он в тот момент ненавидел всем сердцем. Этот комочек забрал у него самое дорогое.
Алексей взял опеку над сыном. Взял с тем же упрямством и молчаливой яростью, с которой чинил самые сложные проекты на заводе. Это была не родительская любовь, а суровая, железная обязанность. Вызов, брошенный ему судьбой. И он был намерен его принять.
Он не пил. Не курил. Он просто работал и поднимал сына. Их квартира в панельной пятиэтажке была стерильно чистой, холодной и молчаливой, как казарма. Она пахла вареной картошкой, глаженным бельем и одиночеством. На стенах не было фотографий покойной матери – Алексей убрал их все в первый же день, вернувшись из роддома. Он не мог смотреть на ее улыбку. Он отсекал все, что могло напоминать о боли. И в первую очередь – женщин.
Он стал и матерью, и отцом для Виктора. Но какой матерью? Он кормил его строго по расписанию, пеленал с точностью автомата, гулял с ним в одно и то же время по одним и тем же улицам. Он не убаюкивал его колыбельными, а мог глухим, уставшим голосом рассказывать о схеме подключения электродвигателя. Любые попытки соседок, сердобольных старушек или одиноких коллег с завести помочь, принести пирожков, посидеть с ребенком, пресекались на корню. Жестко, грубо, почти по-звериному. «Мы справимся сами», – бубнил он, захлопывая дверь перед носом.
Виктор рос в этом вакууме. Его детство было лишено ласки, мягкости, нежности. Его мир состоял из сурового, но бесконечно надежного отца и тишины. Он не ведал, что с мамой. Вопрос «а где моя мама?» впервые прозвучал, когда ему было четыре года.
Алексей, застигнутый врасплох, побледнел. Он не знал, что сказать. Не мог вымолвить слово «умерла». Это было бы признанием слабости, крушения того мифа о полной самодостаточности, который он выстроил вокруг их маленькой семьи.
– Ее нет, – сухо ответил он, отворачиваясь к плите. – Нас только двое. Нам больше никто не нужен.
Это «нет» стало главной аксиомой жизни Виктора. Мамы нет. Женщины не нужны. Мир делится на «нас» – его и отца – и «их» – всех остальных, кто представляет потенциальную угрозу их хрупкому, отгороженному от всех миру.
Он рос крепким, молчаливым мальчиком. Он не умел улыбаться так же легко, как другие дети. Его улыбка была редкой и скупой, как солнечный луч в пасмурный день. Он был физически сильным, потому что отец с ранних лет приучал его к труду: забивать гвозди, чинить розетки, таскать мешки с картошкой из гаража. Его тактильным ощущением была не мягкость материнских рук, а шершавая, мозолистая ладонь отца и холодный металл инструментов.
Его будущее было предопределено. Он пойдет на «Азот», как отец. Станет электриком. Будет жить в этой же квартире. Он будет защищать их маленькое крепостное государство от внешнего мира, который когда-то отнял у них самое главное. Он не искал любви, потому что не знал, что это такое. Он искал точку опоры. И находил ее лишь в одном – в безусловной, пусть и суровой, преданности отца. Он был солдатом, воспитанным в окопе одной, единственной и страшной потери.
…
Три мальчика. Три разные судьбы. Три разных запаха, определявших их детство: для Дмитрия – запах земли и яблочной пастилы, для Артема – запах мазута и одиночества, для Виктора – запах стерильной чистоты и тоски.
Они еще не знали, что их пути неизбежно пересекутся. Что хлебная, патриархальная уверенность Дмитрия столкнется с тревожным бегством Артема. Что молчаливая, железная преданность Виктора будет искать выход и наткнется на стену непонимания.
Они не знали, что будущее, которое виделось им таким ясным и предопределенным, готовило для каждого свой сюрприз, свою войну. Им всем, как и моему отцу, придется найти свой способ ее вести. Кто-то – на земле, которая кормит. Кто-то – в бегстве от запаха мазута. Кто-то – в попытке вырваться из стерильного вакуума одиночества.