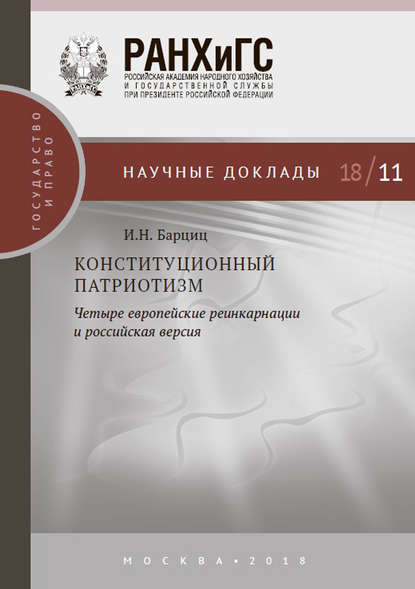Аудитор жизни. Пустые могилы. Полные архивы
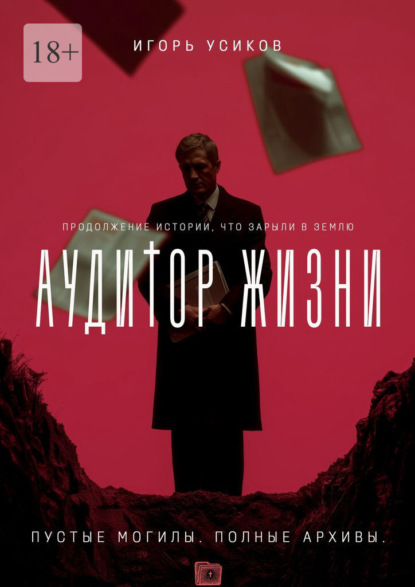
- -
- 100%
- +
Он не произнёс имени Тёплой. Но Аверин понял: на поле вышел новый игрок – чистый, канцелярский хищник, который оставляет вместо следов пустоту.
– Почему ты мне это рассказываешь? – спросил Аверин прямо.
Хирург снова посмотрел на фотографию на памятнике.
– Мать твоя… правильная была. Ты в неё. Мне почему-то кажется, что будущее – за такими, как ты, а не за такими, как Григорьев.
Слова упали просто, без патетики, как мокрый лист на гранит. Аверин ощутил короткое внутреннее замыкание – не эмоция, а щелчок механизма: обязан.
Хирург уловил это движение.
– Не просто так ведь здесь торчишь, бумаги копаешь, – сказал он тихо. – Долг? Или просто злость?
– Я ищу правду, – ответил Аверин. Голос был твёрд.
– Правду ищешь? – он выдержал паузу. – Её иногда прячут там, где огня боятся.
Хирург посмотрел прямо в глаза:
– На старом заводе… где кирпичи делали. Старая печь. Под левой стенкой. Там теперь Жора другое хранит. Порох. На весь город хватит, если рванёт.
Он развернулся и так же бесшумно, как появился, пошёл прочь – растворяясь в сером, безликом кладбищенском пейзаже. Не прощаясь. Не оглядываясь.
Аверин остался один у могилы. Ветер поднимал с дорожки сырые листья, шуршал в траве, будто шептал неразборчивые слова. «Порох» на кирпичном заводе. Старая печь. Под левой стенкой. Наводка – предельно точная, как разрез скальпелем. Почему? Зачем человек «понятий» предал бывшего партнёра?
Ответ прост, как надгробие: он давал возможность не просто отомстить, а навести порядок.
Аверин достал из внутреннего кармана тёмные перчатки – привычка, оставшаяся с тех времён, когда он учился касаться вещей, не оставляя следов. Надел. Провёл пальцами по верхнему краю памятника, будто заверял мать в серьёзности намерений.
– Мам, я аккуратно, – сказал он вполголоса, и фраза прозвучала странно детской. – Без шума. По правилам.
Он ещё раз перечитал взглядом короткую эпитафию – два слова, которые выбрал вместо длинной молитвы: «Была честной». Ничего больше не требовалось добавлять.
С тропинки донёсся мерный стук – копальщики катили пустую тачку. Вдалеке, у центральной аллеи, два агента ритуальной службы обсуждали что-то шёпотом, переглядываясь на ходу. Город затаился, но жизнь, как всегда, продолжала своё мелкое, заботливое хождение вокруг смерти.
Аверин обвёл могилу взглядом, уточнил приметы, чтобы вернуться безошибочно. Потом аккуратно поправил на фотографии уголок пластиковой рамки, в которую набился конденсат, – мелочь, но она всегда резала ему глаз. Поставил на место стеклянный стаканчик под свечу. Вынул из портфеля тонкую папку с копиями трёх старых актов кремации – те самые, на которых учился видеть подмену подписей, – и снова спрятал: привычный ритуал перед «выходом в поле».
Он мысленно разложил предстоящий вечер на шаги: проверить завод по периметру – камеры, сторожка, линия забора; оценить подходы к печам; подтвердить наличие тайника под левой стенкой; не трогать содержимое руками – только фото и метки; вернуться незаметным маршрутом. И всё это – прежде чем слух о «чужом» появится в нужных ушах.
Телефон в кармане едва ощутимо вибрировал – короткое служебное уведомление: «Архив: запросы по 212/105/341/88 – подтверждены». Он отключил всплывающее окно, не открывая приложений: не здесь.
– Будет закон, – сказал он матери, словно докладывал. – Или хотя бы порядок. Я обещаю.
Слова прозвучали буднично, но внутри стало легче. Он поднял воротник от сырого ветра и двинулся назад к главной аллее. По пути отметил свежую «ложку» – слишком ровный холмик, слишком новая фанера с фамилией, которую он уже встречал в старых книгах. Здесь тоже будет разговор – позже.
На выходе из сектора он оглянулся. Памятник стоял тихо, будто прислушивался к тому, что он задумал. Издалека донёсся гул – за трубой крематория ветер гонял дым, и тот ложился в низину, как серое покрывало. В этом покрывале всё ещё угадывались контуры города – упрямого, бедного, жадного до своих маленьких побед.
Юрий Аверин ускорил шаг. Его ожидала старая печь кирпичного завода – и правда, спрятанная там, где огня боятся.
Глава 3. Грязные счета
Мирон Болтян любил не шелест, а глухой, упругий хлопок власти – именно такой звук издавала толстая пачка пятитысячных купюр, когда её бросаешь на стол. В этом звуке была чистая, незамутнённая власть, реальная, осязаемая, пахнущая типографской краской, свежей бумагой и чужим, совершенно животным страхом, который сопровождал каждый рубль в этом городе. Он сидел в своей крохотной, похожей на кассу железнодорожного вокзала, каморке, затерянной в лабиринте административных построек Степного кладбища, и только что закончил пересчёт. Сумма сошлась до копейки. Шестьсот тридцать тысяч рублей. Плата за «эксклюзивное сервисное обслуживание» похорон некоего Виктора Сергеевича Пасюка, скоропостижно скончавшегося от инфаркта владельца сети продуктовых магазинов. Точнее, не за обслуживание, а за место. То самое, у старой часовни, которое ещё вчера было «ложкой», фальшивым холмиком с именем давно забытого человека.
Мирон разложил пачки веером на обшарпанном, покрытом царапинами столе. Ровные, хрустящие, почти нетронутые. Он был кассиром, винтиком в огромной машине, но винтиком важным. Через его руки проходил весь чёрный нал кладбища – ручеёк, который выше по течению превращался в полноводную реку. Он был калькулятором смерти. Цифры, в отличие от людей, не врали и всегда вели к единственному, понятному результату. Над его головой висела грязная лампа с мутным плафоном, а на краю стола стояла потёртая, давно забытая фотография: молодая женщина и мальчик, чьё лицо Мирон почти не помнил, но для которых он, казалось, и считал этот чёрный нал.
Дверь скрипнула, и в каморку протиснулся Щуплый – один из доверенных людей Жоры, его глаза и уши на «нижнем уровне». Щуплый был человеком-тенью, с вечно опущенными плечами и головой. Он не поздоровался, просто кивнул на деньги.
– Готово? Хозяин ждёт.
– Как штык, – Мирон начал быстро складывать пачки в толстый чёрный пакет. – Шестьсот тридцать. Из них пятьсот – чистый навар за место Пасюка. Остальное – так, мелочь, за «ускорение».
– Хозяин велел передать: аккуратнее сейчас, – Щуплый говорил тихо, почти шёпотом, оглядываясь на дверь, хотя в лабиринте коридора никого не было. Он излучал тревогу, как неисправный трансформатор. – Жора злой ходит, нервный. Говорит, крысы завелись. Приказал все потоки усилить. И чтобы ни одна копейка мимо.
– Да куда уж мимо? – Мирон пожал плечами, завязывая пакет. – Всё до рубля. Я ж не враг себе.
– Вот и смотри. Врагов сейчас много. Особенно тех, кто в зеркале отражается.
Щуплый взял пакет, сунул под куртку, прижимая его к рёбрам, и так же бесшумно исчез. Мирон проводил его взглядом. Крысы… Жора чует? Или просто паранойя старого паука? Он передёрнул плечами. Его дело маленькое – считать и передавать.
В дверном проёме на мгновение мелькнула тень. Юрий Аверин. Он проходил мимо, направляясь к архиву, и случайно, или не случайно, задержал взгляд на каморке Мирона. Он видел, как Щуплый быстро вышел, прижимая что-то объёмное под курткой. Аверин ничего не сказал, лишь едва заметно кивнул Мирону – как бухгалтеру, который всё уже подсчитал, – и прошёл дальше.
Но Мирон почувствовал холодок под ложечкой. Этот Аверин… тихий, незаметный… Он слишком много видел. Слишком много молчал. И слишком умные у него были глаза. Глаза человека, который тоже считает. Но не деньги. А грехи.
– Быстрее копать, уроды! Не на прогулку вышли! До обеда чтоб закончили!
Голос Семёна Колесова, заведующего благоустройством кладбища, резал утренний воздух, как ржавая пила по живому. Он стоял у свежевырытой могилы и смотрел на бригаду копальщиков с неприкрытой брезгливостью. Колесов был воплощением мелкой, но абсолютной власти на этой территории. Власть страха.
– Ты, Петрович! – Колесов ткнул пальцем в самого пожилого из копальщиков. – Что заснул? Норму не выполнишь – пойдёшь сам глину жрать!
Петрович вздрогнул и заработал лопатой быстрее.
– А вы двое, – Колесов кивнул двум другим, – как закончите здесь, пойдёте на триста двенадцатый участок, к Мраморному Ангелу. Там… порядок навести надо. Холмик подсыпать. Красиво чтобы было. Поняли?
Они молча кивнули. Триста двенадцатый. У Мраморного Ангела. Это была одна из самых старых и самых дорогих «ложек» Жоры.
Аверин стоял поодаль, делая вид, что изучает надпись на заброшенном памятнике. Он слышал каждое слово Колесова. Он видел эту отлаженную машину унижения и эксплуатации, работавшую не хуже крематория. Это была ещё одна часть «экономики гнили». Он отметил про себя номер участка – триста двенадцатый. Система не просто выжила после арестов. Она продолжала работать.
Архив Степного кладбища был сердцем этой машины: тёмным, пыльным, забитым тысячами историй, сведённых к строчкам в гроссбухах. Алексей Пушкин сидел за своим огромным столом, и весь он был воплощением липкого, всепоглощающего ужаса. Угроза Жоры стучала у него в висках: «Ты ведь не хочешь сам стать „ложкой“, Лёша?». Тонкие руки, как у старого, ёрзающего от волнения скрипача, дрожали; он сжимал свое любимое перо, чернильную ручку, так сильно, что костяшки пальцев побелели. Скрип пера по шершавой бумаге был единственным звуком, нарушающим нервный, ёкающий стук сердца, а страх, словно холодный паук, плёл свою вязкую паутину в его лёгких.
Дверь архива распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и гулкое эхо разнеслось по стеллажам с ветхими документами. На пороге стоял Колесов. Семён Иванович Колесов, заведующий благоустройством, был квинтэссенцией мелкого, но абсолютного хищничества. Всё в нём было массивно и агрессивно: от бычьей шеи до тяжёлых ботинок, а привычка «резать правду-матку» грязной пилой выдавала человека, который давно разменял совесть на наличность.
– Пушкин, шевелись! – рявкнул он, входя и бросая на стол смятую бумажку. – Мне нужна схема старых захоронений. Сектор Г, квадраты двенадцать – пятнадцать. Срочно!
Пушкин похолодел. Сектор Г. Дальний, самый запущенный угол кладбища. Там хоронили ещё в сороковые – пятидесятые годы, прах давно забытых людей, лишённых даже родственной памяти. Идеальное место… для чего-то похуже? Внутренний голос, маленький интеллигентный хомячок, пищал: «Похуже уже не бывает, Алексей».
– Зачем… зачем вам, Семён Иванович? – пролепетал он, почувствовав, как во рту пересохло.
– Не твоё собачье дело! – Колесов навис над столом, и Пушкин, словно улитка, вжался в кресло, силясь стать незаметнее. – Сказал – давай схему! И побыстрее! У меня люди ждут!
Пушкин, чьи руки от страха тряслись, достал из шкафа нужную папку. Колесов выхватил её, нетерпеливо перелистал, остановившись на нужном квадрате. Архивариус закрыл глаза. Он понял. Они собирались использовать имена и места давно умерших, забытых людей для новых «ложек» или перезахоронений. Они брали прах, превращённый в ничто, чтобы на его месте продать ничто – с чистой совестью, а точнее, за большие деньги. Это было кощунство в чистом виде, циничное надругательство над памятью, и Пушкин ощутил себя не просто винтиком, но осквернителем святыни. Тоска по чистоте, по невинности, которую он потерял много лет назад, кольнула его в грудь.
Колесов, обладавший чутьём на чужой страх, заметил бледность Пушкина. Усмехнулся криво, зло, как старый чёрт. Наклонился к самому уху архивариуса, и его дыхание, пахнущее табаком, обожгло кожу.
– Меньше знаешь – дольше копаешь… чужие могилы, а не свою. Смотри у меня, Пушкин. Язык держи за зубами, а нос – по ветру. Понял? – Это был не просто совет, а приговор.
Колесов развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что со стеллажей посыпалась пыль. Пушкин остался один в гулкой тишине. Его било дрожью. Он чувствовал себя соучастником чего-то большого, страшного, кощунственного. Он был между молотом и наковальней. Между Жорой и Колесовым, между тюрьмой и смертью. И каждый день он ёжился от мысли, что этот маленький, пыльный архив – по сути, его склеп.
Через полчаса в архив заглянул Аверин. Юрий Юрьевич Аверин. Он выглядел спокойным, как всегда, немного отстранённым. В его облике, лишённом ярких деталей, в умении держаться в стороне чувствовалась выдержка бывшего аудитора – человека, для которого факты важнее эмоций.
– Алексей, добрый день. Не помешаю? Хотел уточнить одну запись по старому делу… Участок сто пять, ряд третий… Помните, мы с вами как-то смотрели?
Пушкин вздрогнул. Сто пятый участок. Одна из тех самых «ложек», чья урна оказалась пустой. Как он мог об этом знать? Слишком точное попадание. Аверин знает? Или это ловушка? Внутренняя паника захлестнула Пушкина.
– Да… да, Юрий… э-э… Юрьевич, – пробормотал он, лихорадочно соображая. – Сейчас посмотрю… А что именно вас интересует?
– Да так, несоответствие в датах заметил, – Аверин подошёл к столу, склонился над гроссбухом. Он не смотрел на Пушкина, но Пушкин чувствовал его присутствие как тончайшую струну, натянутую до предела.
Пушкин его почти не слушал. Всё, что требовалось, – это выжить. Он видел перед собой единственный шанс. Рискованный. Безумный. Но шанс. Шанс подать сигнал человеку, чьи глаза видели не деньги, а грехи.
Делая вид, что ищет нужную папку на нижней полке стеллажа, он неловко задел стопку старых инвентарных карточек. Карточки веером посыпались на пол с лёгким, шуршащим звуком, словно прах.
– Ой, простите! – воскликнул он с преувеличенным, почти истерическим испугом.
Аверин наклонился, чтобы помочь. И в этот момент Пушкин, как бы невзначай, задержал одну карточку у самых ног Аверина. Это была карточка на тот самый сто пятый участок. Рядом с выцветшей чернильной записью виднелась слабая, почти невидимая пометка, сделанная простым карандашом: «159».
Пушкин тут же схватил карточку, суетливо бормоча:
– Вот ведь… Надо бы всё перепроверить… Столько ошибок…
Аверин выпрямился. Он смотрел на Пушкина – на бледное, потное лицо, на бегающие глаза – и всё понял. Это не случайность. Это крик о помощи. Отчаянный, смертельно опасный сигнал. «159». Что это? Номер участка? Секретный код?
– Да нет, Алексей, извините, – сказал Аверин спокойно. – Кажется, я сам ошибся. Не буду вас отвлекать.
Он вышел из архива. Аверин шёл по аллее, и цифры «159» стучали у него в голове, как метроном. Это был ключ. Ключ, который подбросил ему тонущий человек. Он заставил себя остановиться под сенью старого дуба. Глубоко вдохнул. «159» … Что это? Номер участка? Он мысленно пробежался по карте кладбища – нет, такой нумерации здесь не было. Страница в журнале? Слишком просто: Пушкин мог бы просто открыть нужную страницу. Дата? 15 сентября? Или 1:59 ночи? Бессмыслица. Это было что-то другое. Шифр.
Память, вышколенная годами ревизий, отсеяла ложные версии и нашла зацепку. Он вспомнил их прошлый разговор: когда Пушкин, бледный и затравленный, бормотал о пустых урнах, мелькнула фраза – «Там всё по сто пятьдесят девятой…». Тогда он списал это на канцелярский жаргон – номер какой-то инструкции или бланка.
Теперь всё встало на место с холодной ясностью. Это – шифр. Условное обозначение, понятное узкому кругу. «159». Пушкин указывал на центр тёмного промысла – на крематорий: код особых актов или журнал специального учёта.
Цепь замыкалась с убийственной логикой, ёмкостью, присущей всякой истинной интриге: «Кирпичный завод» с тайником, пустые урны и «159». Всё вело туда, где горит огонь и хранятся тайны. Туда, где, по словам Хирурга, «хранят то, что не горит». Именно туда предстояло отправиться Аверину – чтобы вынуть из пепла то, что ещё способно говорить.
Глава 4. Холод родства
Кабинет Елены Борисовны Пак, заместителя главы администрации Заводского района, был полной противоположностью кабинету отца. Светлый, просторный, с большими окнами, выходившими на чахлый сквер. Современная офисная мебель цвета светлого бука и аккуратно разложенные по стопкам папки создавали впечатление почти лабораторного порядка; воздух пах озоном и слабым, чуть навязчивым жасмином. Елена Борисовна была продуктом новой эпохи – молодой, образованной, эффективной чиновницей, чья холодная компетентность служила бронёй. Ничто в её строгом брючном костюме и внимательном, чуть усталом взгляде не напоминало о том, что в её жилах течёт Жорина кровь. На полированном до матового блеска столе стояла единственная личная вещь, не вписывающаяся в кадровый минимализм: старая чёрно-белая фотография в серебряной рамке. На ней – молодой, крепко сложенный мужчина с жёстким, азиатским лицом: её покойный муж, Кихан Пак. Фотография была немым укором её «чистой» жизни и напоминанием о той грязи, в которой она оказалась заперта.
Она только что закончила приём посетителей – вереницу вечно недовольных жителей района, чей личный крест, Степное кладбище, территориально относилось к её территории. Она делала всё по инструкции, сохраняя ледяное спокойствие и дистанцию. Дистанцию от всего, что было связано с ним. С отцом.
Дверь распахнулась без стука, и на пороге возник он – отец. Сегодня в его облике было что-то новое, тревожное. Костюм, хоть и дорогой, сидел мешковато. Глаза лихорадочно блестели; безумие, прежде проглядывавшее лишь урывками, теперь проступало в чертах лица.
– Лена, дело есть, – проскрипел он, проходя к столу. От него пахло коньяком и той специфической кладбищенской пылью, что въелась в кожу.
Елена Борисовна медленно подняла голову. Лицо выражало только вежливую усталость и лёгкое, профессиональное отвращение.
– Я просила тебя не приходить сюда, папа, – сказала она тихо. – У меня приёмные часы. Если у тебя официальный вопрос – запишись.
– Брось, Леночка, какие секретари? – Он отмахнулся. – Дело плёвое. Бумажку одну подписать надо. Разрешение на… э-э… санитарную вырубку старых деревьев. Участок сто семьдесят.
Участок сто семьдесят. Она знала: никаких деревьев там отродясь не было. Зато место – удобное, уединённое. Идеальное для… чего?
– Этим занимается управление благоустройства, – отрезала она холодно. – Пиши официальный запрос на имя Колесова. Комиссия рассмотрит.
– Какая комиссия?! Какие запросы?! – Жора вскочил; лицо исказила внезапная ярость. – Ты что, забыла, как сама же помогала «пристроить» участок для одного хорошего человека, когда только начинала здесь? Или совесть проснулась? Отец простит – сделай!
– Здесь я – заместитель главы администрации, – её голос не дрогнул, – и я действую по закону. Закон один для всех. Особенно сейчас. Времена изменились.
– Да если бы не мои методы, ты бы сейчас сидела не в этом кресле, а… а копалась бы в земле рядом с твоим покойничком! Забыла, кому обязана всем?
Он осёкся, поняв, что сказал лишнее. Елена Борисовна сидела неподвижно; лицо стало белым, как бумага. Он ударил по самому больному – по памяти её убитого мужа, Кихану Пак, убитому при ликвидации группировки Нептицына. Тайна, связанная с той смертью, до сих пор дышала им обоим в затылок.
Жора понял, что попал в цель.
– Ладно… погорячился, – пробормотал он уже другим тоном. – Ты уж прости отца… Но бумажку… подпиши, а? По-хорошему прошу.
– Уходи, – сказала она глухо, не поднимая глаз. – Пожалуйста, уходи.
Он постоял ещё миг. Семя страха было посеяно.
– Ладно, ладно… ухожу… Ты подумай, Леночка. «Подумай хорошенько», – сказал он и вышел.
Елена Борисовна распахнула окно. Холодный, влажный воздух ворвался в кабинет, но не вытеснил грязь, которую принёс с собой отец. Она чувствовала себя запертой в клетке происхождения.
Через час секретарь доложила о посетителе:
– Там… Аверин Юрий Юрьевич. Говорит, по личному вопросу, связанному с работой кладбища.
Она помнила это имя. Бывший аудитор городской администрации, потерявший мать… Человек с целью, – мгновенно отметила она, – а такие здесь долго не живут.
– Пять минут. Пусть войдёт.
Аверин вошёл и вежливо поздоровался. В его внимательных, чуть печальных глазах была глубина и… скрытая цель – угроза всему, что олицетворял её отец.
– Елена Борисовна, простите за беспокойство, – начал он. – Я по поводу странностей в учёте захоронений на Степном. Мой знакомый, архивариус Алексей Пушкин, обнаружил несоответствия в старых записях… Кажется, речь идёт об участке сто пять…
Сто пятый участок. Один из тех, о которых говорил Пушкин отцу. Сердце Елены Борисовны ёкнуло. Маска вежливой непроницаемости легла обратно.
– Юрий Юрьевич, все вопросы учёта находятся в компетенции МУП «Ритуал», – сказала она ровным, официальным тоном. – Администрация района не вмешивается в их хозяйственную деятельность.
– Понимаю, – Аверин кивнул. – Но проблема в том, что эти несоответствия могут указывать на более серьёзные нарушения. Возможно, даже на мошенничество с земельными участками.
Он говорил спокойно, но подтекст был очевиден: он пришёл прощупать почву. Она решила сыграть.
– Юрий Юрьевич, я вас понимаю. И, поверьте, сама заинтересована в порядке, – она чуть понизила голос, придавая ему доверительную интонацию. – Но боюсь, сейчас это непросто. Город и область – на особом контроле. Все мало-мальски важные вопросы, особенно связанные с финансами, муниципальным имуществом и… хм… ритуальными услугами, теперь курируются лично из областного правительства. Есть там новая, очень влиятельная фигура. Алиса Петровна Тёплая. Говорят, из Питера, делала карьеру в Смольном. Очень жёсткая дама. Слышали о такой?
Она внимательно следила за реакцией. Имя Тёплой – точка давления. Отец её боится.
– Тёплая… Нет, не приходилось, – спокойно солгал Аверин.
– Ну вот, – Елена Борисовна развела руками с едва заметной иронией. – Так что, боюсь, без её визы сейчас даже… э-э… санитарную вырубку деревьев согласовать проблематично. Вам лучше обратиться напрямую в область. Или подождать, пока ситуация стабилизируется.
Она сыграла роль компетентного, но «бессильного» чиновника.
– Спасибо, Елена Борисовна, – Аверин поднялся. – Вы мне очень помогли.
– Всегда рада, – она вежливо улыбнулась ему вслед.
Когда дверь за ним закрылась, Елена Борисовна откинулась на спинку кресла. Маска сползла, обнажив смертельную усталость и застарелый страх. Аверин. Пушкин. Отец. Тёплая. Между этими четырьмя плоскостями её жизнь сжималась, как пресс. Она посмотрела на портрет покойного мужа в серебряной рамке. Она была одна в этой клетке. И не знала, как выбраться.
Глава 5. Работа во тьме
Поздний вечер сгустил тени над Степным кладбищем, превратив старые надгробия в силуэты скорбных монахов. Подъездная дорога к сектору Г, самой заброшенной и глухой его части, была разбита до состояния танкового полигона. Колесов, неряшливый и тяжёлый, как старый валун, вышел из своего казённого УАЗа, хрустнув ботинками по битому кирпичу. Запах сырой глины и прошлогодних листьев бил в ноздри, обещая трудную работу.
– Шевелитесь, копаться некогда! – рявкнул он в темноту, срывая с головы кепку и запуская пальцы в жёсткий, как щётка, ёжик волос.
Из-за деревьев, словно призраки, показались три фигуры. Первый – по прозвищу Кочегар – долговязый, сутулый мужик лет пятидесяти, с лицом, словно высеченным из гранита, вечно чумазый и немой. Он никогда не смотрел в глаза, предпочитая изучать землю под ногами, и в его молчании была звериная, непроницаемая надёжность. Он работал быстро, почти бесшумно, и лопата в его руках входила в глину с лёгким, узнаваемым шорохом.
Вторым был Старик: на вид лет семьдесят, жилистый и тощий, как высохший корень, вечно с «Беломором», выпускал едкий дым, словно миниатюрный паровоз. Его главной привычкой было ворчать – на начальство, на покойников, на погоду, – но работал он не хуже молодых.
Третий, самый молодой, Мелкий, отличался патологической нервозностью и привычкой постоянно озираться, будто ожидая удара сзади. Он был невысок и худ, а его подёргивающийся левый глаз выдавал человека, живущего на грани.
– Иваныч, зачем же так срочно, в ночь-то? – просипел Старик, бросая окурок в лужу. – Место, что ли, припёрло? Каждую ночь, как проклятые…
– Заткнись! – Колесов не терпел вопросов. – Работа есть работа. А тебе, старый пень, какая разница – день или ночь? Четыре ямы. Здесь! – Он, развернув схему, наспех вычерченную Пушкиным, указал пальцем. – Г-14, квадраты 12—15. Чётко между старыми крестами. Так, чтобы ни одна собака не докопалась.
Кочегар уже отбросил свой заплечный мешок и принялся разминать плечи. Лопата в его руках казалась продолжением тела. Мелкий дёргался, держась за рукоять, словно за спасательный круг. Старик подошёл к указанному месту, отмерил шагами.
– Ё-моё, – произнёс он, плюнув. – А земля-то теперь чужая, Иваныч, и мёртвым тесно. На их костях пляшем. Грех.
– Грех – это когда за работу не платят! – засмеялся Колесов хрипло. – А за эту вам заплатят. Тройной тариф. Но если кто-то проболтается…
Он не закончил, но в его глазах вспыхнул такой холодный, угрожающий огонёк, что Мелкий невольно поёжился.