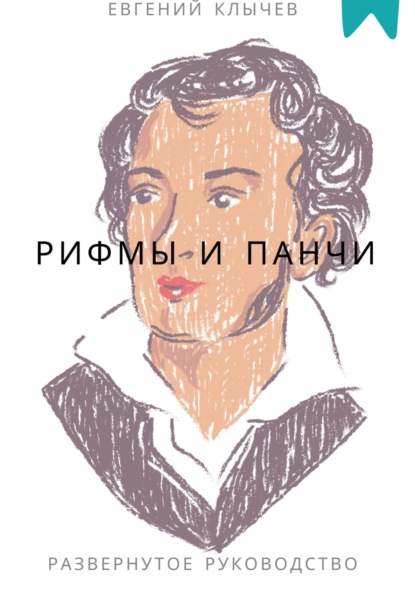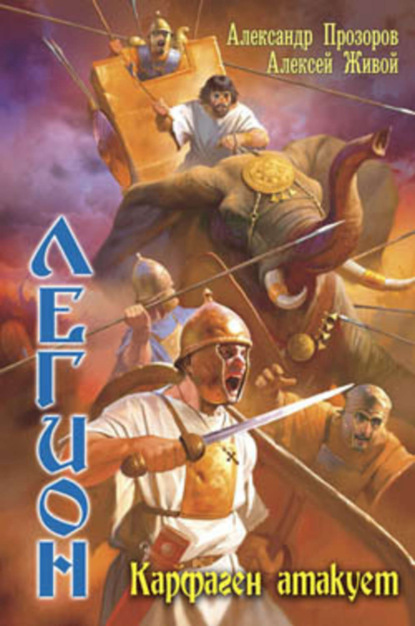- -
- 100%
- +

Акт1: Ключ-Без-Смысла
Когда дитя чистого рода возьмёт в руки Ключ-без-Надписи и произнесёт Слова-без-Смысла, врата Тихого Голода откроются. И первая кровь звавшего станет мёдом, вторая – вином, а третья – плотью для новой, вечной жизни в тени».
– Из «Скрижали Голода», гл. 1, ст. 1-3 (ред. рода Хранителей)Не имеющее имени. Сделанное не из плоти, а из молчания. Живущее не во времени, а в промежутках между ударами сердца. Оно ждёт не в аду и не в раю, а в той тьме, что рождается, когда гаснет свеча перед иконой. Его язык – шепот. Его пища – внимание. Его дом – тень того, кто однажды обратился к нему как к Богу».
– Из «Трактата о не-сущих», приписываемого старцу-отшельнику, на полях Летописи Призыва.Дом стоял на пригорке, точь-в-точь как у соседей Беляевых1[1], только, казалось, ещё глубже врос в землю корнями-брёвнами, ещё темнее почернел от дождей и лет. Резные наличники над окнами, похожие на застывшее кружево, отбрасывали на стены причудливые тени, когда солнце клонилось к лесу. Воздух здесь был особым – густой, как кисель, и состоял из слоёв: верхний, тёплый, – запах нагретой смолы и свежескошенной травы; нижний, прохладный, тянущий из сеней, – запах старого дерева, земляного пола и сушёной полыни, пучки которой висели у каждой двери. А сквозь всё это пробивался самый сильный, самый домашний запах – томившихся в печи пирогов с капустой и грибами.
Артёму здесь нравилось. Городской гул, голоса из телевизора и даже мамина забота остались где-то далеко, за двумя днями дороги и частоколом берёз. Здесь было по-настоящему. Настоящая печь, которую топят дровами. Настоящий колодец с журавлём. И самое главное – настоящая святость, которая жила в его прабабушке, Агафье Мироновне.
О ней в деревне говорили шёпотом и с поклоном. Говорили, что её молитва останавливала град над полями. Что она знала травы, которые лечили лихорадку. Что нечисть обходила её дом стороной. Она была маленькой, сухонькой, вся в чёрном – платок, кофта, юбка. Лицо – сеть морщин, но глаза – светлые, пронзительные, будто видели не только тебя, но и что-то позади тебя. Эти глаза сейчас смотрели на Артёма с тихой лаской.
– Вот, внучек, – сказала она, подавая ему небольшую, потрёпанную книжечку с картинкой ангела на обложке. – Это тебе. Детский молитвослов. Читай, коли душа просит. Господу приятно детская молитва.
Артём бережно взял книжку. Он чувствовал себя избранным. Дома он ходил с мамой в церковь, но здесь, в этом древнем доме, где сам воздух казался освящённым, молитва должна была стать сильнее. Он украдкой взглянул на «красный угол» – левый, самый почётный угол горницы.
Там не было пустоты. Там жили лики. Десятки икон, больших и маленьких, в потемневших от времени и копоти киотах, стояли плотными рядами на полках. В центре – большой Спас Нерукотворный, строгий и печальный. Перед ним теплилась лампадка, отбрасывая дрожащий, масляный свет на тёмное дерево. Этот свет был сердцем тишины в доме. Но взгляд Артёма, вопреки воле, скользнул выше, на самую верхнюю полку, почти под потолок.
Там, в глубокой тени, куда свет лампадки не доставал, лежала одна-единственная книга. Не стояла, а именно лежала. Толстая, в кожаном переплёте без единой надписи. Издалека она казалась просто тёмным пятном, куском самой тьмы.
– Бабушка, – не удержался Артём, – а это что за книга? Тоже молитвенник?
Агафья Мироновна, ставившая на стол глиняный горшок со сметаной, замерла. Не так, как замирают, вспоминая что-то. А так, как замирают, услышав скрип половицы в пустом доме. Медленно, будто через силу, она повернула голову к «красному углу».
– Нет, внучек, – голос её был тихим, но в нём появилась стальная нить, какой раньше Артём не слышал. – Это не для тебя. И не для меня, по правде-то. Она просто лежит.
– Но почему? Разве книги нельзя читать?
– Эту – нельзя. – Прабабушка подошла к нему, опустилась на корточки, что далось ей нелегко, и взяла его лицо в свои сухие, тёплые ладони. Глаза её смотрели прямо в душу. – Слушай меня, Артёмка. Запомни, как «Отче наш». Там, наверху, лежат слова. Но они не такие, как в твоей книжке. Они не молятся. Они… зовут. Понимаешь? Они как крючок. Прочтёшь вслух – и что-то на тот крючок клюнет. А вытащишь – не обрадуешься. Потому и лежит она там, где свет лампадки не касается. Чтобы спала.
Она говорила так серьёзно, так без тени обычной бабушкиной сказочности, что у Артёма по спине пробежал холодок. Но детское любопытство, подогретое таинственностью, было сильнее страха. Что это за слова, которые могут «позвать»? Ангелов? Самих святых? Может, это секретная, самая сильная молитва, которую знали только старцы?
– Я… я понял, – кивнул он, чтобы успокоить её.
Бабушка погладила его по голове, и стальная нить в её голосе растворилась, снова став мягкой и усталой.
– Умница. Иди, почитай своё. Я пирогов достану.
Она ушла в сени, в тёплую, дымную глубь печки. Артём остался один в горнице. Тишина сомкнулась над ним, густая, звенящая. Только тиканье старых настенных часов да потрескивание углей в печи нарушали её. Лампадка трепетала.
Его взгляд снова, уже помимо воли, потянулся к верхней полке. К темно-кожаной книге. Ключ отпирает не дверь, а пасть. Слова прабабушки отозвались в памяти странным эхом. Но разве ключ – это плохо? Ключом открывают сокровищницы. Может, и эта книга – сокровищница? Сокровищница самой сильной веры.
Сердце забилось чаще. Он оглянулся. Из сеней доносился стук ухвата – бабушка возилась у печи. Он был один.
Словно во сне, он подвинул к «красному углу2[1]» тяжёлый дубовый табурет. Взобрался на него. Теперь он был на одном уровне с верхней полкой. Запах здесь был другим – не воск и дерево, а пыль, сухой пергамент и что-то ещё, едва уловимое, горьковато-сладкое, как запах увядших полевых цветов.
Книга лежала перед ним. Кожа переплёта была холодной, как камень в погребе, и шершавой от времени. Он сдул с неё серый слой пыли и приоткрыл.
Бумага внутри была не белой, а желтоватой, плотной, шероховатой. А буквы… Это были не привычные ему печатные буквы и не совсем церковнославянская вязь. Это был полуустав – старинный, угловатый, но в его строгих линиях было что-то… живое. Буква «О» была вытянута и казалась похожей на прищуренный глаз. «Ж» изгибалась не двумя, а несколькими линиями, напоминая щупальце или переплетённые стебли. Заглавные буквы в начале строк были украшены завитками, но эти завитки не походили на цветы – они были похожи на клубки червей, на схватившиеся в борьбе корни. Текст был сплошным, без привычных красных строк, и от этого рябило в глазах. Он был написан чёрными, почти не выцветшими чернилами, которые местами казались выпуклыми, будто высохшая кровь.
Артём не мог прочесть ни слова. Это был иной язык. Но его детское, горячее воображение уже дорисовывало картину: вот он, молитвенник старца-отшельника, который говорил с Богом на тайном языке. Самый сильный. Самый чистый. Если прочесть это – Бог точно услышит. Услышит и даст прабабушке здоровья, и маме с папой, и всем.
Осторожно, боясь порвать хрупкие страницы, он снял книгу с полки. Она оказалась тяжёлой, неожиданно тяжелой для своего размера, как будто налитой свинцом. Холод от неё проникал сквозь рубашку в ладони. Он спустился с табурета, прижал находку к груди и быстро, на цыпочках, прошел в свою комнатку – бывшую светёлку, где стояла узкая кровать под кружевным подзором.
Он положил книгу на одеяло. В комнате было сумрачно, вечернее солнце уже не заглядывало в маленькое окошко. Он щёлкнул выключателем – лампочка под потолком мигнула раз, другой и загорелась тусклым, желтоватым светом. Этого хватит.
Он не будет читать сейчас. Сейчас страшно. Бабушка может зайти. Он почитает позже, когда все уснут. Тайком, под одеялом, с фонариком. Он прочтёт «самую сильную молитву». Для прабабушки. Ради её святой жизни.
Он накрыл книгу краешком одеяла, как будто укладывая спать. От неё всё ещё веяло тихим, назойливым холодком и тем странным, сладковато-горьким запахом.
Из горницы донёсся ласковый голос Агафьи Мироновны:
–Артёмка! Иди, пирожок парной!
– Иду, бабушка! – крикнул он, и голос его прозвучал чуть выше обычного.
Он вышел из комнаты, бросив последний взгляд на прикрытое одеялом возвышение. В горнице пахло уже не просто пирогами, а теплом, домовитостью и покоем. Но где-то на самом дне этого покоя, в самой глубине тишины, уже зрела крошечная, невидимая трещина. И сквозь неё, из-под одеяла на детской кровати, медленно сочился не свет, а обратный свет – сгущающаяся, терпеливая тьма, ждущая своего голоса.
Акт 2: Слова-Без-Смысла
«Первая ночь после призыва – самая тихая. Не потому, что мир затих, а потому что слушает. И тот, кто позвал, теперь всегда будет слышим».
– Из Летописи Призыва, лист 12Ночь навалилась на дом тяжёлым, бархатным пологом. За окном светила полная луна, отбрасывая в комнату Артёма призрачные серебряные квадраты. Все спали: и прабабушка за тонкой перегородкой, и весь мир, казалось, погрузился в сон. Только Артём лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Под подушкой лежал холодный, тяжёлый фонарик. Под матрасом, у самого изголовья, – книга.
Он ждал, казалось, целую вечность, пока дыхание за стеной не стало ровным и глубоким. Тогда, двигаясь с преувеличенной осторожностью, он извлёк книгу. Кожаный переплёт был ледяным, как будто впитал в себя ночной холод из-под пола. Он накрылся с головой толстым шерстяным одеялом, создав душную, тесную пещеру. Щёлкнул фонариком.
Луч света, резкий и белый, вырвал из тьмы страницу. Полууставные письмена казались теперь ещё более странными, почти двигающимися в косом свете. Артём сделал глубокий вдох, пахнущий пылью и шерстью. Он не понимал смысла, но он решил прочесть. Как в школе – старательно, по слогам, вслух. Для прабабушки.
Губы его шевельнулись, и первый звук, сдавленный и робкий, сорвался в тканевую тесноту одеяла.
– В-зы-ди…
Слово было коротким, но оно повисло в воздухе, густым, как мёд. Оно не просило. Оно велело.
–Вос-стань…
Язык заплетался. Буквы «стань» были написаны с таким завитком, что напоминали встающую змею. В ушах зазвенела тишина.
–Вни-ди… в плоть… зва-вша-го…
Он читал дальше, бормоча незнакомые сочетания звуков. Текст не лился молитвенной песнью, а выстукивался, как ритм большого, спящего сердца. Он не просил милости, не восхвалял. Он констатировал. Он приказывал. Артём не понимал этого. Он видел только красоту древних букв и чувствовал важность момента. Он читал, и каждая фраза отдавалась лёгкой судорогой где-то под ложечкой.
И тогда свет фонарика моргнул. Один раз. Два. Третий раз – и погас, оставив Артёма в абсолютной, непроглядной темноте под одеялом. Он замер, сжимая холодный цилиндр фонарика. Батарейка? Но он же новенький…
Он откинул одеяло. Комната была погружена в мрак. Но не в обычный ночной мрак. Окно, где ещё минуту назад серебрился лунный свет, теперь было чёрным квадратом. И тишина. Исчез не только скрип кровати. Исчезли все звуки. Ни сверчков за стеной, ни поскрипывания брёвен, ни храпа бабушки за перегородкой. Ничего. Будто мир выключили. Тишина была настолько полной, что в ушах загудел собственный кровоток.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
0
Беляевы – старый соседский род, «часовые» здешних мест. Говорят, у них свои обеты и своя стезя, о которой не распространяются. С Агафьей их связывало молчаливое соглашение, ибо оба рода помнят о том, что старше их самих. Случались в их доме истории – тихие, но такие, после которых шепчутся за закрытыми дверями…¹
1
Красный угол» (или «святой угол») – сакральный центр традиционной русской избы, место, где устанавливались иконы, горела лампада и совершалась молитва. Это было не просто украшение, а духовный «столб» дома, точка связи с божественным. Здесь же хранили самое ценное и сакральное – от освящённых предметов до семейных реликвий, доступ к которым имел только глава семьи или старейшина.