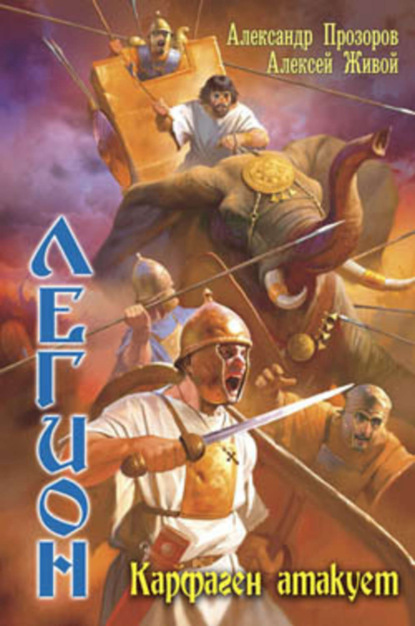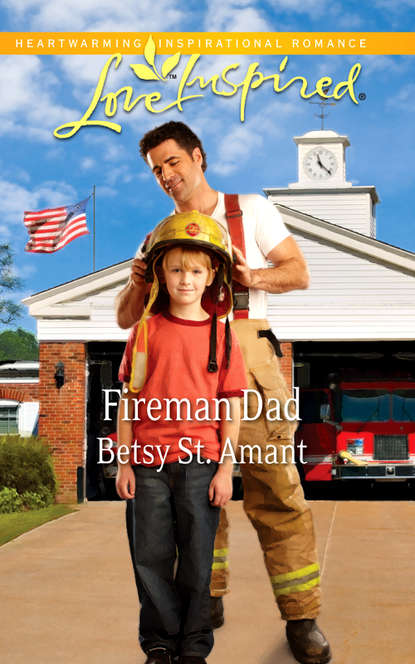- -
- 100%
- +

Ars gratia artis
Артист – не приспособленное к жизни дерьмо.
Ты можешь только клянчить кэш у сильных мира сего.
Заводы, бл*дь, стоят – одни, бл*дь, гитаристы в стране,
А ты все ноешь, как тебе трудно в этой войне.
«Закройте глаза и попробуйте представить цвет, который вы еще ни разу не видели. Но такой, который при этом объективно – независимо от того, способны ли вы мысленно нарисовать оный у себя в голове или нет, – существует в природе и теоретически вполне может быть считан, воспринят и "декодирован", то есть, проще говоря, увиден зрительным аппаратом, которым с завода снабжены другие живые существа (в том числе и инопланетные), помимо человека. Выражаясь строго научным, оптическим языком: попытайтесь вообразить, как может выглядеть какой-либо участок электромагнитного спектра за рамками видимого излучения, воспринимаемого человеческим глазом. Расшифровка для индивидуумов, альтернативно одаренных в иных, нежели физика, областях научного знания: не хроматические цвета в лице красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и не ахроматические цвета в лице белого, серого и черного, а также не все промежуточные, переходные значения между перечисленными (смешения, оттенки и полутона), а принципиально новый, доселе невиданный ни одним представителем людской расы цвет.
Ну как, получилось? Шах и мат, колористы! И даже не надо врать, что вы справились с задачей. Вот в том-то и дело. Вот она – проблема ограниченности человеческого восприятия! Вы же ведь не всерьез полагаете, что за границами видимого спектра – до красного и после фиолетового – нет и быть не может точно таких же, столь же знакомых и привычных нам, как радужная гамма, уникальных цветов, отчетливо различимых и определяемых зрительными системами нечеловеческих организмов? Кто сказал, что собственная палитра из, условно, десяти основных цветов, каждый со своим, присвоенным ему внеземной цивилизацией наименованием, не может быть обнаружена где-нибудь внутри того электромагнитного диапазона, что мы, человечество, зовем инфракрасным? Почему аналогичным образом не может обстоять дело и с противолежащей частью спектра, что в человеческой парадигме именуется ультрафиолетовой? Тем более что в этом случае за примерами в космос ходить не надо – земные пчелы, птицы и раки-богомолы не дадут соврать! Возможно, свой набор цветов присутствует даже и среди электромагнитных волн с длинами, соответствующими – опять же в людском наречении – рентгеновскому и микроволновому излучению!
"А как все это соотносится с искусством?" – спросите вы. "А никак, – отвечу я вам, – вышесказанное его напрочь обесценивает!" Все без исключения формы визуального искусства скованы примитивным устройством нашего органа зрения и, следовательно, неизбежно упираются в ограниченные возможности нашей зрительной перцепции, разбиваются об ущербность нашего с вами цветоощущения, если хотите. Все величайшие произведения изобразительного искусства, будь то картина, скульптура, сооружение или даже фотография, сводятся, таким образом, к банальной человеческой анатомии, физиологии, психологии – называйте, как угодно. Факт остается фактом: художник обречен творить, а зритель – постигать творение лишь в пределах узенькой, "великодушно" выделенной им природой полосочки электромагнитного спектра. И как сие неоспоримое обстоятельство, извольте-ка объяснить, может корреспондировать целям и задачам подлинного высокого искусства, которому, по-хорошему, надлежит иметь удобоваримый вид для всех разумных форм жизни, безотносительно к строению или вообще как таковому наличию у них тех или иных органов чувств и обусловленным этим особенностям их восприятия? С чего это вы вдруг взяли, что гипотетические, сферические инопланетяне в вакууме видят мир в той же области электромагнитного спектра, что и мы? Отчего вы вообще решили, что они мыслят такими исключительно нашенскими, сугубо человеческими категориями, как цвет и видимое излучение, а не, скажем, воспринимают реальность на каком-то самобытном, одним им только ведомом и абсолютно непостижимом для человеческого ума уровне? "Красота в глазах смотрящего". Хах, действительно… Правда, только в том случае, если у смотрящего вообще есть глаза».
Именно такие глубокофилософские мысли шизофреническим вихрем роились в голове у Николы Дупорукова, пока он, торопливо шагая, следовал к своей цели, и примерно такую обличительную речь он, достигнув места назначения, собирался толкнуть перед торжественно там собравшимися. В тот морозный январский день Дупоруков направлялся на какую-то очередную проходившую в его городе фотовыставку какого-то там именитого фотографа, где в очередной раз планировал совершить свою маленькую вероломную нападку на явившихся туда фотолюбителей и прочих деятелей изобразительного искусства, обвинив их самих и их ремесла в том, что они не заслуживают причисления к высокому творчеству.
Сам Николушка Дупоруков был молодым начинающим инсталлятором – но не тем, с помощью которого противостоявшие ему высокодаровитые творцы с врожденным талантом нажимать на кнопку спуска затвора чувством прекрасного и обостренным чутьем заваленного горизонта обычно устанавливали на свои, конечно же, макбуки с, как правило, поставленной на них виндой (месье знают толк в извращениях) пиратские версии своего любимого Adobe Photoshop, чтобы обрабатывать в оном свои высокохудожественные работы, вовсе нет. Никола был мастером инсталляции, то бишь являл собой художника, создающего замысловатые пространственные композиции из говна и палок готовых материалов и форм.
В один прекрасный день ни с того ни с сего возомнив себя незаслуженно непризнанным гением и самолично назначив себя чуть ли не единственным живущим на свете представителем истинного, совершенного и безупречного, самого что ни на есть утонченного и рафинированного искусства, наш самопровозглашенный уникум стал с тех самых пор вести непримиримую борьбу с тружениками всех иных, отличных от его собственного направлений творческого тыла, коих он мнил недостойными гордого звания «артист» и в коих оттого не желал признавать напарников по цеху, не находя им места вместе с собой в одной лодке. При этом ответом на вопрос, по какой такой загадочной причине все выставленные им в его пламенной тираде претензии и упреки в адрес визуального искусства в равной мере не распространялись и на саму инсталляцию, которая, вообще-то, представляет собой одну из его современных разновидностей и тоже воспринимается в первую очередь посредством столь, по его мнению, отсталого и ущемленного природой человеческого зрения, сей юный последователь Марселя Дюшана себя не то чтобы очень сильно утруждал, а не утруждал вообще.
Добравшись до места проведения мероприятия и в грубой манере растолкав парочку толпившихся у двери незрелых дарований от мира фотографии, которые это самое дарование от этого самого мира почему-то упрямо скрывали, Никола с шумом и гамом неуклюже ввалился внутрь. Потому как вход в фотогалерею весьма удачным для Дупорукова образом располагался в самой середине здания, он сразу же оказался не только в центре помещения, но и в центре внимания. Оторванные случившимся конфузом от созерцания фотошедевров, посетители экспозиции в одночасье затихли и в едином порыве недоумевающе уставились на осмелившегося нарушить их дружную единомышленническую фотокакофонию наглеца.
Несмотря на то что по изначальному плану он должен был произнести свой заготовленный по дороге разоблачительный монолог, на деле Никола, как обычно, все сделал, как не надо. Кое-как совладав с не на шутку разыгравшимся в нем от внезапно приковавшихся к нему суровых взглядов волнением, Дупоруков выпрямился, громко откашлялся и голосом школьного забияки, задирающего нравящуюся ему одноклассницу, противно прогнусавил:
– А Кен Роквелл и Энни Лейбовиц – никчемные бездари!
Справедливо посчитав, что озвученные им имена были известны далеко не всем присутствующим, и что его колкая эпиграмма в связи с этим могла, ускользнув от адресата, не произвести желаемого фурора и не нанести достаточный урон, нисколько не задев тончайшие струнки души и ни в коей мере не оскорбив чувства верующих в художественную мощь фотографии, Никола, малость помешкав, обежал испуганными глазами изумленную толпу и, разбив повисшую в зале тишину, в дополнение к ранее сказанному быстро протараторил:
– А Энди Уорхол, чтоб вы знали, – так и того хуже!
Вбив последний гвоздь в крышку гроба наивно полагающих, что фотография вполне заслуженно, обоснованно и правомерно занимает свое почетное место в пантеоне искусств, Дупоруков, не дожидаясь реакции обесчещенных им фотофанатиков, чьи святые реликвии, как ему думалось, он только что самым ужасным образом осквернил, развернулся и, словно стремящийся избежать возмездия за свою пакость нашкодивший первоклассник, дал деру.
– Опять этот сумасшедший! Когда его уже в «Белые вороны» положат, наконец! – крикнул кто-то вслед улепетывавшему хулигану.
– Авиагоризонт себе в говнозеркалки встройте, рукожопы! – буркнув себе под нос, со злобой ответил на это Дупоруков, чьи пятки уже сверкали метрах в пятнадцати от входа.
Ироничное, с изрядным налетом черного юмора имя «Белых ворон», надо пояснить, носила городская психиатрическая больница, куда местный плебс, в силу своего скудоумия и невежества неспособный постичь и, соответственно, по достоинству оценить прогрессивные, авангардистские идеи сумрачного гения, с завидным постоянством норовил его упечь.
Теперь, когда побочный квест был успешно завершен, путь борца с неугодными ему видами и формами искусства лежал в локацию, где ему предстояло взяться за квест основной. Отбежав от галереи на внушительное расстояние (как если бы всерьез притом полагая, что кто-то из уязвленных в самое сердце фотоэнтузиастов, желая набить хулителю фотоморали его бесстыжую морду, за ним бы погнался), поборник высокого искусства остановился и, отдышавшись, с чувством выполненного долга затопал на еще одну экспозицию – в этот раз не чуждую ему и бестолковую, а принадлежавшую его родной стихии и потому проникнутую глубоким потаенным смыслом, подлинно художественную выставку-инсталляцию.
Помимо того, что Никола, исполняя свое высшее предназначение, на постоянной основе вынужден был вести ожесточенное противостояние с внешними врагами настоящего искусства, ему, как и любому хорошему профессионалу, трудящемуся в условиях рыночной среды, так или иначе приходилось считаться с врагами внутренними, сиречь конкурентами. Самым заядлым противником, самым заклятым соперником его, практически единственной творческой фигурой в городе, кого он рассматривал в качестве достойного себе оппонента, в ком зрел опасного конкурента, усматривая реальную для собственной непревзойденности угрозу, и кого по этой причине уважал и даже, в чем ему было стыдно признаться, немного побаивался, был его собрат по ремеслу, также художник-инсталлятор, Заруб Шайзелепкин.
Как раз на премьерный показ нового порождения очумелых шайзелепкинских ручек и спешил теперь Никола, попутно в мыслях понося на чем свет стоит своего более преуспевающего и прославленного визави, коему он на самом деле втайне от самого себя завидовал.
Стоит сказать, что Дупоруков и Шайзелепкин, будучи одними из всего лишь от силы пяти городских кузнецов поп-арта, были, само собой, хорошо знакомы не только лично, но и с творчеством друг друга. История их негласной конфронтации и закулисной вражды, их остервенелого соперничества и бескомпромиссного состязания за титул первого поп-артиста на деревне насчитывала к тому моменту уже добрую пару-тройку совсем не добрых лет.
И хотя работы Николы всегда были объективно более талантливыми, изысканными и оригинальными, чем халтурные поделия Заруба, а также, в отличие от большинства шайзелепкинских тяп-ляпов, действительно сами по себе несли хоть какой-то смысл, не возлагая задачу по высасыванию его из пальца и притягиванию его за уши целиком и полностью на плечи несчастного больного СПГС созерцателя, экспозиции последнего стабильно пользовались более высокой популярностью и спросом у праздно окультуривающейся публики. Происходило сие досадное недоразумение ввиду того, что Шайзелепкин, невзирая на меньшую степень его одаренности, при всем при том был несравнимо более умелым продавцом, нежели Дупоруков, и с рождения умел как следует прорекламировать, завернуть в нужную обертку, правильно подать и, что называется, грамотно впарить плод своей бесталанности. Все это, естественно, не могло не огорчать и не печалить нашего героя, на почве чего он, то и дело разочаровываясь в жизни и впадая в депрессии из-за творческих фиаско, собственной непонятости, неоцененности и, как следствие, невостребованности, подолгу отсиживался в своей мастерской в компании с подорванной верой в человечество и алкогольным коктейлем авторской разработки, сокрушаясь по поводу несправедливости нашего бренного мира.
Так, за две недели до описываемых событий почти незаметно прошла дупоруковская выставка-инсталляция с, казалось бы, интригующим, позаимствованным у Пушкина названием «Окно в Европу». Композиция выставки была представлена единственным арт-объектом, в роли которого выступал установленный под стеклянным куполом мощный телескоп. Концепция данной импровизированной мини-обсерватории (которая, по идее, должна была открывать свои двери страждущим приобщиться к труЪ-искусству лишь в ясную безоблачную погоду, а еще лучше – ночью, но которая тем не менее была доступна для посещения вне зависимости от условий видимости звездного неба и только в дневные часы) заключалась в том, что заглядывавший в окуляр наблюдал одноименный с частью света и героиней древнегреческой мифологии галилеев спутник Юпитера. Для этих целей прибор надлежало подвергать периодической настройке, чем трепетно, с ревностной любовью и заботой собственноручно и занимался автор сия блестящего образчика вершины человеческой мысли. Тем самым, подобно тому как прорубленное Петром окно в Европу наземную должно было способствовать оцивиливанию варварского русского народа, прорубленное Николой окно в Европу космическую также призвано было повышать культурный уровень дремучего российского населения, но, в принципиальное отличие от петровского, не размеренно и постепенно, а самым кардинальным и драматическим образом – так, чтобы всякая забредшая на инсталляцию темная деревенщина, лишь всего одним глазком взглянув в аппарат (как будто в обычный монокулярный телескоп можно посмотреть как-либо иначе), тотчас же на месте образовывалась, просвещалась и выходила на улицу уже высокодуховным интеллигентом.
И несмотря на то, что щедро предоставленной Николой в общественное пользование машиной моментального просвещения, как уже было сказано, мог за умеренную плату воспользоваться любой желающий, таких желающих, к сожалению, набралось совсем немного: за все время проведения выставки мгновенную добровольную дебыдлизацию в дупоруковском изобретении прошли всего пять неотесанных мужланов и одна неотесанная мужланка.
Зато, прибыв к павильону, где демонстрировалось новейшее вытворение его коллеги по промыслу, Дупоруков тут же врезался в выстроившуюся у входа многолюдную шеренгу. Задетый за живое, он лишь титаническим усилием воли заставил себя проглотить этот еще один тяжелейший удар судьбы по самолюбию, едва удержавшись от того, чтобы не начать во весь голос покрывать матерными, отнюдь не свойственными высокой культуре словами все это полуграмотное сборище ни черта не смыслящих в качественном искусстве ценителей китча, что дружным мушиным полчищем по инерции слетелось бездумно поглазеть на очередную выпущенную в свет под распиаренным брендом ничего не стоящую пустышку.
Обиженно закусив губу, распираемый гневом от собственного бессилия Николушка за неимением лучшего вынужден был, с трудом пересилив глубокое отвращение к сплошь окружавшим его люмпен-маргиналам, смиренно занять свое место в конце быдлоколонны.
Отстояв очередь за злосчастным билетом, Дупоруков, затаив дыхание, опасливо прошествовал внутрь павильона, где его очам во всей красе предстало то, что на сей раз вышло из-под зарубовских шаловливых ручонок. Новоявленное детище шайзелепкинского гения, названное им не иначе как «Засов снаружи двери», имело вид, как ни парадоксально, самой обыкновенной выкрашенной белым лаком деревянной двери в такой же белой деревянной дверной коробке, одиноко установленной в центре круглого, тоже деревянного, но уже радикально-черного постамента; над черной дверной ручкой, опять-таки в полное оправдание наименования композиции, размещался запиравший дверь, также черный, железный засов.
Не веря своим глазам, Никола, время от времени замирая, прищуриваясь и загадочно хмыкая, несколько раз обошел арт-объект кругом, точно бы подозревая, что какие-то детали принадлежавшей топорищу Заруба галиматьи ускользают от его пытливого взора, и что он, таким образом, видит не весь архитектурный ансамбль целиком, а лишь какую-то его часть. Так, впрочем, и не прозрев по итогам наматывания шести кругов, отказывавшийся что-либо понимать Дупоруков застыл на месте и, насупившись, угрюмым взглядом вперился в дверь.
– Засов снаружи двери… Как полагаете, коллега, что хотел сказать автор? – вдруг донесся до Николы аристократический голосок стоявшего поодаль мужчины. Благородного вида джентльмен лет сорока был облачен в элегантный костюм-тройку и, судя по внешнему виду, имел дворянское происхождение. Свой вопрос он адресовал еще одному точно такому же явно голубых кровей господину, очевидно изволившему пожаловать с ним сюда в одной свите. Взяв паузу на обдумывание, второй театрально задрал нос и, придав лицу умное выражение, таким же манерным породистым голосом, что и первый, высокопарно заизлагал:
– Видите ли, мой достопочтенный друг… Сим искусным творением автор, нисколь в том не сомневаюсь, красноречиво экспонирует нам столь часто и столь опрометчиво недооцениваемую многими неискушенными обывателями значимость контекста для понимания сущности того или иного явления… Ведь что по своей глубинной сути есть засов? Конечно, когда мы произносим «засов на двери», всем нам – людям психически здоровым и рациональным – в мозгу тотчас рисуется эдакое незамысловатое запорное устройство, установленное непременно изнутри двери, то бишь со стороны какого бы то ни было помещения… Да и как, в конце концов, может быть по-иному? Кому в здравом уме, в самом деле, взбредет в голову размещать оное снаружи двери? Ради чего, скажите мне? Дабы оберегать находящегося на улице от тех угроз, что способны исходить от заключенного в пределах строения? «Абсурд!» – ответите вы и будете правы, но только лишь на первый, обманчивый взгляд…
– Прошу прощения, сударь, – вежливо прервал его спутник, – а как же прикажете быть с, скажем, конюшнями, коровниками и подобного рода вольерами, засовы на которых, насколько даже мне – человеку от сего далекому – ведомо, располагают как раз таки снаружи воротины, дабы заточенные в оных создания не соблаговолили вырваться на свободу?
– Прелестное замечание, мой проницательный товарищ! – похвалил второй интеллигент первого и, важно поправив галстук, величаво продолжил: – Но, видите ли, мой сердечный приятель, дело в том, что вы чересчур вдаетесь в частности. В плоскости обозреваемого нами экспоната совершенно очевидным, на мой скромный взгляд, представляется то, что автор имел в виду засов на двери именно обыкновенного дома, привычного нам с вами людского жилища. И именно сквозь данную призму восприятия перед нами в полный рост предстает, если позволите, отсталость и узость мышления Хомо сапиенс, выражающаяся в его слепой приверженности выработанным ранее паттернам, знакомым образам и моделям, усвоенным с раннего детства мнимым аксиомам. Простота и обыденность такой элементарной вещи, как засов, кажутся нам столь бесспорными и априорными, видятся нам настолько непреложной истиной, что, слыша словосочетание «засов на двери» без сопровождения его контекстом, наш зашоренный разум сей же миг спешит преподнести нам расположенность такового механизма внутри дома как нечто само собой разумеющееся, заведомо правильное и единственно возможное. Меж тем, однако, стоит добавить к оному сочетанию всего одно конкретизирующее обстоятельство «снаружи», как устоявшийся в общепринятом сознании шаблон немедля рвется, обнажая под собой подлинную природу вещей, что вечно скрывается от нас за связанностью наших суждений принятыми нами самими же представлениями и правилами, в кои мы себя, пускай даже сами того не сознавая, по доброй воле заковываем. Этакий непреодолимый порочный круг мыслительной деятельности человека разумного…
– И тем самым подчеркивая если не превратность, то как минимум неоднозначность той системы координат, в которой нам, как сторонним наблюдателям, волею богов суждено воспринимать и оценивать все окружающие нас предметы и феномены… – с понимающим видом кивнув, развил глубокую, как Марианская впадина, мысль компаньона первый эстет.
– Именно так! – торжествующе воскликнул второй. – Ну а пронзительный, намеренно подчеркнутый автором контраст между черными и белыми элементами, в свой черед, символизирует извечный конфликт меж холодным беспристрастным умом с одной стороны и непрестанно чинящей ему препятствия грудой ложных исходных предпосылок с другой…
– А ведь что-то в этом всем и правда есть, как бы ни хотелось мне того признавать… – вздохнув, удрученно пробормотал подслушивавший вдохновенный разговор Дупоруков.
Не желая более внимать интеллектуальной беседе двух тонких знатоков искусства и еще больше расстраиваться, Никола развернулся и, подавленный, вяло поплелся на выход.
«Неужели и у этой вульгарной бестолочи Шайзелепкина в кои-то веки удалось заложить в свою поделку годный посыл? – не переставал мысленно рвать на себе волосы Дупоруков по пути домой. – Шаблонность мышления, значит… Как там говорят англичане? To think outside the box…1 Реально же ведь глубоко, не поспоришь… Гнусный Заруб, в который раз меня обставил и перещеголял! Ну ничего. Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
Придя домой, непревзойденный гений, которого в очередной раз превзошли, схватил из холодильника бутылку «Хеннесси», «Фанты» и «Блю Кюрасао», которые, смешанные в нужных пропорциях, как вы, думаю, поняли, и являлись компонентами того самого оригинального дупоруковского микса (наш месье, не будь дурак, тоже знал толк в извращениях), и, замотивированный ошеломительным успехом конкурирующей фирмы, безотлагательно, даже не переодевшись в рабочую одежду, проследовал к себе в мастерскую, где, вдохновленный глубинным месседжем шайзелепкинской экспозиции, проработал до поздней ночи.
Поскольку Николе Тарасовичу – так, кстати, величали нашего героя по батюшке – в целях поддержания душевного равновесия жизненно необходимо было постоянно доказывать всем вокруг ошибочность их воззрений (как говорится, не мог спать спокойно, пока в интернете кто-то был неправ) и регулярно самоутверждаться за счет одержанных в таких спорах побед, а в тот день его вера в себя, наоборот, лишь вновь пошатнулась, в ту ночь он очень долго не мог уснуть, отбиваясь от беспокойных мыслей и тревожных воспоминаний. Да и как, в конце концов, можно было безмятежно предаваться Морфею, когда в мире было столько идиотов, верящих в миф о большей успешности двоечников и троечников по сравнению с хорошистами и отличниками, считающих, что двадцать тысяч лье под водой – это глубина погружения, а не пройденное под поверхностью моря расстояние, да и вообще искренне удивляющихся, что вероятность совпадения дней рождения хотя бы у двух людей в группе, состоящей всего лишь из двадцати трех человек, превышает пятьдесят процентов?
***
«Закройте уши ладонями и попробуйте проиграть в голове звук, который вы еще ни разу не слышали. Хотя нет, стоп, подождите-ка… Здесь ведь так уже не прокатит. В случае со звуковыми волнами такая постановка задачи будет не совсем корректна: физиологически никак нельзя услышать и, следовательно, мысленно воспроизвести то, что находится за пределами диапазона слышимости, а вот представить в голове цвет, в отличие от звука, наверное, в теории все-таки можно, невзирая даже на то, что абсолютно точно так же, собственно, физиология не позволяет нам увидеть то, что находится за пределами диапазона видимости.
Хм… И как же тогда мне начать сегодня свой спич?.. Окей, зайдем с другой стороны.
Ну что, музыкантики, нот всего семь? Ой… Ну дава-айте, дава-айте – сейчас вы все тут, конечно же, дружно броситесь поправлять меня, что нот, если мы говорим про октаву, вообще-то не семь, а двенадцать, ну а уж если рассматривать целиком всю палитру нотного разнообразия на примере обычно применяемых в традиционной музыке звуков – от самого начала субконтроктавы и вплоть до самого конца пятой октавы, – то аж целых сто восемь. И это все применительно к одному лишь равномерно темперированному строю, а ведь существует еще микрохроматика с ее микроинтервалами, микротональные музыкальные инструменты и исполняемая на них микротоновая музыка, где нотоассортимент еще больше!