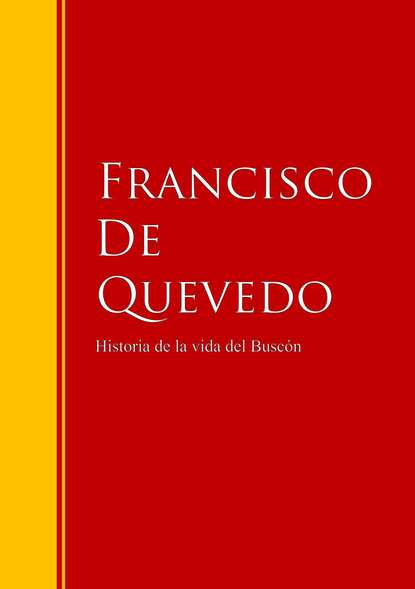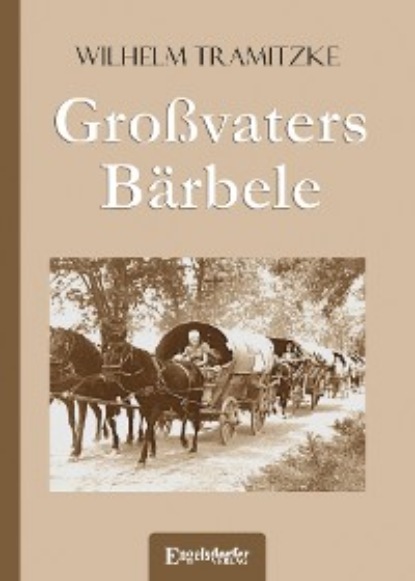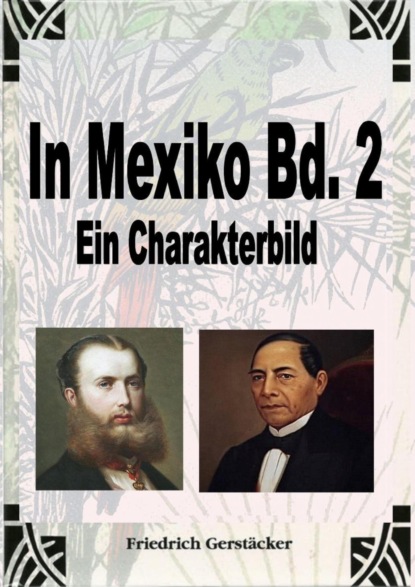Трикстер

- -
- 100%
- +
Медленно, с трудом преодолевая оцепенение, охватившее всё его тело, Казимир поднял взгляд от Пьеро и обвёл им всю мастерскую. И тут его охватил новый, леденящий душу ужас, по сравнению с которым прежние его страхи казались детской забавой.
Он не был один.
Он чувствовал это каждым нервом, каждой порой своей кожи. Пространство чердака, прежде бывшее пустым и безжизненным, теперь было наполнено, переполнено незримым присутствием. Он не видел никого, кроме своих кукол, но ощущал на себе десятки взглядов. Эти взгляды были тяжёлыми, пристальными, лишёнными всякого выражения, кроме того самого немого, бездонного ужаса, что источал шёпот Пьеро. Они исходили ото всюду: с полок, из тёмных углов, из-под груды тряпок, где хранились его запасы. Каждая марионетка, каждая кукла, каждый резной лик, даже те, что были разобраны и лежали в ящиках, – все они смотрели на него. Он не видел, как поворачиваются их стеклянные глаза, ибо глаза сии были неподвижны, но он с абсолютной, не оставляющей места сомнениям уверенностью знал, что их внимание, тёмное и сосредоточенное, теперь всецело принадлежит ему.
Он силился крикнуть, но из его горла вырвался лишь сдавленный, хриплый звук, похожий на предсмертный хрип. Он попытался встать, но ноги его не повиновались, они стали мягкими и ватными, как у тряпичной куклы. Паралич ужаса сковал его члены. Он мог лишь сидеть и впитывать в себя этот множественный, безмолвный взор, ощущая, как его собственная воля, его «я», растворяется в этом океане чужого, деревянного сознания. Шёпот Пьеро продолжал литься в его разум, и теперь он начал различать в нём новые, ещё более жуткие ноты – не просто страх, но и вопрос. Тупой, безнадёжный, бесконечно печальный вопрос, обращённый к нему, к своему творцу, к своему повелителю и мучителю. Вопрос о том, зачем? Зачем он вырвал их из сладкого небытия, зачем обрёк на эти вечные, безрадостные пляски, на жизнь без воли, без надежды, без цели?
И тогда Казимир, наконец, постиг всю чудовищную, невыразимую правду. Ритуал не провалился. Он увенчался успехом, успехом столь ужасающим и полным, что его последствия превосходили самое пылкое воображение. Он не призвал демона из преисподней; он не нуждался в нём. Он совершил нечто неизмеримо более страшное. Он, в своём слепом, эгоистичном отчаянии, силой своей извращённой воли, своего неприкаянного духа, сотворил жизнь. Он вдохнул её в мёртвую материю, в холодное дерево и стекло. Но жизнь сия была уродливой, неполноценной, лишённой всего, что делает существование терпимым – лишённой радости, света, свободы. Он создал не слуг и не поклонников. Он создал сонм страдающих, мыслящих лишь категориями боли и страха, существ, заточённых в своих немых телах, и единственным, что их теперь связывало с миром, был их творец – он, Казимир. Они были привязаны к нему невидимыми нитями сострадания, ненависти и той бездонной, вселенской тоски, что теперь наполняла мастерскую, делая воздух густым и трудным для дыхания.
Он медленно, с нечеловеческим усилием, повернул голову, и его взгляд встретился с пустыми глазницами Коломбины. И в их стеклянной глубине, в том, как в них преломлялся тусклый свет, он увидел то же самое немое отчаяние, ту же самую безответную мольбу. Арлекин, застывший в своём дурацком прыжке, казалось, излучал волны панического, невыразимого словами ужаса перед тем вечным карнавалом, что стал его участью. Вся мастерская, всё это скопище безмолвных актёров, превратилось в один большой, живой, страдающий организм, и сердцем этого организма был он, Казимир.
Шёпот Пьеро вдруг прервался. На смену ему пришла тишина, но тишина эта была в тысячу раз ужаснее любого звука. Это была тишина напряжённого, невыносимого ожидания. Они ждали. Ждали, что он, их бог и создатель, их палач и кукловод, теперь будет делать. Ждали ответа на свой безмолвный, всеобъемлющий вопрос.
И Казимир, глядя в эти множественные, полные немого ужаса глаза, понял, что никакого ответа у него нет. Есть лишь леденящий душу страх, стыд и осознание того, что он совершил непоправимое. Двери его личного ада, кои он так усердно пытался открыть, наконец распахнулись. Но он не нашёл за ними ни власти, ни славы. Он обнаружил лишь бездну, и теперь ему предстояло вечно смотреть в неё, в то время как бездна, воплощённая в его же творениях, смотрела в ответ.
Глава 2. Первая украшенная душа
Невыносимая тишина, что воцарилась в его покоях после того, как последний отзвук колокола, отсчитавший полночный час, растаял в спёртом воздухе, была отнюдь не пустотою, но густой, вязкой субстанцией, наполненной биением его собственного сердца – мерзким, глухим, подобным ударам лопаты о сырую землю. Казимир, не в силах сомкнуть воспалённые веки, возлежал на одре, что более походил на погребальные дроги, нежели на ложе для отдыха, и вслушивался в эту тишину до тех пор, пока в ушах его не начинал стоять нарастающий, неумолимый гул, подобный гулу подземных вод, подтачивающих фундамент мироздания. Комната, озарённая зловещим, колеблющимся светом единственной свечи, чей огонёк боролся с наступающим мраком, словно предсмертная агония с вечным забвением, была полна призраков, порождённых самой материей этого упадка: тяжёлые, тёмные гобелены, на коих сцены былых охот и пиршеств истлели и слились в неясные, пугающие очертания; пыль, ленивыми хлопьями кружащаяся в потоках мертвенного лунного света, что пробивался сквозь высокое, узкое окно, подобно лучу, проникающему в склеп; и повсюду – его безмолвные детища, марионетки, застывшие в причудливых, нелепых позах, их стеклянные глаза, казалось, впитывали этот полумрак и отражали его обратно, умноженным в десятки раз. Но сквозь наваждение, сквозь гул в ушах и тяжкое биение сердца, уже несколько ночей кряду прокрадывался иной звук – едва уловимый, подобный шелесту крыс за обшивкой стен, или, быть может, шуршанию червей, точащих гробовую доску.
Сперва он отмахивался от него, приписывая сему наваждению измождение сил и расстройство нервов, доведённое до крайней степени болезненной восприимчивости. Но звук сей не утихал; напротив, он крепчал, обретая смутные очертания, превращаясь из невнятного шороха в подобие шёпота. Шёпот сей был лишён чего-либо человеческого; он был подобен скрипу старого пера по пергаменту или свисту ветра в щели заброшенного склепа. И вот, в эту ночь, когда сама луна, скрываясь за рваными саванами туч, словно стыдилась озарять своим призрачным светом сие место скорби и безумия, Казимир, затаив дыхание и чувствуя, как ледяной пот струится по его вискам, начал различать в нём слова.
Слова сии были обрывками, клочьями, вырванными из контекста чужой, предсмертной агонии. «Нож… холодно…» – прошелестело где-то у самого изголовья, заставив его вздрогнуть и судорожно вцепиться в сырую от пота шерсть одеяла. «…не хочу… мать…» – донёслось из угла, где тень от шкафа с куклами отбрасывала на стену очертания, подобные висельнику на виселице. И затем, яснее и отчётливее, полное невыразимой тоски и ужаса: «…монета… моя монета… в стене… у фонтана Слепого Карла…»
Сердце Казимира, что мгновение назад стучало, словно пытаясь вырваться из клетки груди, замерло. Некое новое, доселе неведомое чувство начало шевелиться в его глубине, подобно гаду, пробуждающемуся от зимней спячки. Циничное, жадное любопытство. Он лежал недвижим, вслушиваясь в этот голос из небытия, и постепенно, с ужасающей ясностью, начал осознавать его природу. Это не было порождением его рассудка; это было чужое сознание, душа, застрявшая в преддверии вечности и нашедшая щель в его собственном, истончённом до прозрачности духе. Сила, открывшаяся ему в ночь творения Пьеро, была не просто силой оживления бездушной материи; она была ключом, отпирающим дверь в мир теней, и вот теперь сквозь эту дверь что-то просочилось.
Собрав всю свою волю, подавив содрогание, что стремилось вырваться наружу конвульсивной дрожью, Казимир мысленно, не шевеля губами, обратился к этому шёпоту, к этому сгустку чужой памяти и боли.
– Кто ты? – спросил он в тишине своего сознания, и слова его прозвучали подобно удару гонга.
Шёпот смолк, будто застигнутый врасплох. Затем, после паузы, столь тягостной, что Казимиру почудилось, будто сама комната затаила дыхание, последовал ответ – слабый, полный недоумения и страха:
– Я… я не знаю… Всё тёмно… так холодно…
– Вспомни! – мысленно приказал Казимир, и в голосе его мысленном прозвучала сталь, рождённая внезапно вспыхнувшим азартом охотника, учуявшего дичь. – Ты говорил о ноже. О монете. Вспомни!
Подобно тому как луч света, проникнув в тёмный подвал, выхватывает из мрака клочья паутины и груды хлама, так и его воля, его настойчивость принялись рыться в этом распадающемся сознании. И обрывки памяти, чужие, прожитые кем-то другим мгновения, начали всплывать перед его внутренним взором с пугающей, болезненной чёткостью. Он почувствовал на собственной коже – влажную прохладу каменной мостовой, грубую ткань поношенного камзола, липкий страх, сковывающий горло. Узкий, тёмный переулок, пахнущий помоями и грехом. Внезапную тень, напавшую на него сзади. Острую, жгучую боль в спине, удар за ударом, быстрый и безжалостный. И последнее, что он увидел перед тем, как тьма поглотила его, – было жадное, обезображенное злобой лицо грабителя, склонившееся над ним, и блеск той самой, вырванной из сжимающейся ладони, монеты.
– Лео… – прошептало сознание, и в этом шёпоте была вся горечь последнего, предсмертного осознания. – Меня звали Лео…
И тогда Казимир всё понял. Это был дух того самого молодого вора, что был зарезан несколько дней назад в соседнем переулке – происшествие, о коем судачила вся округа, но что не вызвало в душе Казимира ничего, кроме мимолётного презрения к грязной жизни и столь же грязной смерти обитателей городского дна. Теперь же эта грязная смерть стала его достоянием, его трофеем. Он не ощутил ни капли жалости, ни тени сострадания к сей растерзанной душе, скитающейся в беспросветном мраке. Напротив, его охватило лихорадочное, пьянящее возбуждение. Он обрёл не просто голос; он обрёл слугу, свидетеля, источник информации из мира, лежащего по ту сторону бытия.
– Монета, Лео, – настаивал он, мысленный голос его звучал властно и холодно. – Ты сказал – у фонтана Слепого Карла. Где именно? Говори!
И дух, покорный его воле зашептал снова, и в шёпоте его послышалась странная покорность, обретенная надежда на то, что исполнение этого приказания принесёт ему успокоение. Он описывал трещину в старой каменной кладке, рыжую от ржавчины водосточную трубу, рыхлый раствор меж кирпичей, где он, в предчувствии погони или внезапной расправы, спрятал своё единственное, добытое неправедным путём, но так и не потраченное сокровище. Он описывал это с трогательной, почти детской обстоятельностью, и Казимир, лежа в своей постели с широко открытыми, горящими лихорадочным блеском глазами, слушал его, и на губах его, сухих и потрескавшихся, появилась улыбка – первая за многие месяцы, улыбка, лишённая всякой теплоты, улыбка сфинкса, взирающего на погребённые в песках времени тайны. Он не просто слышал голос из мира теней; он беседовал с ним. Он допрашивал смерть и получал ответы. И в этой леденящей душу беседе рождался новый Казимир – не жертва обстоятельств и меланхолии, но кукловод, чьи пальцы отныне могли дергать не только верёвочки марионеток, но и тончайшие, незримые нити, что связывают мир живых с царством вечного мрака.
Одержимость, что вспыхнула в нём подобно огню на погребальном костре, не терпела отсрочек. Едва первые лучи утреннего солнца, бледные и болезненные, словно свет, просачивающийся сквозь толщу могильной земли, коснулись подоконника, Казимир, не сомкнувший глаз и не находивший покоя, сорвался с своего ложа. Следы изнурительной ночи – багровые тени под глазами, нервный тик, подёргивающий уголок рта, – лишь подчёркивали лихорадочную энергию, излучаемую всей его исхудавшей фигурой. Он не стал тратить время на умывание или скудную трапезу; его единственной пищей был теперь ядовитый нектар обретённой власти, его единственным питьём – леденящий восторг от слияния с чужим страданием. Шёпот духа Лео не умолк с приходом дня; он стал тише, но пристальнее, вплетаясь в самую ткань его сознания, подобно навязчивой мелодии, что звучит без перерыва в опустевшем зале.
Его взгляд, тяжёлый и пронзительный, упал на Пьеро. Кукла, его первое и самое совершенное творение, стояла в углу, её поза была неестественно грациозной и оттого ещё более зловещей. Белое лицо с застывшей маской скорби теперь виделось ему не просто изделием рук человеческих, но сосудом, алтарем, порталом. Если он сумел услышать шепчущую в небытии душу, то не сможет ли он заставить её проявить себя в этом мире? Не сможет ли он, подобно дирижёру, управляющему послушным оркестром, заставить бездушную материю танцевать под музыку, что звучит из-за грани смерти?
Мысль сия, столь чудовищная и соблазнительная, овладела им всецело. Схватив куклу с почти грубой решимостью, он усадил её на стул посреди мастерской, в самом центре круга, озаряемого косыми, пыльными лучами утра. Сам же он отступил на несколько шагов, ощущая, как по его спине пробегают ледяные мурашки предвкушения. Он не собирался прикасаться к верёвочкам; нет, это был бы старый, жалкий фокус. Ныне ему требовалось нечто большее – чистая воля, сплетённая с эхом чужой агонии.
Он закрыл глаза, погружаясь в ту зловещую тишину, что царила в его собственном черепе, и начал искать. Искать тот самый голос, тот клубочек чужого сознания, что запутался в паутине его разума. И он нашёл его легко, будто тот и не думал скрываться, – слабый, полный страха и недоумения шёпоток, похожий на плач покинутого в темноте ребёнка.
– Лео, – мысленно произнёс Казимир, и имя сие прозвучало не как обращение, но как заклинание, как приказ. – Я здесь. Я – твой якорь. Иди ко мне. Иди к этому телу, к этой форме, что я для тебя приготовил.
Ответом был лишь усилившийся шёпот, полный ужаса: «Не могу… Тёмно… Холодно…»
– Ты можешь! – мысленно вскричал Казимир, и воля его, сжатая в тугой, раскалённый шар, устремилась к кукле. – Вспомни, что значит двигаться! Вспомни свои пальцы, свои мускулы! Я даю телу форму, а ты – память о движении! Действуй!
Он сосредоточил всё своё существо, всю свою психическую энергию на руке Пьеро, лежавшей на колене. Он представлял себе, как нервы и сухожилия, коих не было в дереве и гипсе, должны были бы наполниться жизнью, как электрический ток должен был бы пройти по ним, заставив пальцы дёрнуться. Процесс сей был мучительным, изнурительным; он чувствовал, как пот ручьями стекает по его вискам, как в висках стучит набат, предвещающий разрыв сосудов. Он не просто приказывал; он втискивал чужую волю, чужое остаточное сознание в бездушную оболочку, он насиловал саму материю, заставляя её притвориться живой.
И вдруг – он увидел. Палец Пьеро, длинный, изящный, сделанный из полированного дерева, дёрнулся. Это было не плавное, осмысленное движение, но резкое, судорожное вздрагивание, точь-в-точь как предсмертная судорога, конвульсия расстающейся с телом жизни. Зрелище сие было столь отвратительным и противоестественным, что у Казимира перехватило дыхание. Но это был успех. Первый, никем не виданный плод его адского труда.
– Да! – прошипел он уже вслух, и голос его сорвался на хрип. – Рука! Подними руку!
Он снова погрузился в состояние концентрации, сплетая свою волю с воспоминаниями Лео о движении. И кукла повиновалась. Её правая рука отделилась от колена и поднялась в воздух. Движение это было резким, рваным, механическим и в то же время ужасным; оно напоминало не танец марионетки, а последний взмах конечности утопающего, который вот-вот скроется под водой. Рука зависла в воздухе, её пальцы сведённой судорогой ладонью вниз.
Казимира охватило опьяняющее головокружение. Он не просто управлял куклой; он чувствовал это. Он чувствовал чужую боль, чужой страх, отчаянное сопротивление небытия, которое он преодолевал грубой силой своего духа. Это было слияние с чужой агонией, и ощущение это было столь же сладостным, сколь и порочным, подобно глотку крепчайшего яда, что сжигает внутренности, но дарует невиданные видения.
– Карта, – прошептал он, обращаясь к голосу в своей голове. – Ты говорил о месте. Покажи мне. Покажи на карте.
Задыхаясь от напряжения, он подошёл к столу, где на грубом листе бумаги набросал углём по памяти схему района вокруг фонтана Слепого Карла. Он положил карту на пол перед куклой.
– Веди нас, Лео, – произнёс Казимир, и в голосе его звучала уже не просто власть, но некое благоговение перед творимым им кощунством. – Укажи, где твоё сокровище.
Он снова сосредоточился, вливая всю свою энергию и всё остаточное сознание вора в неподвижную фигуру Пьеро. Кукла затрепетала вся, словно по ней пропустили ток; её суставы затрещали, а голова упала на грудь с жуткой, имитирующей смерть безысходностью. Но её правая рука, та самая, что была поднята, снова дёрнулась. Она не опустилась плавно, а рухнула вниз, и указательный палец с сухим стуком ударил в пергамент. Казимир, затаив дыхание, приблизил своё лицо, обезображенное гримасой напряжённого триумфа. Дрожащий кончик пальца указывал на крошечный, нарисованный углём квадратик – основание старой водосточной трубы у стены позади фонтана.
В тот миг связь оборвалась. Рука Пьеро бессильно упала, а сама кукла замерла в своей прежней, мёртвой позе, будто ничего и не происходило. Шёпот в голове Казимира стих, сменившись глухим, оглушающим гулом усталости. Но в душе его бушевал огонь. Он откинулся назад, сидя на полу среди щепок, клея и обрывков верёвок, и залился тихим, срывающимся, истерическим смехом. Он сделал это. Он заставил тень танцевать. Он заставил смерть указывать ему путь. И в этом ужасающем, богохульном акте он почувствовал вкус подлинной, абсолютной власти – власти кукловода, дергающего за ниточки, протянутые в самую бездну.
Одержимость, что вела его, была точна и безжалостна, как лезвие ножа, что оборвало жизнь несчастного Лео. Казимир, не медля ни мгновения, накинул на плечи поношенный плащ, цветом напоминавший влажную землю на свежей могиле, и выскользнул из своего склепа в хмурый, неприветливый день. Небо было затянуто сплошным, свинцовым саваном туч, из которых изредка моросила мелкая, назойливая дождевая пыль, оседая на лица прохожих подобно холодной росе на надгробиях. Он двигался по улицам, не видя и не слыша ничего вокруг; гул города был для него не более чем отдалённым шумом подземного потока, а силуэты людей – лишь тенями, мелькающими в преддверии вечного мрака. Весь его дух, вся его воля были сконцентрированы на одной-единственной точке в пространстве – на том месте, что было отмечено дрожащим пальцем его ужасного посредника.
Фонтан Слепого Карла, давно уже высохший и превратившийся в памятник собственного забвения, предстал перед ним – унылое сооружение из потрескавшегося камня, где облик святого, чьи глаза были навеки выщерблены временем, являл собою зрелище столь же жалкое, сколь и пророческое. Воздух здесь был насыщен запахом гнили и человеческих отбросов. Казимир, не озираясь, с сердцем, замершим в ожидании то ли величайшего триумфа, то ли окончательного низвержения в безумие, обошёл фонтан и упёрся взглядом в грубую каменную кладку задней стены. И он увидел её – ту самую, описанную шёпотом из небытия, рыжую от ржавчины водосточную трубу, а под ней – зияющую, подобной ране, трещину в швах между камнями.
Словно охотник, подкравшийся к своей добыче, он опустился на колени, не обращая внимания на липкую грязь, проступающую сквозь ткань его одежд. Его длинные, бледные пальцы, привыкшие к тончайшей работе с нитями и деревянными суставами, с неожиданной силой впились в рыхлый, поддавшийся влаге и временем раствор. Он копался в нём с лихорадочной поспешностью могильщика, спешащего скрыть свидетельство преступления. Пыль и крошки камня забивались под его ногти, но он не чувствовал ничего, кроме нарастающего, опьяняющего жара в груди. И вот, когда казалось, что сама стена вот-вот истощит его терпение, кончики его пальцев наткнулись на нечто твёрдое, маленькое, холодное.
Он замер, и на миг весь мир сузился до этого крошечного предмета, затерянного в каменной громаде. Он медленно, с почти благоговейной осторожностью, извлёк его. Это была монета. Одна-единственная, старинная, потёртая по краям монета. Она была грязной, покрытой окислами и пылью, и оттого казалась почти чёрной. Никакой ценности, разумеется, она в себе не несла; её жалкий металлический блеск, едва проглядывающий сквозь грязь, не мог осветить и шага в кромешной тьме его существования. Но в тот миг, когда он сжал её в своей ладони, ощутив её холодную, неумолимую реальность, она показалась ему драгоценнее всех сокровищ всех монархов мира.
Ибо это был не просто кусок металла. Это был вещественный, осязаемый плод его греховного труда. Доказательство. Неопровержимое и окончательное. Тень, чей голос он слышал в своей голове, чью агонию он заставил танцевать в теле куклы, была не порождением горячки; она была реальна. И он, Казимир, сумел вырвать у неё сию крошечную, ничтожную тайну. Он протянул руку за пределы бытия и прикоснулся к тому, что принадлежало смерти, и смерть отдала ему сию малую дань.
Он не испытывал радости, нет; это чувство было слишком жалким и бренным для подобного момента. Он испытывал нечто большее – холодное, всепоглощающее, безразличное ко всему ликование духа, что нашёл наконец своё истинное призвание. Страх, что прежде тлел в нём, как тлеют угли под пеплом, был окончательно затоптан и погашен. На смену ему пришла новая, могучая страсть – холодная, расчётливая жадность. Но жадность не к золоту или земным благам; его алчность была демонической. Он жаждал власти. Власти над тем, что лежит по ту сторону.
Он вернулся в свою мастерскую, не ощущая под ногами мостовой. Монета, зажатая в его кулаке, казалось, жгла ему ладонь своим ледяным, потусторонним холодом. Заперев дверь на тяжёлый засов, он опустился в своё кресло, в самое сердце своего царства – царства безмолвных кукол и безгласных теней. Он разжал пальцы. Монета лежала у него на ладони, тёмная, невзрачная, но обладающая для него большей ценностью, чем сама корона. Он принялся вертеть её пальцами, всматриваясь в стёртые временем очертания профиля какого-то забытого короля, в едва различимые буквы легенды. Каждый блеск, каждый поворот её граней в тусклом свете комнаты говорил ему о его силе.
И взгляд его, поднявшись от сего первого греховного плода, медленно обвёл его творения – марионеток, что стояли и сидели вокруг, застывшие в своих вечных, искусных позах. И в тот миг он увидел их в совершенно новом свете. Это были уже не произведения искусства, не дети его таланта и тоски, не попытки обмануть смерть через подобие жизни. Нет. Теперь он видел в них нечто иное. Они были инструментами. Пустыми сосудами. Безупречными, безвольными телами, лишёнными души, ожидающими, пока он, великий кукловод, не наполнит их содержимым из своей ужасной коллекции. Каждая из этих кукол была потенциальным вместилищем, готовым принять в себя шепчущую, полную страха и боли, душу, которую он мог бы поймать в свои сети и подчинить своей воле.
Его губы растянулись в улыбке, лишённой всякого тепла, – улыбке сфинкса, ведающего ответ на загадку, что лежит по ту сторону смерти. Он поднялся с кресла и медленно, с ощущением власти, подошёл к большому резному шкафу, где в строгом порядке, словно знатные гости на балу, размещались его самые изысканные творения – куклы, изображавшие горожан, аристократов, учёных, дам в пышных платьях. Его взгляд скользнул по их фарфоровым лицам с нарисованными улыбками и стеклянными глазами, пока не остановился на одной – фигурке знатного горожанина, одетого в бархатный камзол, с важным и несколько надменным выражением лица.
Казимир медленно протянул руку и коснулся холодной фарфоровой щеки куклы. Прикосновение это было не ласковым, но собственническим, полным леденящего душу предвкушения.
– Ну что же, – прошептал он, и его шёпот был слаще яда и звучнее любого колокола. – Кого мы пригласим на следующий сеанс?
Вопрос это повис в спёртом воздухе мастерской, не требуя ответа, ибо ответ был уже ясен ему самому. Он был риторическим, как риторична молитва в устах атеиста. Он знаменовал собой начало. Начало великой, ужасающей охоты, где он был и охотником, и ловцом душ, и тем, кто дирижирует танцем мёртвых под нескончаемый, доносящийся из бездны, шёпот.
Глава 3. Механика шумаска
Опустошённые улицы города, подобно проржавевшим артериям некогда живого исполина, извивались в предрассветном тумане, что стелился по мостовой густым, почти осязаемым саваном. Казимир шел по ним, ощущая себя призраком, затерявшимся в лабиринте собственных мрачных предначертаний. В руке его, сокрытой в кармане сюртука, он сжимал холщовый мешок, и сквозь грубую ткань пальцы его ощущали холодную, отполированную временем маску – лик Пьеро, его немого и всё же красноречивейшего спутника. Тяжесть сего предмета была не столько физической, казалось, он нёс не куклу, но сгустившуюся меланхолию, вырванную им из пыльного небытия чердака и обретшую ужасающую, гипнотическую силу.