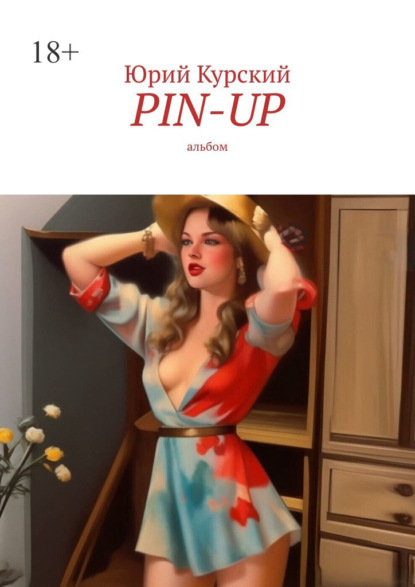Трикстер

- -
- 100%
- +
Целью его был лабиринт старых, оседающих в сырую землю домов на окраине, где одинокое здание, более походившее на склеп для живых, нежели на обитель смертных, притулилось под сенью громадного, иссохшего вяза. То была лавка Грегора, скупщика краденого и хранителя тайн, человека, чья душа, как полагал Казимир, давно истлела, оставив после себя лишь хищный, меркантильный инстинкт. Воздух вокруг был насыщен миазмами заболоченной канавы и чём-то ещё – сладковатым, тленным запахом гниющей древесины и порока, что делало каждый вдох испытанием. Лунный свет, бледный и чахоточный, с трудом пробивался сквозь пелену тумана, отбрасывая на стены зданий неясные, пульсирующие тени, которые словно бы жили своей собственной, непостижимой жизнью, повторяя в немом ужасе конвульсии спящего города.
Казимир не испытывал страха; нет, он был преисполнен иного чувства – лихорадочного, почти болезненного предвкушения, того самого, что заставляет врача вскрывать очередной труп в надежде отыскать источник неведомой болезни. Он переступил порог сего узилища, и колокольчик над дверью издал не весёлый, привычный звон, а некий хриплый, предсмертный стон, будто последний вздох умирающего. Внутри царил полумрак, едва разгоняемый тусклым светом керосиновой лампы, чьё стекло было густо покрыто пылью и паутиной. Воздух был густ и тяжёл от запахов старой кожи, плесени, лака и чего-то металлического, что напоминало запах крови, хотя, быть может, то было лишь игрой воспалённого воображения. Повсюду, на грубо сколоченных полках, в пыльных витринах и просто на полу, громоздились предметы – свидетельства чужих преступлений и потерь: серебряные портсигары с вензелями, чьих владельцев уже не было в живых, потускневшие украшения, некогда блиставшие на шеях красавиц, часы, остановившиеся в тот самый миг, когда их хозяева испустили дух, и груды книг в потертых переплётах, хранивших шепот забытых мыслей.
За прилавком, подобно громадному, бледному пауку в центре своей паутины, восседал сам Грегор. Человек с лицом, лишённым всякого выражения, с глазами холодными и рассчётливыми, как у речного рака. Он был воплощением равнодушия, и казалось, ничто в сём мире не могло вывести его из того оцепенения, в коем он пребывал годами.
– Старина Казимир, – произнёс он голосом, скрипучим, как несмазанная дверь. – Что несёшь? Опять какую-нибудь безделицу с того чёртова чердака?
Казимир не ответил сразу. Он медленно, с почти театральной торжественностью, прошёл к прилавку, его шаги не издавали ни звука, поглощаемые толстым слоем пыли на полу. Он ощущал на себе тяжёлый, подозрительный взгляд Грегора, но это лишь усугубляло его странное, нарциссическое упоение. Он был режиссёром, готовящимся представить своё главное произведение, а сей затхлый склеп – идеальными подмостками для трагедии.
– На сей раз, любезный Грегор, я принёс не вещь, – начал Казимир, и голос его прозвучал тихо, но с металлическим отзвуком, заставившим скупщика насторожиться. – Я принёс… историю.
С этими словами он извлёк из мешка куклу Пьеро. Бледное, искажённое маской скорби лицо комедианта явилось взору, застывшее в немом крике. Глаза из тёмного стекла, казалось, впитывали скудный свет лампы, дабы извергнуть его обратно в виде пронзительного, невыносимого знания. Казимир поставил куклу на прилавок, меж ним и Грегором, с той же осторожностью, с какой жрец возлагает священную реликвию на алтарь.
Грегор фыркнул, но в его глазах мелькнула тень беспокойства.
– Историю? – переспросил он. – И что же может поведать сия старая развалюха? Детские сказки?
– О, нет, – прошептал Казимир, наклоняясь чуть ближе. – Она поведает историю, кою знаете лишь вы да, быть может, тени, что неотступно следуют за вами. Но тени безмолвны. А она… о, она нет.
И тогда Казимир позволил своим губам коснуться нарисованного уха Пьеро, притворяясь, что шепчет ему нечто. Он не издал ни единого звука, но в гробовой тишине лавки сам этот жест был красноречивее любого крика.
И послышался шепот. Тихий, сиплый, словно доносящийся из-под земли, из самой преисподней. Он исходил не от Казимира, чьи губы были сомкнуты в тонкую, жёсткую усмешку, но, казалось, рождался в самой деревянной груди Пьеро, в его пустоте.
– Серебряный канделябр… – прошипел шёпот, заставляя пламя лампы дрогнуть. – …из спальни старого Морлана… Тот, что стоял на камине…
Грегор, слушавший сначала с презрительной усмешкой, замер. Его широкое, бледное лицо начало терять и без того скудные краски, становясь землисто-серым, как у утопленника. Глаза его, обычно столь тусклые, расширились, в них вспыхнул дикий, животный ужас.
– Что за дьявольщина?.. – вырвалось у него, но голос был хриплым и бессильным.
Казимир лишь поднял палец, призывая к тишине, и вновь склонился к кукле. Шёпот продолжил свою леденящую душу исповедь, и каждое слово его было отточенным лезвием, вонзающимся в самую суть Грегора.
– А потом… потом была девочка… Эмили… С куклой, что всегда брала с собой… Ты сказал, она сама убежала в метель… Но её платок… её маленький платок с вышитыми фиалками… Он был у тебя… Ты вытер им рукоять ножа… прежде чем бросить его в реку… Он был влажным… от снега… и от чего-то ещё… тёплого и липкого…
Шёпот звучал монотонно, без всякого выражения, и от этого становился лишь ужаснее. Он не обвинял; он просто констатировал неопровержимые факты. Он вытаскивал на свет божий те мерзости, те крошечные, ничтожные преступления, что Грегор считал навеки похороненными в глубинах своей чёрной совести, и являл их ему во всей их неприглядной наготе.
Казимир же, отступив на шаг, наблюдал. Он наблюдал, как капли пота выступают на лбу скупщика и катятся по его вискам. Он видел, как дрожат его толстые, бескровные пальцы, сжимая край прилавка до побеления костяшек. Он вслушивался в прерывистое, свистящее дыхание Грегора, в сдавленный стон, что вырвался из его груди, когда шёпот упомянул платок. И в этот миг Казимир познал опьяняющий восторг абсолютной власти. Он не угрожал, не требовал, не жестикулировал. Он просто был проводником, режиссёром, демиургом, разыгрывающим на крошечной сцене чужой души пьесу чистого, неразбавленного страха. Он наслаждался зрелищем медленного, неумолимого разрушения, распада той каменной, равнодушной маски, за которой Грегор скрывался все эти годы. Это был не просто шантаж; это было таинство, жертвоприношение на алтаре его собственной, пробудившейся одержимости.
Слова, исходившие из бездыханных уст Пьеро, висели в затхлом воздухе лавки подобно ядовитым испарениям, медленно отравляющим душу. Грегор более не был тем непроницаемым, холодным пауком в центре своей паутины; он превратился в загнанное, дрожащее существо, чья собственная тень, отбрасываемая на груды ненужного хлама, казалось, корчилась в немом ужасе. Капли пота, теперь уже крупные и тяжёлые, скатывались с его висков, оставляя грязные борозды, и падали на прилавок с тихим, мерзким щелчком, подобным звуку падающего в песок насекомого. Его дыхание стало прерывистым, свистящим, и в груди его что-то клокотало, словно подступали слёзы, но слёзы эти были не водой, а расплавленным свинцом стыда и паники.
Казимир же, напротив, пребывал в состоянии лихорадочной, почти экстатической ясности. Он наблюдал за метаморфозой скупщика с холодным, безжалостным любопытством учёного. Власть, которую он ощущал, была подобна крепкому, старому вину, опьяняющему самую душу; она согревала его изнутри, разгоняя вековой лёд апатии, что сковал его сердце. Он не произносил ни слова, предоставив кукле вести свою леденящую душу исповедь, и лишь пальцы его, сцепленные за спиной, сжимались и разжимались в такт собственному учащённому сердцебиению – единственному признаку волнения, что он ещё не в силах был усмирить.
– Зачем?.. – выдохнул наконец Грегор, и голос его был беззвучным шёпотом, обращённым скорее к самому себе, нежели к гостю. – Кто… Кто ты такой?..
Казимир медленно покачал головой, и на губах его заиграла тень улыбки – улыбки сфинкса, ведающего разгадку всех загадок.
– Я – ничто, любезный Грегор, – произнёс он тихо, и голос его звучал как шелест страниц в библиотеке. – Лишь эхо. Лишь тень. Я – тот, кто слушает. А говорит… говорит он.
И он кивнул в сторону куклы. Пьеро смотрел на Грегора своими стеклянными, невидящими глазами, и скорбная маска его казалась теперь не выражением горя, но насмешкой над всем человеческим родом, над его ничтожными тайнами и ужасами.
Паника в глазах Грегора достигла своего апогея. Он отшатнулся от прилавка, задев полку, с которой с грохотом свалилась старая бронзовая чернильница, оставив на полу кляксу, похожую на запекшуюся кровь.
– Заткни его! Заткни эту… эту мерзкую деревянную глотку! – взвыл он, и в голосе его послышались нотки истерии. – Что тебе нужно?! Денег? Бери! Бери всё! – Он судорожно стал рыться под прилавком, вытаскивая старую железную шкатулку, набитую смятыми ассигнациями и золотыми монетами. Руки его тряслись так, что монеты звякали, выскальзывая из пальцев и катаясь по полу, словно разбегающиеся пауки.
Казимир наблюдал за этой унизительной пляской алчности и страха с невозмутимым спокойствием. Деньги, эти разноцветные бумажки и холодные кружочки металла, не вызывали в нём ни малейшего волнения. Они были лишь символом истинной валюты, что он для себя открыл – валюты страха, власти над чужими душами, над их тайнами.
– Деньги? – переспросил он, и в голосе его прозвучала лёгкая, почти презрительная усмешка. – О, нет, мой друг. Деньги – это лишь… плата за молчание. Скромный гонорар за моё неведение. Но того, что я уже знаю, они не смогут искупить. Никогда.
Он сделал паузу, дабы слова его, словно капли кислоты, проникли в самое нутро скупщика.
– Цена твоего молчания, Грегор, и цена моего… невмешательства… будет выше. Значительно выше.
Грегор замер, сжимая в потных ладонях пачку банкнот. Его глаза, полные животного ужаса, вопрошали.
– Я хочу знать, – продолжал Казимир, и его голос приобрёл металлический, не терпящий возражений оттенок. – Я хочу знать всё. О тех, кто, подобно тебе, приносит сюда плоды своих тёмных дел. О твоих «клиентах». Их имена, их адреса, их маленькие, грязные секреты. Ты – паук, сидящий в центре паутины. И я хочу видеть всю паутину. Каждую ниточку. Каждую муху, что запуталась в её липких узлах.
Осознание медленно, как яд, проникло в сознание Грегора. Он понял, что Казимир хочет не просто его уничтожить; он хочет сделать его орудием, проводником, ключом к новым жертвам. И в этом осознании был ужас, превосходящий даже страх разоблачения. Он видел, как его собственная, тщательно выстроенная вселенная порока рушится, поглощаемая ненасытной тенью этого безумного человека и его ужасной куклы.
– Я… я не могу… – простонал он. – Они убьют меня…
– О, – Казимир мягко кивнул, словно принимая этот аргумент. – Безусловно. Но вопрос, мой дорогой Грегор, лишь в том, что случится раньше. Их месть… или моя.
Он снова склонился к Пьеро, и шепот возобновился, тихий, но оттого ещё более невыносимый.
– …а в подвале дома на Могильной улице… та самая бочка с известью… и косточки… маленькие косточки…
– Хватит! – взревел Грегор, зажимая уши ладонями, но шепот, казалось, проникал прямо в его мозг, минуя все преграды. – Хватит! Я согласен! Всё! Я дам тебе всё, что ты хочешь! Имена… адреса… всё! Только забери эту тварь! Убери её от меня!
Казимир медленно, с наслаждением гурмана, протянул руку и взял куклу с прилавка. Шёпот мгновенно прекратился. В лавке воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь тяжёлым, прерывистым дыханием Грегора и тихим поскрипыванием половиц.
– Я вернусь завтра, на закате, – произнёс Казимир, укладывая Пьеро обратно в холщовый мешок с почти нежной заботливостью. – И я ожидаю найти здесь полный список. Будь точен. Память у моего друга… – он похлопал по мешку, – …феноменальна.
Он не оглянулся ни разу, выходя из лавки. Колокольчик над дверью снова издал свой предсмертный стон. Казимир ступил на улицу, и туман, казалось, расступился перед ним, как перед властелином. Он шёл, сжимая в руке мешок с куклой, и в груди его бушевало пламя, которого он не ощущал долгие-долгие годы. Он был жив. По-настоящему жив. Деньги, что он в итоге взял – пачку смятых ассигнаций, сунутых ему в руки обезумевшим Грегором, – были лишь холодным комком в его кармане, не имеющим никакой цены по сравнению с тем опьяняющим нектаром всевластия, что он испил сегодня. Он обладал знанием. Он держал в руках нити чужих судеб. И это ощущение было слаще любого богатства, сильнее любого вина, могущественнее любой королевской власти. Он шёл по спящему городу, и каждый его шаг отдавался в его душе торжествующим маршем победителя, одинокого и страшного в своей новой, обретённой силе.
Возвращение в лоно своего склепа – ибо дом Казимира не мог именоваться иначе – было подобно возвращению алхимика в его лабораторию после того, как он, наконец, отыскал философский камень. Сумрак особняка, обычно давящий и полный укоризны, ныне казался ему благословенным мраком святилища. Он запер тяжёлую дубовую дверь на все засовы, и скрип железа прозвучал для него сладостнее любой музыки, ибо возвещал о начале таинства, о возможности без помех предаться своим новообретённым, ужасным опытам. Воздух в доме был неподвижен, холоден и густ, словно в склепе, и пыль, кружащаяся в лучах единственной свечи, что он зажёг, походила на пепел сожжённых надежд.
Он извлёк Пьеро из холщового мешка и водрузил его на почётное место – на покрытый бархатом пуфик посреди кабинета. Бледное лицо, освещённое снизу дрожащим пламенем, казалось, ожило, и в его скорбной гримасе Казимиру теперь виделась не печаль, но напряжённое внимание соучастника, жаждущего продолжения пиршества власти. Деньги, выманенные у Грегора, он швырнул в ящик стола без малейшего интереса; звон монет был жалким и пустым по сравнению с тем леденящим душу шёпотом, что заставил трепетать толстокожего скупщика.
И тогда им овладела новая, неутолимая жажда – жажда не просто обладания, но усиления сей демонической связи. Он инстинктивно чувствовал, что сила, оживляющая куклу, питается не воздухом и не светом, но некоей иной субстанцией, некоей эссенцией, что исходит из самых тёмных глубин человеческой души. Эмоциями. Страхом. Отчаянием. Унижением. Он был подобен садовнику, открывшему, что его диковинный цветок расцветает пышнее не от воды, а от крови.
«Подпитать её… – прошептал он, впиваясь взглядом в стеклянные зрачки Пьеро. – Надо подпитать её…»
Он присел напротив куклы, склонившись вперёд, и начал нашептывать ей, но на сей раз не факты и не улики, а те самые униженные, полные животного ужаса мольбы, что изрыгал из себя Грегор в минуту своего наивысшего страха.
– Забери её! Убери эту тварь! – прошипел Казимир, пародируя сдавленный, истеричный голос скупщика. – Я дам тебе всё! Только закрой её рот!
Он вглядывался в неподвижные черты Пьеро, ища признаков отклика. Сначала ничего. Лишь холодное дерево и тень от свечи, пляшущая на выщербленной щеке. Но Казимир не сдавался. Он продолжал своё отвратительное действо, снова и снова повторяя мольбы Грегора, вкладывая в них всю гамму пережитого им ужаса – дрожь в голосе, предсмертный хрип, слёзную мольбу. Он был не просто чтецом; он был актёром, вживающимся в роль, высасывающим из памяти каждую каплю чужого страха, дабы преподнести её в качестве жертвы своему безмолвному идолу.
И вот, когда он в очередной раз, с особым надрывом, выкрикнул: «Они убьют меня!», – он узрел нечто.
Уголки нарисованного алого рта Пьеро, всегда опущенные вниз в выражении вечной печали, дрогнули. Это не было игрой света. Нет. Это было медленное, едва заметное, но неумолимое движение. Деревянные губы изогнулись. Из скорбной дуги они превратились в нечто иное – в тонкую, растянутую черту. Черту, лишённую всякой теплоты, всякой человечности. Это была улыбка. Улыбка существа, взирающего на тленность мира; улыбка демона, вкушающего падаль; улыбка безумия, торжествующего над разумом.
Казимир замер, и сердце его на мгновение остановилось, заледенев в груди от восторга и ужаса. Он добился своего. Связь была не миражом! Она крепла, она требовала подпитки и отвечала на неё!
– Ты видишь? – прохрипел он, обращаясь уже не к кукле, но к самому себе, к пустоте комнаты. – Ты видишь?! Она жива! По-настоящему жива!
И тогда он засмеялся. Смех его, долгое время бывший ему незнакомым, вырвался из глотки ледяным, сухим, безрадостным потоком. Он смеялся, глядя на ухмыляющуюся физиономию Пьеро, смеялся над унижением Грегора, над собственной проницательностью, над всей нелепостью и ужасом бытия. Смех этот эхом раскатился по мрачным залам, ударился о портреты предков в потускневших рамах и отскочил обратно, искажённый и умноженный.
Но смех его оборвался так же внезапно, как и начался.
Его взгляд, скользнув по комнате в поисках нового объекта для своего ликования, упал на дальний угол, заваленный тенями и хламом. Туда, где на грубом деревянном сундуке восседала другая кукла – Арлекин.
И Казимир почувствовал, как кровь стынет в его жилах.
Он помнил совершенно отчётливо – он всегда, с маниакальной точностью, помнил расположение каждой вещи в своём царстве забвения. Арлекин, этот колоритный шут в пёстром, когда-то ярком наряде, всегда сидел, откинувшись спиной к стене, его голова в колпаке с бубенцами была склонена на грудь, словно в дремоте, а стеклянный взор был устремлён в пол.
Теперь же Арлекин сидел прямо. Его пёстрое лицо было обращено прямо в центр комнаты. И его глаза – те самые, что всегда казались пустыми и бездушными, – теперь смотрели. Смотрели прямо на Казимира.
Ни единая рука не прикасалась к нему. Ни малейшая вибрация не потревожила пыльный воздух в той части комнаты. Он не мог, он не должен был двигаться. Но он двинулся. Он повернул свою голову. Беззвучно. Без усилия. С неестественной, механической точностью.
Казимир, всё ещё стоя на коленях перед Пьеро, медленно поднялся. Смех его застрял в горле, превратившись в ком ледяного ужаса. Он не дышал. Он лишь смотрел, как зачарованный, в стеклянные глаза Арлекина, ища в них насмешку, злобу, или просто пустоту. Но он видел лишь отражение – крошечное, искажённое отражение пламени свечи, пляшущее в глубине тех чёрных зрачков, словно адский огонёк.
Тишина, воцарившаяся в комнате, была теперь иного качества. Это была тишина ожидания, напряжённая и грозная, как затишье перед смерчем. Казалось, сам дом затаил дыхание, и даже пыль перестала кружить. Пьеро на своём пуфике застыл с своей чудовищной улыбкой. Арлекин в углу – с своим невыносимо прямым взглядом.
И Казимир понял, с леденящей душу ясностью, что эксперимент вышел из-под контроля. Он не пробудил к жизни одну куклу. Он пробудил нечто большее. Он распахнул дверь, за которой не должно было быть ничего, кроме тьмы и забвения. И теперь из-за этой двери на него смотрели.
Глава 4. Кукла материнской любви
Не было в целом мире города, столь отравленного смрадом забвения и столь преданного гниению, как тот, в коем обитал Казимир. Воздух в его кварталах, узких и извивающихся подобно червям, был густ и тяжел, насыщен испарениями болот, что раскинулись за городскою чертою, и миазмами, поднимающимися из самой почвы, будто дыхание древнего, больного чудовища. Дома, выстроенные из почерневшего от времени и сырости камня, стояли, понурясь, под вечно серым, низким небом; их остроконечные фронтоны и узкие, похожие на бойницы окна, казалось, взирали на редкого прохожего с немым укором и тайной угрозой. Сам Казимир, чья душа давно уже стала вместилищем всех ядов и меланхолий сего скорбного места, бродил по этим улочкам в час, когда день, не в силах более противиться натиску сумерек, угасал в предсмертной агонии, окрашивая туман в багровые и лиловые тона.
Он шел, не видя пути, ибо путь сей был ему знаком до последней трещины в булыжнике, до последнего пятна плесени на стене; он шел, повинуясь некоему внутреннему маятнику, что отсчитывал в груди его ровные, монотонные удары, схожие с ударами сердца, но бывшие, увы, лишь жалким его подобием. Мысли его, сии вечные спутники и мучители, вихрем носились в черепной коробке, то возвращаясь к призрачным успехам минувших дней, когда он, кудесник и виртуоз иллюзии, повелевал вниманием толпы, то низвергаясь в бездны нынешнего его падения, когда единственной его аудиторией были пауки, ткавшие свои сети в углах его убогого жилища. И в самой гуще сего мрачного калейдоскопа внезапно возник, будто призрак, вызванный силой неукротимого воспоминания, образ Илоны.
Илона! Имя сие, словно раскаленный клинок, пронзило его существо, пробудив дремавшую, но не утихшую боль. То была рана, нанесенная его гордыне, его самолюбию, его самой сути, – рана, что никогда по-настоящему не затягивалась, но лишь прикрывалась тонкой, подобной паутине, пленкой забвения, готовой порваться от малейшего прикосновения. Она, чья красота некогда казалась ему единственным светом в океане тьмы, она, чьи клятвы он, в своем ослеплении, почитал столь же вечными, как движение звезд, – предпочла ему богатого покровителя, человека плоского, как доска, и пустого, как высохшая тыква, но чей кошелек отягощало золото, а родословная уходила корнями в седую древность. Она продала их любовь, их общие грёзы, их безумные, поэтические клятвы, данные под шепот ночного ветра, – продала за суетный блеск бриллиантов и тяжелую парчу платьев.
И вот, в тот самый миг, когда мысль о ней, жгучая и ядовитая, достигла в его мозгу наивысшего накала, сама судьба, насмешливая и жестокая, решила явить ему живое воплощение сего призрака. Из-за поворота узкой, как кинжал, улочки, навстречу ему, бесшумно катясь на колесах, обитых черным бархатом, выплыла карета. Карета была знакома ему – он видел ее некогда у входа в театр, в тот самый вечер, когда его собственная жизнь покатилась под откос. Геральдический знак на дверце – сова, сжимающая в когтях змею, – врезался в его память с той же отчетливостью, что и клеймо палача. И пока он стоял, пригвожденный к месту внезапным оцепенением, дверца отворилась, и из нее, будто видение, рожденное туманом и его собственным отчаянием, вышла Она.
Время, что для него, Казимира, текло медленно, как патока, оставляя на всем отпечаток тления, для нее, казалось, не имело власти. Черты ее лица, отточенные и прекрасные, сохранили свою утонченность, но теперь в них появилась новая, холодная завершенность, подобная законченной мраморной статуе. Платье из темно-синего бархата, отороченное серебряным мехом, облегало ее стан, подчеркивая принадлежность к миру, ему недоступному. В ушах ее сверкали сапфиры, столь же темные и глубокие, как ее глаза в тот миг, когда они встретились с его взглядом. И в этих глазах, в глубине их, он увидел нечто, что заставило его окаменелое сердце вновь судорожно биться. Он увидел страх. Старый, знакомый, детский страх перед его язвительным языком, перед его беспощадным умом, способным одним только словом, разрушить любую иллюзию, обнажить любую фальшь. Этот страх мелькнул в ее взоре на мгновение – быстрая, испуганная тень, – и был тут же подавлен, скрыт под маской холодной, почти презрительной учтивости.
– Месье Казимир, – произнесла она, и голос ее, некогда звонкий и мелодичный, как ручей, теперь звучал ровно и глухо, точно удар по натянутой шелковой ткани. – Какая… неожиданная встреча.
Он не ответил сразу, дав тягостной паузе наполниться всем невысказанным, что висело между ними, словно ядовитый туман. Он смаковал ее смущение, этот миг ее слабости, ибо видел, как тонкие пальцы в перчатках сжали шелковый ридикюль, и как легкая, едва заметная дрожь пробежала по ее ледяной маске.
– Мадам, – наконец изрек он, и его собственный голос показался ему сиплым и чужим, доносящимся из какой-то глубокой склепной пустоты. – Встреча сия столь же неожиданна, сколь и поучительна. Она являет собою живое доказательство того, сколь причудливы пути провидения, что сталкивает на узкой тропе обитателей столь различных миров. Мира иллюзий, коему я, увы, все еще служу, и мира… прочного благополучия, что вы избрали.
Он намеренно сделал ударение на последних словах, и тонкая язвительность, в них заключенная, достигла цели. Легкий румянец, неестественный и яркий, как пятно чахотки, выступил на ее бледных щеках.
– Вы всё тот же, месье, – сказала она, и в голосе ее послышалась старая обида, смешанная с досадой. – Все так же любите играть словами, как фокусник – играет картами.
– Ах, мадам! – воскликнул он с притворным пафосом, внутри себя ликуя от того, как легко ему удалось задеть ее. – Карты могут предсказать судьбу, слова же – лишь обнажают ее. И разве не забавно, что мы, двое, когда-то читавшие одну и ту же книгу жизни, ныне находим столь разные смыслы на ее страницах? Вы обрели свой тихий, благоустроенный сад, я же… я остался бродить по буреломам и пустошам, где единственными спутниками моими являются фантомы и тени.
Он видел, как ей хочется оборвать эту пытку, повернуться и уйти, скрыться в безопасности своей богатой кареты. Но светские условности, та самая клетка, в которую она себя добровольно заключила, держали ее крепче любых цепей. Она должна была выслушать его, должна была сохранять лицо. И это унижение, это вынужденное стояние перед ним, этим парией, этим нищим гением, было для него слаще всяких медов.