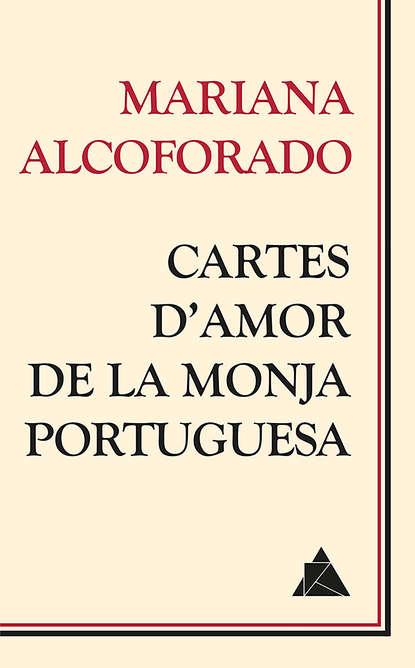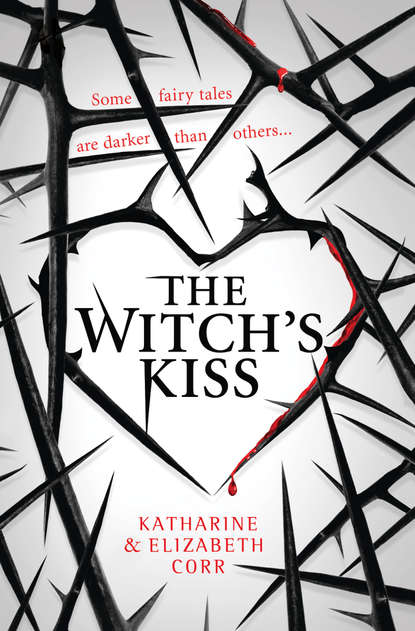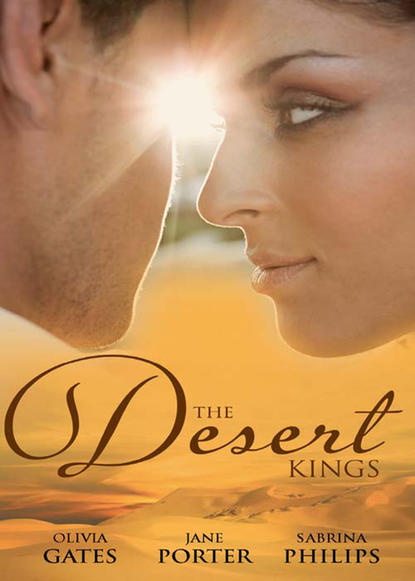Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 1. Трагедия профессора Персикова

- -
- 100%
- +

От автора
Задача этой книги – определить некоторые особенности творческого стиля и мировоззрения Михаила Афанасьевича Булгакова, анализируя тексты его произведений, главными героями которых являются ученые, с привлечением художественной, научно-популярной, эзотерической и справочной литературы рубежа XIX-XX вв. и первой трети XX в.
Анализ произведений М. Булгакова на основании особенностей научного знания и, шире, мировоззрения его эпохи, осуществленная в этой книге, может приблизить к пониманию идейных оснований его творчества, т.к. исследователи до сих пор не синтезировали в одно целое представления о Булгакове как о политическом и мистическом писателе.
Существующие ныне комментарии к произведениям М. А. Булгакова, булгаковские энциклопедии, расшифровывающие отдельные детали его произведений, обоснованно связывают его творчество с многочисленными источниками исторического, научного, эзотерического содержания, а также с целым сонмом произведений мировой и русской литературы. Однако содержательно, тематически эта связь еще мало исследована.
Задача данной книги, безусловно, экспериментальная, не претендующая на окончательность и бесспорность выводов. Для решения ее автор обратился к универсализму литературного течения романтизма, синтезировавшему факты науки, истории, политики, психологии и встраивавшему их в миф, который мыслился романтиками самой глубокой возможностью понять прошедшее, настоящее и будущее.
Автор выражает благодарность Денису Гордееву за существенную помощь в объяснении особенностей литургического хронотопа.
Автор признателен внимательному и чуткому редактору – Татьяне Мельниченко, внесшей значимый вклад в создание книги на этапе формирования ее основных положений.
Особая благодарность – Елене Грибковой, поверившей в меня, и моему супругу, Андрею Ермошину, без поддержки которого эта книга вряд ли была бы написана.
1. Романтизм и его «универсальное знание» как ключ к пониманию творческих задач Михаила Булгакова
Романтическая концепция личности как к абсолютной истине тяготеет к идеалу личности гениальной, и знаком гениальности становится прежде всего творческий дар, делающий индивида потенциально всемогущим, по сути аналогом и истинным наместником Творца на земле. /Карельский А.В. Метаморфозы Орфея… Французская литература XIX в./
Истина неизменна и выражается одинаково в аналогичных легендах. /Фулканелли. Философские обители./
История профессора Персикова, рассказанная Михаилом Булгаковым в повести «Роковые яйца», – первая в ряду произведений писателя о судьбах гениальных профессоров. Действие повести происходит в Советской России в конце 20-х годов XX века. Персиков – известный зоолог, случайно открывший свойство неизвестного ранее красного луча электрической, искусственной, природы многократно ускорять процессы роста и размножения живых организмов. Открытие совпало с начавшимся в республике куриным мором, что вызвало особый интерес советского правительства к использованию луча в целях восстановления народного хозяйства. Однако специальные камеры, позволяющие получить луч, попадают в руки верного революции, но ничего не смыслящего в науке чиновника Рокка, к тому же, при доставке из-за границы были перепутаны яйца, выписанные для эксперимента, и вместо куриных под луч попали яйца земноводных. В результате вместо кур на свет появились гигантские змеи и ящерицы, которые, быстро и бесчисленно размножившись, чуть не уничтожили страну. Только неожиданные августовские морозы смогли остановить земноводных, спасительно прервав вышедший из-под контроля профессора Персикова эксперимент с лучом, и уже к весне следующего года жизнь в стране постепенно вошла в прежнее, нормальное русло. Сам Персиков погиб от рук обезумевших от страха москвичей и вместе с ним была утрачена навсегда тайна «луча жизни».
В отношении профессора Персикова из РЯ булгаковедом Б. Соколовым были сформулированы три его «ипостаси», которые приложимы, пожалуй, ко всем образам ученых в булгаковских произведениях, – это политическая, «интеллигентская» и ипостась «гениальный ученый-творец»1. Собственно, политическая и «интеллигентская» ипостаси в этой трактовке могут быть объединены общим качеством – отображением в них узнаваемых черт и качеств реальных ученых и политиков булгаковской эпохи, его современников.
Аргументы сторонников непременного существования реальных личностей, которых Булгаков подразумевал, создавая образы своих героев, в том числе и профессоров, – весомы, последовательны и убедительны, т.к. они тесно связаны с биографией писателя2.
Булгаков – сын профессора Киевской духовной академии, племянник московского профессора медицины Н.М. Покровского, в чьем доме он бывал. Начав писательскую карьеру и поселившись в Москве, Булгаков стремился попасть в круг т. н. «пречистенской интеллигенции», который включал в том числе профессоров – специалистов в области древней истории, литературы, искусства и архитектуры3. Муж сестры Булгакова, Надежды, А. М. Земский был одним из авторов (вместе с М. Светлаевым) учебника по русскому языку для педагогических училищ. Некоторое время М. Булгаков и его вторая жена, Любовь Белозерская, жили у ее родственника, профессора статистики Е.Н. Тарновского.
Пиетет писателя перед профессурой, знание им интеллигентского сообщества изнутри, кровная связанность с ним4 – очевидны. Образы интеллигентов-профессоров позволяли писателю транслировать почитаемые им консервативные ценности «Великой Эволюции»5, противопоставляя их ценностям новодельным, революционным. Особенно показателен в этой связи образ профессора Преображенского в повести СС, который стал своего рода «витринным» образом старой профессуры; именно Преображенский, наделенный Булгаковым авторитетом европейского светила в науке, изрек диагноз происходящему в послереволюционной России.
Политический подтекст в образе профессора Персикова в повести РЯ также несомненен и представлен сложно, даже полярно: с одной стороны, Персиков в повести олицетворяет устойчивость и глубину классического научного знания, контрастируя с другим персонажем – советским чиновником Рокком, в котором явлено горячечно-эмоциональное и поверхностное знание-лозунг революции6, а с другой стороны, возраст профессора, черты его внешности и привычки (характерная лысина с рыжеватыми волосами, ораторский жест: указательный палец правой руки превращал в крючок, прищур глаз), как отмечают булгаковеды, явно перекликаются с внешностью и особенностями поведения В.И. Ленина, центральной фигуры российской революции7. Возможность пародийной игры Булгакова с фамилией своего героя, подразумевающей сходство ее с фамилией профессора А.И. Абрикосова, который анатомировал тело Ленина после смерти8, еще более усложняет восприятие персонажа. Мотив такого «химерического» соединения в Персикове узнаваемых мет консерватора, великого ученого и черт революционера, социального экспериментатора Ленина с одновременным указанием на «хоронителя» вождя революции мог быть связан с годом создания повести (1924), когда после смерти В.И. Ленина злободневной была тема подведения первых итогов его деятельности в стране, а также с общим настроем Булгакова на политические дерзости на заре его писательской деятельности. После первого прочтения повести в издательстве «Никитинские субботники» он писал в своем дневнике: «Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда не выпеченное. <…> Боюсь, что как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные»9.
Однако не только «яд» в отношении революционного процесса и его вершителей в России, которым, как признавал сам Булгаков в Письме к Правительству СССР в марте 1930 г., пропитан его литературный язык10, заметен в повести «Роковые яйца» и в других булгаковских произведениях о людях науки. Требует объяснения сосуществование в образе профессора Персикова пародии на вождя революции с деталями, свидетельствующими о приверженности его же классическим формам познания. Персиков как олицетворение вождя революции В.И. Ленина – неудачлив и терпит крах, т.е. в этой части образа персонаж сатирически повержен писателем, в то же время Персиков как представитель классической науки видится в страдательном свете: Е. Яблоков справедливо заметил, что как ученый-теоретик и исследователь Персиков «умыл руки», не смогши противостоять революционным переменам11. Точно так же негодование и злое политическое остроумие, присущие профессору Преображенскому в булгаковской повести «Собачье сердце»12, сочетаются с особенностями его эксперимента, схожего в сути своей с попытками не только большевистской власти, но и в целом – науки, начиная с древности, создать «нового человека» искусственным путем13.
Булгаковедами эти странности в интерпретациях образа профессора в его ипостаси гениального творца (третьей ипостаси, помимо политической и «интеллигентской») предлагается рассматривать в свете мифопоэтической, вневременной парадигмы, когда «вечность явлена во «временном» облике» персонажа из мира науки14. В этой парадигме, связываемой исследователями прежде всего с фаустианским «бродячим сюжетом», булгаковский профессор – колдун, маг, жрец, и он же – «демон», черт, гениальный одиночка, пытающийся революционно преобразовать мир и терпящий неудачу, подобен «старому алхимику» Фаусту, который, поставив цель проникнуть в тайну жизни15, присвоил себе миссию Творца16 и вступил в сделку с Сатаной в обмен на творческую реализацию17. Именно эта, «вечная», ипостась профессора в булгаковских произведениях пока объяснена недостаточно полно. Реальный, «временной» облик булгаковских профессоров проработан в исследовательской литературе детально, о «вечном» же в этих образах помнят, всегда имеют в виду и принимают в расчет, но обозначают фрагментарно и лишь в самых широких обобщениях; к проработке деталей булгаковских произведений, входящих во «вневременной», фаустианский их пласт, литературоведы только подступают18.
Дополнительный запрос на углубленное рассмотрение «фаустианского» пласта в образах булгаковских ученых обусловлен, в частности, фактом последовательного уменьшения политических деталей в них и в целом сокращения гротескно-сатирического наполнения их – от Персикова, Преображенского к Ефросимову и Рейну, – и заметного последовательного расширения оснований для интерпретации профессорского образа во «вневременной» парадигме. Политический «яд», столь заметный всем интерпретаторам булгаковского творчества в образах профессоров Персикова и Преображенского, практически отсутствует в главных героях пьес 30-х гг. «Адам и Ева» и «Блаженство» – химике Ефросимове и инженере Рейне. В образе Ефросимова, по наблюдениям булгаковедов, в первую очередь заметен его символический потенциал, связываемый с ветхо- и новозаветными мифами: утверждается, что великий химик в пьесе АЕ олицетворяет огонь просвещения и является спасителем человечества, подобно Ною, новому Адаму и Христу19. Также булгаковский акцент на просветительской и спасительной миссии профессора Ефросимова сопряжен с отмечаемым Е. Иваньшиной в этом персонаже реализованным литературными средствами «наплывом», вызывающим «в восприятии читателя разнообразные литературные фигуры»20, среди которых персонажи И.-В. Гете и Ф.М. Достоевского: Фауст и Мефистофель, Родион Раскольников и князь Ипполит Мышкин21. Гениальный инженер Рейн в пьесе «Блаженство» просвещенческую миссию профессора Ефросимова поддерживает и расширяет: он открывает, что совершенный мир Блаженства, где перемешались русские и европейские имена людей и богов, вовсе не совершенен, и потому бежит из него вместе с возлюбленной, носящей имя древнегреческой богини утренней зари Авророй. С помощью изобретенной им машины времени Рейн словно «перелистывает» страницы эпох, проявляя, в частности, сходство и различие в человеческих качествах и во властных полномочиях царя Иоанна Васильевича Грозного, секретаря советского домоуправления Бунши-Корецкого и Народного комиссара Москвы из будущего времени Радаманова. И если в образе Ефросимова булгаковеды находят-таки черты химика булгаковского времени (прототипом назван химик и академик В.И. Ипатьев22), прототип образа Рейна до сих пор не назван. Не только в образе Рейна, во всех персонажах пьесы «Блаженство» И. Ерыкаловой были отмечены, в первую очередь, мифологические детали, что превращает содержание пьесы в «технократический вариант древнего мифа»23, и, соответственно, углубляет именно вневременной потенциал образа булгаковского гениального инженера, этой фаустовской души в недрах новой цивилизации24.
Итак, являются ли булгаковские произведения с главным героем – гениальным ученым, при отсутствии внешней мотивированности переходов от одного к другому (начиная от профессора Персикова и заканчивая гениальным инженером Рейном), частями непрерывного повествования, глубинно спаянными фрагментами carmen perpetuum25 («непрерывной песни») «профессорского эпоса»? Прояснение этого вопроса требует сравнений содержания историй каждого ученого, в том числе с привлечением мистического «материала».
Авторская «формула» творчества, провозглашенная М. Булгаковым в Письме к Правительству СССР в 1930 г.: «…я – мистический писатель»; «М. Булгаков стал сатириком»; «Мой литературный портрет … есть политический портрет»26, – обосновывает важность поиска мистической, т.е. той самой «вневременной», выходящей за границы реалий булгаковской эпохи и биографии писателя составляющей в образах его профессоров.
Сохраняется актуальность прояснения «странного реализма»27 М. Булгакова, в котором мистические детали органично «спаяны» с деталями из реальной научной, политической и общественной жизни. Важно, что, помимо определенной «укорененности» ранних образов профессоров в политических реалиях булгаковской эпохи, все его ученые – прекрасные специалисты. Явно для подтверждения этого Булгаков использовал в произведениях о них специальные научные термины и не жалел эпитетов в их адрес. В повести РЯ Персиков произносит речь, в которой подробно описывает виды кур и перечисляет специальные названия куриных болезней (384-385), в повести СС детально и явно со знаем дела описана хирургическая операция профессора Преображенского (464-467), в пьесе АЕ химик Ефросимов в беседах со случайными своими знакомыми ленинградцами не раз использует названия сложных химических веществ (66-69), а в «Блаженстве» инженер Рейн, объясняя способ действия своей машины времени, прибегает к философским понятиям (110). У Персикова «эрудиция в его области… была совершенно феноменальная» (357), Преображенский – «первый… не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде» (502), Ефросимов – химик, академик, читающий блестящие лекции (70), гений и пророк (76), а гениальность Рейна, пронзившего время, признают в грядущем веке, в Москве будущего (115). И в то же время все булгаковские ученые владеют некими особыми знаниями и умениями. Персиков охарактеризован как единственный в мире человек, обладавший чем-то особенным, «кроме знания», что определило возможность родиться таинственному лучу в его «гениальных глазах» (426), профессор Преображенский назван жрецом (462), магом и чародеем (440), Ефросимов – великим колдуном (94). Явно к таковым можно отнести и Рейна, исходя из его способности путешествовать во времени. Также в первом приближении можно отметить:
– общую задачу всех булгаковских профессоров – овладение умением влиять на процессы в живых организмах – ускорять, замещать, воскрешать, делать их неподвластными времени;
– преемственность мотива христианского Преображения в деятельности профессора Персикова, чья неудача с экспериментом была преодолена «морозной машиной бога» в день Преображения, и в самостоятельном успешном исправлении профессором Преображенским неудачного опыта с Шариковым: в обоих случаях сила Преображения действует уравновешивающим образом, профессор из повести «Собачье сердце» в границах этого мотива выглядит более мудрым, как лично причастный этой силе в силу своей фамилии;
– научные открытия Персикова и Ефросимова объединяет связь их с энергией света28.
Противоречивый биографически-политико-научно-мистический, сакрально-инфернальный и сатирически-обвинительно-страдательный микс, видимый с позиций реализма в интерпретации булгаковских профессоров, очевидно, разрешается автором на каких-то иных смысловых «этажах», и нахождение этих новых точек «обзора» может прояснить и авторский подход к образу профессора, и в целом булгаковский взгляд на человеческое познание.
В случае дополнения пласта «прототипических», связанных с биографическими реалиями, деталей булгаковских произведений деталями из мифологии – например, увиденными Л. Менглиновой чертами бога Тота в образе профессора Персикова, древнеегипетского демиурга, отвечавшего за любые творческие начинания и в целом формообразование во Вселенной, который в описаниях египетских манускриптов был лыс, как птица ибис, и изображался держащим палец крючком29 (отметим, это те же детали, которые узнаваемо характеризуют вождя революции В.И. Ленина30), – возникает возможность многообещающих сопоставлений научной и политической реальности Советской России середины 20-х гг. с некими архетипическими ситуациями31. Миф о боге Тоте, повествующий о закономерностях акта творения, позволяет увидеть сходство зоологического эксперимента Персикова по ускорению роста живых организмов с практикой вторжения «научного коммунизма» в сокровенные сферы человеческого бытия с целью вырастить «нового человека». В целом, образ персиковского животворящего луча, преобразующего жизнь, рассмотренный с позиций мифологии, позволяет метафорически объединить научное и революционное творчество с древней мечтой человечества о могуществе и изобретении волшебных средств, позволяющих преобразовывать мир по своему желанию и с нужной скоростью, так в мифологическом пространстве политическая составляющая образа Персикова соединяется с научной, придавая всем актам творчества в повести РЯ особый вневременный смысл.
Также миф открывает возможность понимания тайн т. н. «коллажного метода» Булгакова, когда в одном персонаже объединены несколько узнаваемых реальных личностей и персонажей из литературы/мифологии32. Образ древнеегипетского божества, отвечающего за творение форм земного мира, действительно, служит хорошей базой для интегрирования черт современников Булгакова – ученых и политиков, решавших творческие задачи такой же формообразовательной направленности.
Собственно, каждый булгаковский профессор ставил такие формообразовательные задачи в своих экспериментах, желая проникнуть в тайны живого и влиять на живое: ускорять рост живых организмов, преображать их, лечить и восстанавливать от вредных воздействий, делать время не властным над ними – и все это по человеческим лекалам и при главенстве человеческой воли. И Персиков, ускорявший рост и размножение организмов, и Преображенский, хирургически неожиданно для себя создавший «новую человеческую единицу», и Ефросимов, способный лучом своего аппарата восстанавливать и поддерживать жизнеспособность животной клетки после губительных воздействий на нее, и Рейн, путешествующий с помощью своей машины во времени, т.е. овладевший тайной формообразования уже не на уровне отдельного организма, а на уровне совокупности живых организмов целых миров в разные эпохи, – все они могут быть соотнесены с мифологическим прототипом, Тотом. Это предположение дает возможность с позиций мифов о творении и тайнах живых форм, последовательно, от произведения к произведению, от Персикова к Преображенскому, затем Ефросимову и Рейну, сопоставить знания и возможности булгаковских профессоров, вникнуть в степень их знаний и практических умений и прояснить, с чем связана разница их влияния на итоги экспериментов. А разница эта существенна: Персиков трагически утрачивает власть над «лучом жизни», едва не губит страну и гибнет сам, Преображенский проявляет мудрость, обратив самостоятельно эксперимент вспять, Ефросимов выступает уже в роли спасителя человеческого мира, по ряду признаков, жертвуя в этом благом деле собой, а Рейн обретает власть над временем, т.е. над продолжительностью жизни всех возможных в веках земных форм, что максимально сближает его с Тотом. В этой связи интересно выяснить, почему при заметном убывании в «коллажах» образов профессоров, от Персикова к Рейну, потенциала политико-сатирического, памфлетно-гротескного в пользу философского потенциала благодаря деталям из мифов, гениальный инженер Рейн, достигнув высот мастерства и попав в совершенный мир будущего, возвращается в свою эпоху и свою судьбу, символически перенося фокус внимания вновь на реальность, возвращая ей ценность.
Для решения обозначенных задач лучше всего подходит теоретическая платформа течения романтизма в литературе, провозгласившего своей задачей синтез реальности и мифа, единичного и общего, временного и вечного. Собственно, никаких особых революционных открытий здесь быть не может. Подступы к романтической основе творчества Булгакова уже заданы постулатом российского исследователя Ф. Федорова в его труде «Художественный мир немецкого романтизма» о существенном усвоении традиции немецкого романтизма М. Булгаковым33, подкрепленным таким раскрытием темы, которое вполне может служить первоначальным руководством к комментированию, прежде всего, романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Б. Гаспаров, исследуя мотивы булгаковских произведений, отметил устойчивую повторяемость части их, связав ее с сюжетами из Евангелия, Апокалипсиса и гетевского «Фауста», с романтической концепцией творческой личности, объединявшей сакральное и инфернальное начало, а также с хронотопом Рождества и Пасхи34. Глубокое исследование художественного мира писателя, предпринятое Е. Яблоковым в работах «Художественный мир Михаила Булгакова» и «Михаил Булгаков и мировая культура: Справочник-тезаурус»35, также очерчивает пространство его принадлежности к литературному течению романтизма, которое известно своей всеохватностью, поиском типического во всей человеческой истории и особой ролью мифологической подкладки/отсылок к мифам в сюжете. Об использовании М. Булгаковым приемов мифотворчества в его драматургическом варианте судьбы Мольера в сравнении с изложением биографических сведений о великом французе в повести о нем, писал Е.Трухачев36.
Реальный мир со всеми его мельчайшими подробностями – объект пристального внимания писателей-романтиков, и все факты и детали реальности для них являются отображением мира сверхчувственного, сверхреального37. «И камни, и деревья, и травы, и дальние горы, и реки кажутся одушевленными и живыми, – как будто теплое дыхание, слышное во всем мире, проникает и в человеческую душу. Такое живое, положительное чувство присутствия бесконечного, божеского во всем конечном я называю мистическим чувством»38, – писал В. Жирмунский, утверждая, что романтизм тесно связан со своеобразной формой развития мистического сознания39, провидящего во всех изменениях реального мира знаки жизни Бога (именно в этом убеждении находит обоснование известное и у романтиков, и у эзотериков утверждение «что наверху, то и внизу»). По утверждению Л. Уланда, немецкого поэта XVIII в., романтическое как предчувствие бесконечного в видимом и воображаемом40, возникает в результате творческого усилия поэта, соединяющего надежную недвусмысленность факта с намеком на то, чем он является в идеальном замысле о нем Творца, причем, «поэт должен поостеречься, чтобы не остаться непонятным, то есть он ни в коем случае не должен прятаться в мистицизм. Он должен нам действительно намекать на смысл того, что скрывается за его образами. Пускай он вводит нас постепенно от твердой почвы ясного в царство провидения и мечты. Можно дать почувствовать благоухание почки – цветок все равно останется нежной тайной»41. Исходя из определения романтического Л. Уланда, мистика для романтиков не является самоцелью – это инструмент для отображения сложного в простом.
Мистика в романтизме позволяет показать проявляемую в реальности/через нее Высшей жизни, синтез обыденного и волшебного формирует «совокупную», универсальную истину, приближающуюся по охвату к той, которую провозглашает Библия, опирающаяся на биографии и свидетельства реальных людей и повествующая о фактах, наполненных вечным смыслом. Л. Уланд главной причиной появления романтической литературы назвал потребность изобразить сложный мир, который разум может понять, создав великие теоретические и практические системы, но передать всю полноту жизни в формулах и абстракциях подобных систем не может. Так появляется искусство, требующее от поэта умения представить абстрактное знание в образах, из которых тщательно отбирались только наиболее важные и значимые по их воздействию на человека, суть вневременные идеалы42. Цель такого универсального знания-искусства – «выбирать в жизни характерное»43, – писал исследователь романтизма рубежа 19-20 вв. де Ла Барт, объясняя внимание романтиков к разнообразным деталям отображаемой ими современной реальной жизни и древности «романтическим синтезом», объединившим веру «в прогресс… и увлечение родной стариной; прославление самодовлеющего «я» и пантеизм, стремление слиться в великом «все»; восторженный лиризм и объективное наблюдение действительности, искание нового искусства и стремление сохранить связь с литературной традицией, увлечение фантастикой и реализм…»44. Современник М. Булгакова, литературовед Н. Берковский, также отмечал неизменность романтических идеалов для литераторов, стремившихся с позиций философии «идеал-реализма»45 сочинить новую «книгу всех книг», «Библию», «энциклопедию», всемирное зеркало46.