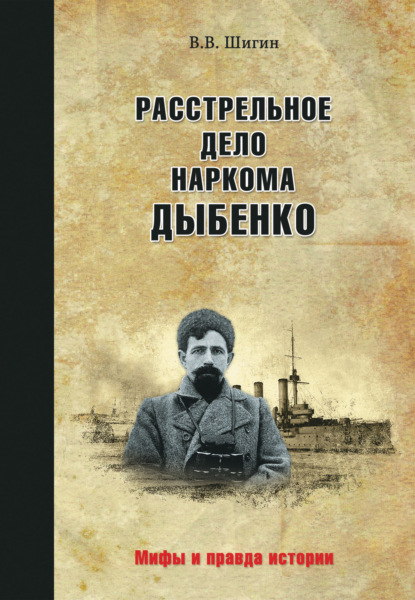Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 1. Трагедия профессора Персикова

- -
- 100%
- +
Интересно, что среди знатоков романтизм рубежа XIX-XX вв. по этому вопросу не было единого мнения. Читавший в начале ХХ в. на высших женских курсах в Москве лекции по истории немецкой литературы А.А. Шахов настаивал на историзме реальных типов, становящихся объектом внимания и отображения в литературе романтизма, т.е. отказывал им в универсализме. Относиться ко всем персонажам романтических произведений «с одинаковыми требованиями, искать во всех них ответа на одни и те же вопросы по меньшей мере странно», – утверждал А. Шахов, – «Чем дальше подвигаемся мы на историческом пути, тем более удаляются для нас Гомер и Дант, Шекспир и Мольер; мы живем уже другими интересами, нас волнуют уже другие вопросы. Потому-то оценка литературного произведения при его изучении должна быть как можно более объективна. На поэта прошедших веков мы должны смотреть с точки зрения его столетия и его современников»98.
Позиция А. Шахова понятна, но все ли литераторы и теоретики романтизма, в том числе неоромантики рубежа XIX-XX вв. судили о типическом в человеке, опираясь только на историзм его вариантов? Пока исследований по этому вопросу нет, и мы можем лишь фиксировать, что булгаковская мысль о связи времен и токах просвещения, пронизывающих всю историю человечества, высказанная в повести о Мольере, акценты М. Булгакова на сохранении актуальности пьес великого француза в других эпохах и странах сближают его позицию с точкой зрения известной в конце ХIХ в. российской исследовательницы литературы романтизма М. Фришмут, утверждавшей: «Символические типы не умирают; к ним всегда возвращаются; известные эпохи узнают себя в них, воскрешают их и дают им новый блеск, отыскивая в них черты, соответствующие современным идеям»99. Прочно утвердившийся в булгаковедении тезис о тяготении писателя к типизации до уровня архетипов, составляющих ядро мифологических образов, также предполагает универсализм его предпочтительным выбором. Миф как основа для конструирования сюжета, «ядра» действующих в нем персонажей, всегда связан с символотворчеством, в основе которого лежит убежденность литератора в единой основе этих символов и потому их узнаваемости в любую эпоху.
Также высказанная М. Булгаковым идея о проявленной связи времен в круговороте «заимствованных» персонажей и сюжетов в мировой литературе позволяет увидеть в его объяснениях «плагиата» влияние теоретических положений романтизма, провозглашавшего одновременное приятие и признание ценности как исторического, так и архетипического в культуре и литературе и выдвигавшего на первый план личность литератора, придающего «новый блеск» старым символам100. Автор, работающий с древним «материалом», который то же время может быть интегрирован в новые формы, литератор, превращающий персонажи в символы, – это, безусловно, романтический автор, заимствующий в литературе для творческой «перелицовки» заимствованного по своим уникальным «лекалам».
Булгаковские мысли о плагиате в литературе позволяют пересмотреть обвинения «раннего» В. Шкловского по поводу повести РЯ: очевидно, тема романа Г. Уэллса «Пища богов» показалась М. Булгакову интересной и важной, что повлекло за собою создание повести о профессоре Персикове, в которой сформулирована уже булгаковская позиция в теме, общей с английским фантастом.
Иронично подразумевая в повести о Мольере, что критики, спешащие выдвинуть обвинения в плагиате, мало знают и мало читают (24.217,218), М. Булгаков косвенно определил «рецепт» аналитической работы с произведениями разных авторов со схожими персонажами и сюжетом: привлекать как можно больше источников, на которые могли опираться литераторы при создании произведений и прояснять темы, волнующие их. Если дополнить этот «рецепт» предложенным А. Шаховым учетом принципа историзма в раскрытии проблем, волнующих литераторов конкретной эпохи, а также проявлением особого внимания к личным особенностям мировоззрения литераторов, на «выходе» можно надеяться получить достойное исследуемых авторов знание об их творчестве…
Историки литературы отмечают: «универсальное знание-искусство», отображаемое романтиками в их произведениях, должно было преодолеть хаос и раздробленность мира, особенно на переломных его этапах. Собственно, причина возникновения раннего романтизма – это стремление немецких литераторов произвести «инвентаризацию», переоценку всех прежних ценностей в культуре, чтобы восстановить утрачиваемую гармонию «этического человека» в эпоху распадающейся политически и ментально Германии; универсальность рассматривалась ранними романтиками как «новый реализм», который, призван был заменить «интеллектуальный стиль» эпохи Просвещения: никакое разнообразие не может погибнуть для них, все детали реального мира, все новое в науке, политике, искусстве, философии, религии должно было быть ими объяснено и одухотворено 101.
В подобном же переломном моменте истории, когда рушились старые ценности, а наука и социалистический реализм начинали победное шествие по России, жил и создавал свои произведения Михаил Булгаков. В повести «Тайному другу» он проговорил изначальную цель своего занятия писательством, которая воспринимается именно как романтическая в попытке сохранить разрушающийся узор «вечной преемственности» жизни. Воскресить память об умерших, общее их и свое прошлое, запечатлеть свои сны, восстанавливая связь времен, – что еще остается неравнодушному человеку после осознания того, что «от всего, что сверкало, от Софочки, ламп, Жени, фиолетовых помпонов, – остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погибло <…> Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. И страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко»102. «…Для романтика, – писал В. Жирмунский в 1914 г., – в последнем просветлении торжествуют все силы… ничто не умирает, но оживает мертвое, и каждая жизнь в последней силе отдается Богу и вечной жизни»103.
Взгляд из пространства романтизма позволяет увидеть повесть М. Булгакова РЯ как «зеркало», картину эпохи. Собственно, подобные «картины эпохи» он разворачивал в каждом своем произведении, явно стремясь к отображению исторического момента существования универсума во всех его деталях и в его сути. Повесть «Собачье сердце» (1925 г.) – «срез» эпохи, отображение происходящего в обществе молодой Советской России, в молодой советской науке, в душах людей; пьеса «Зойкина квартира» (1926 г.) – «зеркало» российской действительности периода НЭПа; пьеса «Адам и Ева» (1931 г.) отображает ситуацию в стране и духовный пейзаж современников Булгакова в период первых пятилеток, когда отмечался рост военных настроений в стране и мире. Каждое булгаковское произведение – итог осмысления автором метаморфоз в миросозерцании народа104, и с этих позиций находят объяснение и политическая заостренность каждого произведения, и философская глубина, и точность, до скрупулезности, в изображении бытовых, социальных и научных деталей эпохи.
С позиций романтизма находит объяснение «неровность» пространства повести РЯ, в которой М. Булгаков, по его собственным словам, «спекал» скрупулезно описанные им реалии Москвы 20-х годов: неоновую рекламу города и мальчишек, продающих газеты, потоки машин на улицах, повадки циничных журналистов, слухи и сплетни столицы, властные распоряжения из Цекубу, механизмы принятия политических решений и их исполнение в Советской России. В этом «спекаемом» автором «пироге»105 важное место занимают: послереволюционная судьба Института зоологии, его директора профессора Персикова и ассистента Иванова, быт провинциального городка Стекловска, бывшего Троицка, повседневная жизнь совхоза «Красный луч», что на развалинах бывшей усадьбы Шереметевых, странная и странническая судьба флейтиста Рокка, вошедшего в исполнительную власть новой России и трудящегося на самых разных должностях от севера до юга страны. Советская Россия конца 20-х годов, с ее особенностями политической, бытовой и научной жизни, в повести РЯ представлена ярко и сочно.
Несколько страниц повести отведено сухому научному описанию сути зоологических экспериментов Персикова, с перечислением инструментов, которыми профессор пользовался, точных названий голых гадов, которыми профессор занимался, пород кур и подробностей морфологии, физиологии и типичных болезней отряда куриных.
Это странное погружение в том числе в научные «дебри» – не просто прием, позволяющий читателю сопоставить отвлеченную сухую науку, живые реалии бурлящей жизни Москвы 20-х годов и фантастическую суть эксперимента профессора. Авторский творческий «огонь», спекающий эти разнородные «ингредиенты» повести в одно целое (в гофмановском примере это связано с мастерством создания незаметного «шва» автором-портным), проявляет особенности так называемой «романтической иронии», которую В. Жирмунский характеризовал так: «…бесконечный творческий акт не может быть исчерпан в своем конечном проявлении; …творческое Я осознает себя больше всякого выражения, так что полное выражение себя является обязательным и невозможным»106. Вбрасыванием в творческое поле столь разнообразных составляющих писатель придает повести свойство особой «открытости», не позволяющей «схватить» и однозначно определить тему произведения и форму его подачи (жанр). Как отмечали ранние романтики, романтическая ирония призвана была провести идеальный синтез в произведении, субъективно уничтожить абстрактные, односторонние подходы, формируя единое целое из умело «спеченных» фрагментов отображенной реальности; вместе с тем разнообразие материала создавало ситуацию философского «пира» для действительно образованного и свободного читателя, которому предоставлялась возможность «настроиться то на философский лад, то на филологический, критический или поэтический, исторический или риторический, античный или же современный, совершенно произвольно, подобно тому, как настраиваются инструменты…»107
Очевидно, принцип романтической иронии оказал влияние на «растрепанность» образа профессора Персикова, в котором так угловато соседствуют таинственный и величавый, удачливый ученый-новатор и неумелый практик-политик, ставший причиной катастрофы в стране. Неоднозначность образа Персикова – признаваемый всеми булгаковедами факт. И жанр РЯ до сих пор не определен. Что написал М. Булгаков? Фантастическое произведение? Политический памфлет-гротеск на послереволюционные события в России? Сатирическую пародию на роман Г. Уэллса «Пища богов» с научно-популярным и одновременно фантастическим подтекстом? Мистическую сатиру, задача которой – рассказать читателю о «соли» эпохи, в которой оказалась Россия на излете ленинского этапа революции? … Видимо, писатель подразумевал возможность всех этих определений для своей повести.
Романтическая ирония вершится в писательской «вакханалии» смешивания невозможных, казалось бы, ингредиентов; «лоскутной» способ комбинирования разнородного по содержанию материала в произведении рождает мир буффонады. Цель романтической иронии для Фридриха Шлегеля – победить сковывающее воздействие формы произведения и пробудить у читателя понимание масштаба темы, раскрываемой литератором: «В иронии все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Она возникает, когда соединяются чутье к искусству жизни и научный дух, когда совпадают друг с другом и законченная философия природы, и законченная философия искусства. <…> Она есть самая свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой…»108. В повести РЯ романтическая ирония позволяет избегать сосредоточения внимания читателя на какой-то одной сюжетной и мотивной линии, представляя «картину эпохи» и крупными, и мелкими мазками, в процессе последовательных вторжений читательского внимания во все знакомые автору сферы жизни.
То, что раннее советское литературоведение видело в подобном веселом и вольном авторском умозрении, в свободном, независимом отношении художника ко всему изображаемому им – «произвол художника»109, для нас выглядит признанием способности таковых противостоять любой системности и указанием на их причастность демиургическому началу; литературный труд, как «сплетение басен», в свете этого вывода, схож с актом творения Вселенной, универсума. И, как и в многообразии мира есть смысл, заложенный его Создателем, в булгаковской «буффонаде», игре с фактами в обрамлении фантастики, волшебства, безусловно, присутствует глубокий смысл.
Наша задача – расцветить уже существующие выводы о глубокой философской природе булгаковского творчества, используя, как ведущий, образ профессора, который кажется наиболее уместным персонажем, если творческая задача писателя содержала романтические устремления к универсальному знанию-искусству и подобраться к глубинам уже увиденного булгаковедами «идеального» прототипа каждого булгаковского профессора – образа Фауста, который, по утверждениям литературных критиков рубежа XIX-XX вв., был «темой новой истории»110.
Этот герой еще и в булгаковскую эпоху олицетворял все самое насущное для человеческой жизни и духа, цель Фауста: «Проникнуть в таинство мироздания, в сокрытую сущность мировых отправлений, прозреть все деятельные силы мира, обнять в своем сознании бесконечную природу, познать источники жизни, корни бытия, рычаги вселенной, небо и землю. Одним словом: он ищет абсолютного, безусловного, он жаждет безграничного ведения»111. В Новом словаре иностранных слов 1912 г. издания Фауст назван «героем средневековой легенды», лекарем, астрологом и чародеем, «философом из философов», представленным в литературе начиная с предшественника Шекспира Христофора Марло (1593 г.) и особенно у Гете – как мировой тип универсального ученого, воплощавший «все стремления человечества к знанию, всю борьбу за обладание истиной»112. Важно, что образ Фауста олицетворял для предшественников и современников М. Булгакова не только человека науки. «…Фауст Гете, при всех своих громадных силах и высоком идеалистическом порыве, все-таки есть для поэта не идеал, а воплощение человека во всей его противоречивости, в безднах падения и высоте полета»113, – писал литературный критик А. Горнфельд в 1909 г.
Символом человечества называли Фауста А. Шахов114 и Вяч. Иванов115, отмечая, что в своей «умственной горячке» все познать и все прочувствовать этот маг и колдун, возжелавший превзойти Бога, отдается на испытание злому духу, как библейский Иов, и в силу этого находится в центре нравственных исканий нового времени. История его судьбы, ярко представленная в драме Гете, созданная по лекалам романтической иронии116, представляет нам Фауста и в его извечной духовной жажде, и в страданиях от собственных бушующих страстей. И.-В. Гете, относившему тему драмы к философской полемике своего времени117, вторила через сто лет М. Фришмут в России: «Разве Фауст, как тип, в стремлении своем воплотить в себе человечество, сделаться микрокосмом, не служит олицетворением современных философских стремлений?»118
Многочисленность примеров обращения к теме Фауста в литературе119 и музыке120 XIX-XX вв., насыщение этой темы различными культурными парадигмами (античной, библейской, средневековой, ренессансной) и неизменное акцентирование в ней человеческой претензии на всеохватность знания и божественные функции – подтверждают тезис М. Фришмут.
Распространение в мировой культуре XIX в. поэтического отождествления с Фаустом мифологических героев разных эпох: Прометея, Каина, Агасфера, искателя чаши Грааля рыцаря Парсиваля, Гамлета, Дон Кихота и Дон Жуана121 демонстрировало обширность пространства для возможных символических обобщений в его образе. Так, сравнивая Фауста с Дон Жуаном, А. Шахов отмечал: «Фон в Фаусте – мысль, дума; в Дон Жуане – чувство. <…> Тип Фауста вообще шире, универсальнее типа Дон Жуана, потому что та сторона Дон Жуана, которая составляет главное содержание его характера, – чувственность входит, как элемент, и в Фауста»122. Фауст, как символ человечества на определенном отрезке истории, окончательно утвердился в своем высочайшем статусе, когда его именем воспользовался О. Шпенглер в 1918 г., указав на появление фаустовской формы души европейской цивилизации в условиях разрушаемой, начиная с XVIII в. гармонии между древним преданием, мифом и набиравшей мощь наукой, между разумом и чувством123.
Отметим связь этой части философской проблематики образа Фауста с идеей «универсального знания» в движении романтизма. Фауст, писала М. Фришмут, представляет то слияние между наукой и творчеством, которого искал И.-В. Гете и потому может служит прототипом этого направления в истории мысли124.
Для приверженцев романтизма рубежа XIX-XX вв. особое значение образ Фауста приобретал в связи с возможностью решать задачу сохранения мифа и предания как особого пласта знаний, дающего пищу уму и чувству, т. е. задачу обращения к «творческому созерцанию» и «интеллектуальной интуиции» в целях познания.
Главная пружина «мировой скорби» Фауста нового времени, писал А. Шахов, – «отчаянное столкновение критики с традицией; анализ подрывает цельность предания (веры) и в то же время сила предания не дает полного простора научной критике…»125. Романтики, начиная с ранних представителей этого течения, как раз стремились преодолеть разрыв между мифологическим знанием, синтетическим по своей сути, и аналитическим, научным. Их цель – своего рода «инвентаризация» всей сферы воображаемого, восстановление и оживление старых символических связей между миром вещества и миром духа, установленных натурфилософским и насквозь пропитанным духом поэзии познанием прошлого. Яркий пример – стихотворение Ф. Шиллера «Боги Греции», в котором содержится энергия призыва восстановить и обновить утрачиваемые в ходе наступления рационализма прежние сложные и изящные связи между миром видимым и невидимым, правдой мысли и силой воображения, человеком и богами:
…В дни, когда покров воображенья
Вдохновенно правду облекал,
Жизнь струилась полнотой творенья,
И бездушный камень ощущал.
Благородней этот мир казался,
И любовь к нему была жива;
Вещим взорам всюду открывался
След священный божества.
Где теперь, как нас мудрец наставил,
Мертвый шар в пространстве раскален,
Там в тиши величественной правил
Колесницей светлой Аполлон.
Здесь, на высях, жили ореады,
Этот лес был сенью для дриад,
Там из урны молодой наяды
Бил сребристый водопад.
<…>
Да, ушли, и все, что вдохновенно,
Что прекрасно, унесли с собой,-
Все цветы, всю полноту вселенной, -
Нам оставив только звук пустой… 126.
Особую роль романтизма в возрождении, хоть и на «мгновение», магической картины души, в которой принципиально отсутствует дуализм материи и духа, но все объединяет незримый «дух» («пневма»), дробящийся на «души»127, отмечал О. Шпенглер, и это его замечание превращает поистине в захватывающее действо исследование отношения романтиков к образу Фауста. Их понимание Фауста, безусловно, должно отличаться от классического определения фаустианского типа души, в котором, опять же, по Шпенглеру, противопоставлялись Божье и человеческое, первенствовали разум и личная воля в познании мира128.
Для романтиков, поборников синтеза нового и старого, соединяющих в познании древний мифологический опыт с современным аналитическим, – образ Фауста предоставлял возможность участвовать в большом диалоге внутри культуры о ценности разных путей познания. В этой ситуации использование фантастического по лекалам мифологической традиции превращалось в их программную задачу.
Но мифологическое содержание может наполнять разные формы, – как определить предпочтения в романтизме в отношении этих форм? Представляется, что начать можно с обращения к феномену эзотеризма129 с его высоким уровнем синкретизма мифов неоплатонизма, герметизма, астрологии и каббалы эпохи Возрождения на основании четырех принципов: принципа соответствия (весь мир пронизан системой соответствия одних частей другим), принципа живой природы (каждая вещь, клетка, каждый организм мыслится частью великого целого), принципа роли воображения (воображение – система символов, выступающих посредниками между человеком и Богом, природой), принципа трансмутации (все может быть объяснено, в том числе и духовный мир, с привлечением процесса преображения, метаморфоз)130. Факт, что романтизм, рассматриваемый нашими современниками как «продукт слияния эзотеризма и движения контрпросвещения», отвергавшего излишнюю рационализацию и сухую энциклопедизацию знания мыслителями Просвещения131, «повенчан» с синкретическим мифологическим знанием, не утрачивая при этом связи со знанием научным – открывает новые возможности в интерпретации произведений романтиков и мистиков и, безусловно, востребует новых методологических подходов. Шаг к этим возможностям мы сделаем, исследуя особенности знаний и умений булгаковских профессоров, их эволюцию, а также сопоставляя и выявляя связь между научными и эзотерическими/мистическими деталями в произведениях М. Булгакова.
Итак, фаустианская тема в понимании литераторов и литературных критиков рубежа XIX-XX вв., времени, когда происходило становление личности М. Булгакова, – это россыпь мотивов, содержащая в том числе мотив мятежничества человеческого духа, мотив присвоения человеком себе функций, прежде относимых к божественным, и проверки возможностей собственного разума, мотив революционных перестроек духовного мира человека и общества и нравственные оценки этих перестроек и, пожалуй, среди важнейших, судя по обилию мифологических и эзотерических деталей в произведениях романтиков, – мотив утверждения важности всех возможных путей и методов познания132. Образ булгаковского профессора в свете философской полемики в мировой культуре рубежа XIX-XX вв. превращается в важнейший маркер философской и культурологической проблематики, на которую нацеливает писатель и драматург своих читателей и зрителей, представляя им «картину эпохи» и символически обозначая ее как фаустианскую, – в том определении, которое ей дал О. Шпенглер.
Так ли это? И удастся ли хотя бы отчасти приблизиться к булгаковскому замыслу образа профессора и к пониманию, что такое универсальное, фаустианское, знание? …Вперед, читатель!
2. Научные реалии рубежа XIX-XX вв. в романе Г. Уэллса «Пища богов» и повести М.А. Булгакова «Роковые яйца»
В какой мере роман «Пища богов» повлиял на булгаковский замысел «Роковых яиц» – тема важная и интересная, особенно в свете полярных утверждений критиков – современников писателя, видевших в его повести либо откровенный плагиат, либо оригинальную разработку образов людей науки, для которой произведение Г. Уэллса выполнило роль творческого импульса. В. Шкловский в заметке «Михаил Булгаков» (1924 г.) утверждал, что для Г. Уэллса характерна и постоянна тема, суть которой формулируется так: «изобретение не находится в руках изобретателя. Машиной владеет неграмотная посредственность»133; соответственно, М. Булгаков «берет вещь старого писателя, не изменяя строение и переменяя его тему. Так шоферы пели вместо: «Ямщик, не гони лошадей» – «Шофер, не меняй скоростей»134. В романе Г. Уэллса, отмечал В. Шкловский, ученые изобрели вещество, позволявшее молодому организму расти вечно, а один посредственный врач украл пищу, и она попала к крысам, они выросли гигантами, также гигантской стала крапива, на которую случайно попал порошок Пищи богов. Отметим, что в этой детали В. Шкловский неточен: гигантские осы, крысы и крапива, а также плетущаяся настурция выросли не у посредственного врача, а у семейства Скилетт, которое было нанято учеными для проведения эксперимента с Пищей богов на отдельной ферме. У посредственного врача, действительно укравшего порошок чудо-пищи, выросла до ужасных размеров другая живность, о чем Г. Уэллс в романе писал так: «На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива, но по меньшей мере три вида водяных пауков, несколько личинок стрекозы (вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела потрясали весь Кент) и отвратительная студенистая тина, переполнившая пруд…» (121.288) 135. Кроме того, порошок вовсе не вызывал способность организма расти вечно, Г. Уэллс писал: «Рост увеличивается раз в шесть-семь, не больше, сколько бы Пищи вы ни вводили» (121.278), а как только «человек, животное или растение достигало полного развития, Пищи им больше было не нужно» (121.279). В. Шкловский отметил, что у М. Булгакова «самоуверенный пошляк-ученый, который, похитив пищу, вызвал к жизни силы, с которыми не мог справиться, заменен самоуверенным «кожаным человеком» <…> Змеи, наступающие на Москву, уничтожены морозом»136, и потому М. Булгаков – «похититель», объединивший несколько чужих тем в одну137.