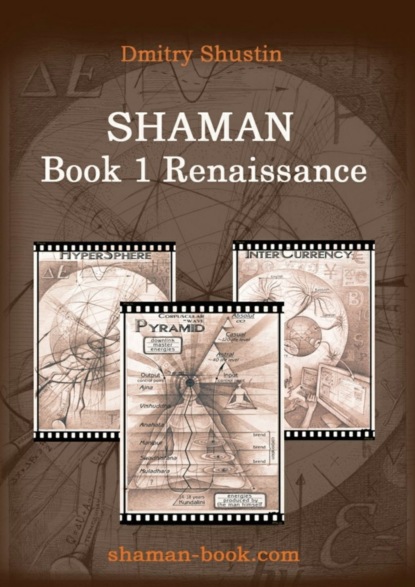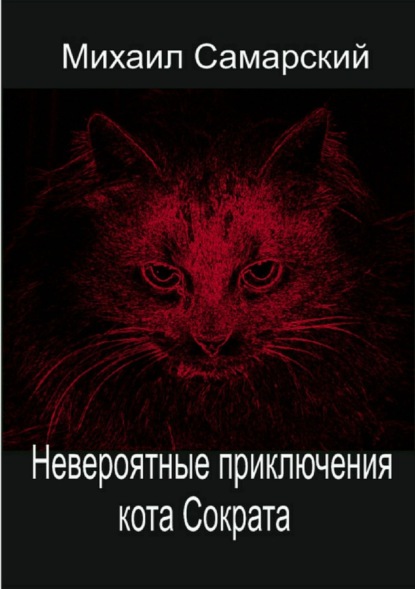Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 2. Мудрость профессора Преображенского

- -
- 100%
- +
Оба профессора размышляют в переломный для экспериментов момент, когда зловещие последствия опытов проявились максимально и необходимы активные действия ученых по исправлению сделанного. В повести РЯ сцена размышлений Персикова предшествует его гибели, т.е. является частью финала повествования. В повести СС сцена размышлений Преображенского становится поворотным моментом в дальнейшем развитии действия, но до финала еще далеко.
Сравним детально. В повести РЯ Персиков накануне своей гибели сидит в кабинете за столом, на котором лежат газеты и телеграммы о бедствиях в республике от нашествия порожденных им змей. «Профессор не работал и не читал» [23, с. 422], «смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил» [23, с. 423], «слоистый дым веял вокруг него» [23, с. 422].
В повести СС после осознания, какого монстра он создал, профессор Преображенский, сидя в кабинете, тоже курит: «долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем» [25, с. 496]. Преображенский пытается «разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире» [25, с. 497]. При этом у него нет остекленевшего взгляда, как у Персикова в РЯ. Персиков в итоге курения-размышления произносит: «Ишь, как беснуются… что ж я теперь поделаю» [23, с. 423]. В повести СС «тяжкая дума» [25, с. 496] Преображенского увенчана его репликой, провозглашающей намерение не опускать рук и действовать: «Ей-богу, я, кажется, решусь!» [25, с. 497]. Эти слова поддержаны булгаковской ремаркой: «очень возможно, что высокоученый человек разглядел причину удивительных событий после операции» [25, с. 497].
Размышляющий в кабинете Преображенский прямо сравнивается автором с Фаустом: он представлен «в полном одиночестве, зеленоокрашенный, как седой Фауст» [25, с. 497]. В повести РЯ подобного прямого сравнения нет, однако описание момента принятия экспериментаторами личного решения о судьбах своих опытов в обеих повестях происходит в подчеркнуто одинаковых «декорациях». Если исходить из предположения об общей фаустианской теме в повестях Булгакова и, соответственно, о преемственности историй двух булгаковских профессоров, в повести СС перед читателем предстает более совершенный московский Фауст в сравнении с первой, неудачливой его ипостасью – Персиковым.
Этот возможный вывод косвенно подтверждает также характер восхвалений учениками Персикова и Преображенского научных достижений своих учителей.
Ученик Персикова доцент Иванов говорит об открытии своего руководителя так: «Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное… вы открыли луч жизни! <…> …вы приобретете такое имя… У меня кружится голова. …Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор…» [23, с. 368]. Борменталь описывает успех хирургического «акта творения» гомункула в операции Преображенского в научном дневнике так: «Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу! Профессор Преображенский, вы – творец!» [25, с. 474].
В приведенных оценках двух экспериментов отмечен равный по значимости размах научной деятельности ученых. Прозвучавшее в дифирамбах одного из учеников имя Фауста, похоже, выполняет ту же роль, что и схожесть «декорации» (курение в кабинете), в которой два профессора размышляли о судьбах своих опытов. Упоминание имени Фауста служит своеобразным указанием на единую символическую природу образа профессора в двух повестях, а также на эволюцию образа. Преображенский – такой же московский Фауст, как и профессор Персиков, но он – ученый в новом качестве и с иной исследовательской позицией. Неудачный опыт не приводит его к гибели, потому что Преображенский понял причину неудачи, знает, что делать, и готов исправить ошибку.
А в том, что само исправление ошибки профессором не означает его отказа от дальнейшего познания, убеждает финал повести СС. И здесь мы тоже встречаем фаустианский мотив!
Последние строки повести СС звучат рефреном гётевскому гимну вечно беспокойной и ищущей человеческой натуре и неостановимости познания, и в этом мы находим еще один маркер фаустианской темы в повести СС. В финале истории Шарик, вновь обретший собачье тело и сердце, взирает на «седого волшебника» Преображенского, упорно продолжающего творить «страшные дела»: «Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился…» [25, с. 517]. Сравним с гётевским:
Фауст
Нам здешний мир так много говорит!
Что надо знать, то можно взять руками.
Так и живи, так к цели и шагай,
Не глядя вспять, спиною к привиденьям,
В движенье находя свой ад и рай,
Не утоленный ни одним мгновеньем! [40, с. 425] 10
…Особенно плодотворной для понимания фаустианской сути второго булгаковского профессора и, соответственно, связи образа Преображенского со своим «идеальным прототипом» стала тема освоения в познании «внутреннего огня» познающего, связанного с качествами «сердца»/души.
В комментарии А. Соколовского к прозаическому переводу «Фауста» столетней давности (книга эта была в библиотеке М. Булгакова) названа важная особенность изучения природы отцом Фауста: «В подлиннике стоит: mit Redlichkeit, т. е. правдиво; но здесь именно намек на то, что отец Фауста изучал природу безгрешно, т. е. не ища помощи злых духов, в чем в то время подозревали всех, занимавшихся естественными науками»11. И далее Соколовский поясняет, почему Гёте использовал для черта образ собаки: «По средневековым поверьям, злые духи особенно часто являлись людям в виде собак»12.
Таким образом, появление рядом с Фаустом Мефистофеля в образе черного пуделя с огненным следом («пламя / за ним змеится по земле полей» [40, с. 59]) – олицетворенной силы совращения человека с пути праведного13, обусловлено тем, что Фауст, в отличие от отца, отказывается от безгрешности в познании, что у Гёте представлено как отказ от смирения в чувствах и желаниях:
Фауст
…«Смиряй себя!» – вот мудрость прописная,
Извечный, нескончаемый припев,
Которым с детства прожужжали уши…
Я утром просыпаюсь с содроганьем
И чуть не плачу, зная наперед,
Что день пройдет глухой к моим желаньям
И в исполненье их не приведет…
<…>
Бог, обитающий в груди моей,
Влияет только на сознанье.
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влиянье.
Мне тяжко от неполноты такой,
Я жизнь отверг и смерти жду с тоской [40, с. 71–72].
В приведенном фрагменте важно высказываемое Фаустом страстное желание не просто фиксировать разумом происходящее во внешнем мире, но и освоить силу, живущую в груди. Именно это разочарованному в «сухом познании» Фаусту, разбившему «градом проклятий» [40, с. 73] старое «здание» представлений о мире, предлагают незримые злые духи-«малютки», помощники Мефистофеля, – построить «свой новый чертог» [40, с. 73], вначале погрузившись в хаос собственных чувств/страстей. Но в глубине груди находится сердце! И, судя по реплике Фауста, он верит в лучшее в своем сердце: «Бог, обитающий в груди моей…» Поскольку все, происходящее с Фаустом, архетипично, можно уверенно констатировать, что в представлении Гёте подлинное знание невозможно без овладения всеми собственным силами, живущими в груди/сердце познающего. В соответствии с новыми правилами познания Фауст начинает с того, что ему предлагает черт: он становится бездумным повесой, чтобы «изведать после долгого поста, что означает жизни полнота» [40, с. 71].
Фауст
Отныне с головой нырну
В страстей клокочущих горнило.
Со всей безудержностью пыла
В пучину их, на глубину…». [40, с. 77]
Его конечная цель – понять, возглавить и перехватить власть над природой и прояснить все возможности своих внутренних сил. С внешней стороны это выглядит и как желание получить личное, в том числе чувственное удовлетворение, – конкретную пользу от познания. Стремясь в литературном творчестве к типизации, в истории своего главного героя Гёте отобразил одну из заметных особенностей познания в Новое время: оно приобретало черты бунта против ограничений прежних форм знания, и важную роль в нем стали играть человеческие желания, страсти и насущные потребности14. С точки зрения прежнего знания, которое опиралось только на рациональное начало, в ситуации, когда для познающего, по утверждению Мефистофеля, «со всех приманок снят запрет» [40, с. 201], познание становилось делом грешным, «нечистым».
Спутник, появившийся в начале странствия Фауста в виде черного пуделя, вертится перед ним, томит, беспокоит, раздражает своей горячкой [40, с. 35]. Демон отрицания Мефистофель, «отец сомнений и помех» [40, с. 241], является еще и демоном-искусителем, ввергающим Фауста в различные виды активности, испытывая его связь с Богом. В этом суть миссии черта согласно «Прологу на небесах» в драме Гёте, причем миссия эта одобрена Господом, с помощью черта испытывающим Фауста, но одновременно твердо верящим в его стойкость. В «Прологе» Гёте точно обозначает, что за силами в человеческой груди стоят разные «кураторы».
Союз Фауста с черным псом, за которым при первой встрече вьется огненный след, выглядит как соединение двух огней: внутренней «горячки» главного героя и демонического пса, добавившего своего «темного огоньку» к полыхающей страсти Фауста познать все в мире до донышка. Но и Бог верит в конечную победу Фауста над демонами, внешними и внутренними:
Господь
Он служит мне, и это налицо,
И выбьется из мрака мне в угоду.
Когда садовник садит деревцо,
Плод наперед известен садоводу [40, с. 34].
В свою очередь, Фауст осознает сложную природу своего внутреннего огня. Он говорит о раздвоенности своей души, о своих высоких и низких устремлениях:
Фауст
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела… [40, с. 57–58]
<…>
В придачу к тяге ввысь,
Которая роднит меня с богами,
Дан низкий спутник мне [40, с. 138].
Этот двусоставной «внутренний огонь» героя – основа его бунтарства против сухого и «мертвого» знания, стремления к познанию всей глубины страстей и сердца, желания стать центром силы и власти в мире.
Огонь, роднящий Фауста и Мефистофеля (у Гёте звучит, что они «братья», безумцы, бунтари с жилкой творческой [40, с. 254]), – это «чертово пламя», телесный жар, чувства, страсти. И вместе с тем в груди Фауста есть место и для Божьего, «высокого» огня. Именно эту часть души в финале ангелы забирают на Небо, в Божьи пределы: «Подымаются к небу, унося бессмертную сущность Фауста» [40, с. 437]. «Темный» огонь души, связанный с чувствами и страстями, таким образом, соотносится с жизнью тела и гаснет вместе с его смертью, а светлый, «чистый», огонь возвращается к Отцу Небесному. С точки зрения герметизма после смерти Фауста происходит финальная дистилляция его духовной составляющей, разделение сущностей и последующее соединение с породившими их стихиями и силами. Куда «уходит» «низкая» часть души? Очевидно, в глубь земли, в «ведомство» природы и черта…
У Гёте в начале странствия Фауста «чертово пламя», связанное с жизнью тела, его силой и возможностями, в том числе любовными, требуется обновить. К этому прилагает усилия Мефистофель. Он ведет Фауста к ведьме, чтобы омолодить его, укрепить его жизненные силы, помочь «три десятка сбросить с плеч» [40, с. 101]. В кухне ведьмы Фауст пробует зелье (вино), причем оно имеет огненную природу: «Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается» [40, с. 110]. После пития зелья Мефистофель отмечает, что тело Фауста достаточно «жару набралось» [40, с. 111] для начала трудного странствия. Также в кухне ведьмы проявляется направление дальнейших действий Фауста, определяется важнейшая точка приложения его возросших сил, явно чувственной природы: он видит в зеркале образ Елены Прекрасной, в нем вспыхивает страсть к этой женщине:
Фауст
Кто этот облик неземной
Волшебным зеркалом наводит?
Любовь, слетай туда со мной,
Откуда этот блеск исходит.
Кто эта женщина вдали?
<…>
Пропал! Я как в бреду.
<…>
Я страстию объят горячей! [40, с. 104–105]
Мефистофель обещает Фаусту, что теперь, «глотнув настойки, он Елену / Во всех усмотрит непременно» [40, с. 111]. В непристойной шутке Мефистофель обрисовывает пространство активности Фауста – погружение в любовную страсть. Таким образом, можно утверждать, что прибыток «чертова огня», который Мефистофель дает Фаусту с помощью ведьминого зелья, фактически связан с омоложением лет на тридцать и с возрастанием половой силы.
…Известное в современном булгаковедении сравнение квартиры Преображенского с «кухней мира»15 перекликается с возможностью сравнить его с кабинетом гётевского Фауста и с «кухней ведьмы»: Фауст стремится стать богоподобным и с помощью магии сотворить чудо, привлекая в помощники самого черта-Мефистофеля, а ведьма у Гёте способна омолодить и прибавить половой силы своим зельем; в квартире Преображенского, в приемной и операционной за «волнистым и розоватым стеклом двери» [45, с. 436], знают рецепты омоложения и помогают пациентам профессора, пожилым мужчинам и женщинам, получать прилив половой силы после хирургических манипуляций16.
Особо отметим, что Преображенский упоминает клинику, где он тоже делает операции («Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас…» [25, с. 444]), но основная его деятельность происходит в квартире, где есть превосходно оборудованная операционная с «целой бездной предметов» [25, с. 440]. Такая же «бездна» приборов, шкафов, столов и ламп была и в лаборатории профессора Персикова. Так с помощью ряда деталей Булгаков демонстрирует преемственность мест, где трудятся его профессора.
Получая от Преображенского вожделенное обновление «телесного жара», его пожилые клиенты рассыпаются в благодарностях: «Хе-хе… Мы одни, профессор? Это неописуемо <…> двадцать пять лет ничего подобного! <…> Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями…» [25, с. 441]. Преображенский по своей признанной в Европе схеме хирургической операции по пересадке половых желез способен омолодить человека на 25 лет, это следует из восхищенного признания его пациента, которое заканчивается словами: «Вы – кудесник!» [25, с. 441].
Операционная и приемная Преображенского видятся псу Шарику сверкающими от света ламп пространствами мага, чародея и волшебника [25, с. 440, 441], пес прямо характеризует их как «похабное местечко» [25, с. 444], которое отмечено «зловещим запахом» [25, с. 437], и эта характеристика схожа с описанием запаха колдовского варева из котла на кухне ведьмы у Гёте:
Мефистофель (ведьме)
Нужда у нас в твоем вине…
Ведьма
Вот есть немножко во флаконе,
Понюхайте, какой букет.
Теперь оно совсем без вони… [40, с. 108]
В кухне ведьмы Фауст глядит в зеркало и вдохновляется обликом Елены Прекрасной [40, с. 104] также в приемной Преображенского пациент профессора воодушевляется образом красивой девушки: «из карман брюк вошедший выронил на ковер маленький конверт, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел» [25, с. 441].
Итак, топосы зловещих и колдовских мест, где происходит омоложение и усиливаются возможности телесной любви у Гёте и Булгакова, по ряду деталей, а главное, функционально схожи.
А теперь сравним пространства для исследовательской деятельности первого булгаковского профессора – Персикова и второго, – профессора Преображенского. У первого, Персикова, было два кабинета, и основную свою работу ученый проводил в административном помещении зооинститута. Второму профессору писатель возвратил фаустовскую «норму»: как и Фауст, Преображенский действует вне административных пространств, в кабинете, операционной, приемной, являющихся частью его жилища. Интересно также пожелание профессора, высказанное в споре со Швондером: «Я один живу и работаю в семи комнатах… и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку» [25, с. 446]. Это означает, что книг у Преображенского очень много, и это тот же признак фаустианского пространства, что у профессора Персикова, книги у которого были «до потолка». Отметим, что комнат у Преображенского больше – у Персикова было пять.
Успешная деятельность героя булгаковской СС в делах омоложения позволяет увидеть в нем не просителя телесного жара, подобно Фаусту в произведении Гёте, а дарителя молодых жизненных сил и телесных благ страждущим. Так получают полное обоснование эпитеты в адрес Преображенского: «маг», «кудесник», «волшебник» [25, с. 456], «божество» [25, с. 457], каковые совершенно отсутствуют в характеристиках профессора Персикова. Преображенский, как и гётевская волшебница-ведьма, способен увеличивать жизненные силы/телесный жар своих пациентов, следовательно, обладает высоким магическим статусом. Если у Булгакова второй профессор – «Фауст», то следует искать соответствия образа Преображенского и его гётевского прототипа не на самом первом этапе странствия-познания, как Персиков, в образе которого подчеркнута лишь его потенциальная способность постигать тайны мира (персиковский «гениальный глаз» [23, с. 426] и «что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек – покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков» [23, с. 426]), а позже.
Взаимодействие Фауста Гёте на всем протяжении его странствия-познания с женщинами в разных их ипостасях: ведьмами Брокена, Маргаритой, Матерями на дне мира, сивиллами, Персефоной, Еленой Прекрасной, – поддерживает тему телесного, полового жара как основополагающего источника сил героя-мудреца, движимого страстью стать богоподобным властелином тайн мира, научиться создавать живые формы самостоятельно. Фауст жаждет оживить-воссоздать телесно и духовно идеальную женщину – Елену Прекрасную, и эта цель героя Гете схожа с результатом эксперимента Преображенского, созданием московского гомункула. Все варианты общения Фауста с реальными и мифическими женщинами (олицетворяющими способность рождать) у Гёте сопровождаются непременным прямым или косвенным упоминанием кухни ведьмы. Так, перед первым и неудачным «отелесниванием» Фаустом Елены и Париса, перед спуском его «из мира форм рожденных» [40, с. 244] на Дно к Матерям, в мир «прообразов» всех вещей [40, с. 244], звучит вопрос Мефистофеля, готов ли Фауст встретиться с новой могущественной силой в женском обличье, которую уже нельзя, как в кухне ведьмы, увидеть глазами. Это о том, что богини-Матери невидимы и живут в абсолютной пустоте, в нехоженном, девственном, недосягаемом для человека мире. И Фауст отвечает:
Такой вопрос излишен.
В нем отголосок «кухни ведьмы» слышен [40, с. 242].
Перед проявлением зрелого магического могущества Фауста, выраженного в способности оживить Елену для брака с нею, герой Гёте общается с сивиллой Манто и опускается в мир мертвых, к Персефоне. В диалоге с сивиллой о необходимости «вылечить» его от сумасбродства, Фауст опасается, что в нем потухнет огонь: «Лечиться, чтоб огонь во мне потух? / Чтоб стал я рассудителен и сух?» [40, с. 288]. И это явная отсылка к его словам в кухне ведьмы: «Я страстию объят горячей!» [40, с. 105].
Все эти детали у Гете позволяют убедиться, что поворот от сухого рационального знания в пучину страстей у Фауста не хаотичен. Перед Фаустом в его странствиях путеводной «звездой» является образ Елены Прекрасной, в античности олицетворявшей идеалы красоты, совершенство формы, и силой, помогающей преодолеть все трудности и преграды в познании тайн природы, является любовная страсть к Елене. Фауст-мудрец, отринув мертвое знание, в странствии – любовном приключении обретает новое знание о себе, своем сердце; познание для него неразрывно с поиском личного счастья в союзе с идеальной женщиной. С провалами, преступными ошибками, он восходит к олицетворенному в мифах Идеалу женщины. О Елене он говорил так:
Фауст
Неужто я ее одну,
Божественную, молодую,
Как я ее себе рисую,
Всей страстью к жизни не верну? [40, с. 288].
Пройдя ряд испытаний с помощью Мефистофеля, Фауст обретает статус мага, вызывает Елену к жизни и вступает с нею в брак, плодом которого становится их сын Эвфорион – символ окрыленного духа поэтов. Вот как писал об этом этапе жизни Фауста литературный критик, современник М. Булгакова Л. Шепелевич: «Елена… высокий символ чистой красоты. Фауст рядом с нею оказался представителем северной германской культуры, впервые постигшим тайны классической красоты, a Эвфорион – дитя этого союза – окажется символом поэзии творчества, происшедшего от соединения начал, имеющих столь мало общего» 17. Сам Гёте говорил об Эвфорионе так: «Эвфорион… не человек, а лишь аллегорическое существо. Он олицетворение поэзии, а поэзия не связана ни с временем, ни с местом, ни с какой-нибудь определенной личностью»18.
Погружение Фауста в пучину страсти оказывается опытом использования жара тела и чувств для осознанного творения новых живых форм, и самым ярким примером такого творчества становится оживленная Елена и рожденный ею сын.
У Гёте природа творческого мастерства Фауста, отмеченного браком с Идеалом красоты, связывалась с владением духовными возможностями, своим внутренним огнем. Так, Фауст после первой неудачи воплотить Елену в земном мире, демонстрируя великую веру в то, что в будущем осуществит мечту, восклицал:
Фауст
Здесь собственный мой дух сплотит тесней
Двоякий мир видений и вещей… [40, с. 256].
Особую духовную силу, способную «скреплять» видения и земные вещи, Гёте уравнивал с мастерством воплощать мечту, «отелеснивать» образы, как это происходит в поэтическом творчестве, оживляющем нафантазированных героев, дающем им жизнь в веках. Фауст в финале своих странствий, испытаний и уроков обрел и статус гениального инженера, когда смог, покорив земные стихии, отвоевать у моря большой кусок суши, и статус гениального поэта, получив после смерти сына Эвфориона его лиру и плащ («гения наряд» [40, с. 371]), наделявшие его способностью парить в небесах (не здесь ли корень булгаковской фразы о создании романа «МиМ»: «Мы совершим с тобой последний полет»19?).
Таким образом, освоив в странствии-научении «высокую» часть огня своего духа при опоре на «темный» огонь страсти к Елене, Фауст, как маг, инженер, поэт, – научился творить подобно Богу живые формы, что у Гете уравнено со способностью парить в небесах, как птица.
В финале судьбы Фауста он, вознесшись к Богоматери в Ее Славе, становится частью Небесной сферы под названием Вечная женственность [40, с. 446], т.е. обретает место в вечности в составе Творящих сил, не утративших атрибут женской природы. Вообще, не будет ошибкой определить, что именно женское начало как олицетворение производительных сил природы определяет цели и содержание фаустианского «грешного» познания. Тема любовной страсти Фауста раскрывается в трех этапах его взаимодействия с женским началом:
– начинается со слепой страсти к земной Гретхен (очень важно здесь упоминание переводчиком Соколовским, что у Гёте в подлиннике Мефистофель называет Гретхен «das affenjunge Blut», т.е. буквально «молодая обезьянья кровь»20, что позволяет определить суть первой страсти Фауста и Маргариты как животное влечение, и в этой связи интересно упоминание в булгаковской повести СС пересадки Преображенским старой даме яичников обезьяны, кажется, здесь видна прямая аллюзия на гётевский текст);
– проходит через Брокенский шабаш ведьм с их темными и грязными телесными страстями; благодаря интермедии «Сон в Вальпургиеву ночь или Золотая свадьба Оберона и Титании», «задержавшей» развитие действия, Гёте изящно сопоставляет золотой юбилей брака духов земли и шабаш ведьм: эти события совпадают по времени – первое мая, а их общая основа – энергии, обеспечивающие плодородие (совокупление, брак), которые могут быть высокими и низкими (любовь-похоть). Так Гёте создает возможность неоднозначности оценки шабаша. В частности, в применении к судьбе Фауста развивающая роль шабаша кажется несомненной21;
– приносит результат в отелеснивании Фаустом Елены Прекрасной и вступлении его в брак с нею;
– наконец, после смерти Фауста завершается соединением «высокой» части его духа с небесной Вечной Женственностью и вхождением в состав творящих сил в образе Богоматери на Небе. Совершенствование чувствований Фауста наряду с все возрастающим его умением скреплять видения и земные вещи в этом ясно обозначенном стремлении от слепой животной («обезьяньей») страсти к высокому союзу с Высшим женским началом на Небесах невозможно отрицать22.