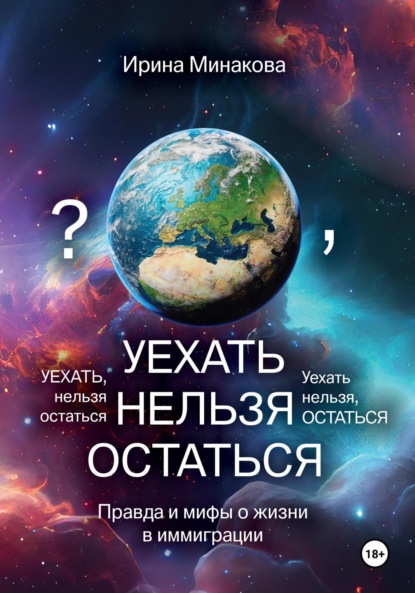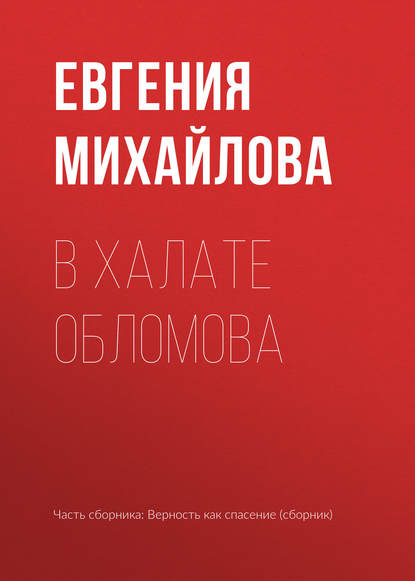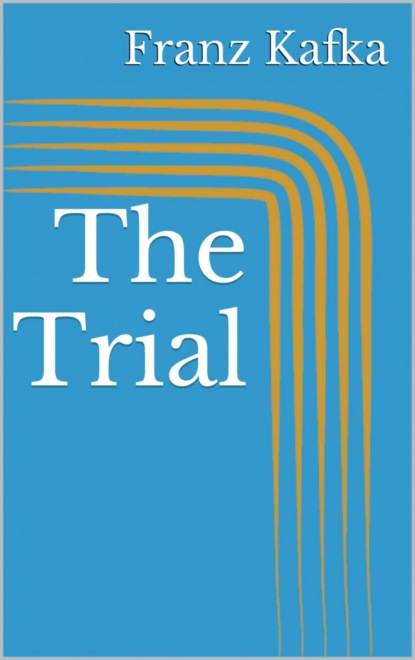- -
- 100%
- +

Введение, или Клубника на завтрак
В каких же розовых очках я жила первую половину своей жизни… Помню, как впервые иностранный мир проявился в моем собственном детском мироощущении в виде чешских луна-парков с американскими горками, жевательных резинок с их надувными пузырями и целлофановых кульков с английскими надписями… Тогда все это считалось необыкновенным шиком… Помню также, как в юношестве ходили по рукам иностранные каталоги с картинками западных товаров. По ним мы себе представляли, как там, за рубежом, живут люди… Вспоминаю, как мама по ночам слушала скрипящий из-за помех «Голос Америки» (тогда как раз решались судьбы Сахарова и Солженицына). Людей, которые в те времена эмигрировали на Запад, официально считали врагами народа и предателями, а сам народ их часто считал людьми, уехавшими за свободой или признанием (во всяком случае так было в моей семье). Временные поездки за границу были доступны лишь начальству, избранным артистам, немногим людям по работе, а некоторым, так сказать, по блату. В годы перестройки, когда запрет на поездки за границу был снят, я продолжала витать в иллюзиях о том, как здорово жить за рубежом, тем более, что моя семья не относилась к вышеперечисленным категориям, пригодным для выездов. Скорее относилась к тем, для которых любая «заграница» была за пределами всяческих фантазий и возможностей даже в те времена, когда загранпоездки стали дозволенными. Помнится, как в это время в одном из выступлений юмориста и всенародного любимца Жванецкого, только что вернувшегося из одной из своих первых поездок за границу, прозвучала фраза:
– Я вот только не понял, почему ТАМ клубнику едят на завтрак, а у НАС в июне…
Я тогда расхохоталась от всей души, а фраза осталась в моей памяти навсегда. Она у меня ассоциировалась с той разницей стандартов, в которых жили мы и западное общество, с иллюзией, что ТАМ, за границей, и жизнь благополучней, и небо голубее, и трава зеленее…
И вот однажды, в возрасте тридцати трех лет (а на дворе был конец тысяча девятьсот девяносто пятого года) я приняла решение эмигрировать. Конечно же, это не произошло с бухты-барахты. И книга эта как раз не только о том, как мне жилось и живется за границей, но и о том, как сложно было принимать то или иное решение, о том, как я училась стратегировать, о том, как важно было не семь, а двадцать семь раз отмерить и один раз отрезать или, наоборот, не отрезать при обдумывании переезда в другую страну. Пожив в разных странах от трех месяцев (к примеру, в Китае или Греции) до тридцати лет (в Чехии) и вкусив возможность увидеть как минимум пять стран изнутри, и даже иметь возможность и предложения эмигрировать в каждую из них, у меня давненько появилось желание поделиться накопленным опытом и помочь другим разобраться с вопросом: стоит или не стоит менять свое постоянное место жительства, то есть ПМЖ, и где поставить запятую в выражении «уехать нельзя остаться». Я прекрасно понимаю, что эмиграция каждого человека – это очень индивидуальная история, и что нельзя обеспечить всех универсальным ключом к решению тех или иных проблем с ней связанных. Тем не менее считаю, что каждая отдельно взятая судьба заслуживает внимания и является весьма поучительной. Было бы здорово, если бы и другие эмигранты нашего времени написали о себе книги. У меня это просто зов души, живущий во мне уже более десяти лет.
Сейчас, когда в мире все переворачивается с ног на голову – меняется климат, возникают бесконечные экономические, политические и военные кризисы, таинственный «Голос Америки» сменился бумом всевозможных СМИ, фейков, искусственным интеллектом и множеством коммуникационных платформ, а любая «заграница» стала всем открыта (были б только деньги), – люди вдруг начинают понимать, что древние авоськи на самом деле здоровее целлофана и пластмассы, да и клубника на завтрак – это сплошная химия, если вырастает не в сезон, а войны и различные кризисы должны послужить уроком, а не поводом к дальнейшим конфликтам и переходящей из поколения в поколение ненависти; что мир и любовь – это главное, к чему нужно идти и в чем себя реализовывать.
Поскольку книга эта об эмиграции, хотелось бы внести немного ясности в терминологию, которую я здесь использую. Слова эмиграция и иммиграция – по сути об одном и том же. Разница лишь в том, с какой точки зрения я рассказываю о переезде в другую страну. Если с точки зрения той страны, из которой уехала, то использую слово эмиграция, а если с точки зрения той страны, в которую я переехала, то употребляю слово иммиграция. Часто пользуюсь и такими универсальными словами, как миграция, релокация или переезд. Так что не судите меня строго, если такой подход не соответствует лингвистическим стандартам. Поверьте, суть ведь не в игре слов, а в самой судьбе, ее уроках и сложных выборах.
И еще об одной языковой детали. Несмотря на то что на Украине сейчас принято говорить «в Украине» (поскольку это страна, и значит, нужно говорить в стране), я же по старинке в своей книге использую предлог «на». Для меня Украина осталась по большей части в прошлом, поэтому я пользуюсь предлогами, к которым привыкла с детства (и Шевченко писал «на Вкраїнi милiй»). Кстати, интересно, почему до сих пор не поменяли предлог во фразе «у Криму»? Это ведь полуостров, а значит, на полуострове, к примеру, на Пелопоннесе. Соответственно, надо бы по-украински говорить «на Криму». Ладно, не буду вмешиваться в современные лингвистические баталии. Возможно, что и в русском языке я отстала как минимум на тридцать лет от правил современной грамматики. Поэтому заранее прошу простить меня, если что-то напишу по старинке.
Еще на одну особенность хотелось бы обратить ваше внимание. Я часто использую феминитивы (к примеру, лингвистка вместо лингвист и т. п.). Не исключено, что появится и сленг, который сегодня вышел из употребления. Ведь книга охватывает период с девяностых годов прошлого века по сегодняшний день, май две тысячи двадцать пятого года. Сам сюжет я расположила не хронологически, как в автобиографии, а тематически, чтобы читатели могли легко вернуться к той части книги, тема которой их больше всего интересует. Я делюсь здесь своим многолетним опытом жизни в иммиграции и рассказываю о том, что не прописано в справочниках и пособиях. Эта книга может изменить чью-то жизнь, открыть глаза на истинные реалии жизни за границей, поможет принять финальное решение и в случае переезда справиться с его сложностями.
Моя жизнь здесь представлена в контексте культурных пластов нескольких стран и континентов, а сама тема эмиграции превращается в своего рода метатему. Книга предупреждает, как не наступить на те или иные грабли, к чему быть готовым в той или иной стране, если все же приняли решение переехать. Сравнивая аспекты своей жизни в разных странах, я также выявляю их общие закономерности, которые бы могли помочь потенциальным и свежеприехавшим мигрантам, развеиваю иллюзии и мифы об эмиграции, укоренившиеся в умах людей.
Хочу заранее извиниться перед той частью семьи, о которой в книге не говорю. А ведь отцовская ветка моей родословной так же богата своим разнообразием, корнями и миграционными историями. Обо всем этом я поведаю в генеалогическом древе, над которым сейчас также работаю.
Итак, эта книга – повод задуматься о готовности к труднейшим испытаниям, которые с большой вероятностью произойдут независимо от того, что стало причиной переезда. Я также приглашаю читателей к анализу и стратегированию предпринимаемых действий. Вместе со мной вы пройдете весь путь от сомнений и переживаний перед отъездом, через невероятные перипетии первых лет жизни за границей и до момента осознания, что, несмотря ни на что, жизнь удалась.
Часть первая. Один в поле не воин
Глава 1. Счастье за морем не ищут
Прочитав эту главу, вы узнаете, почему принятие решения уехать из своей страны может стать настоящей дилеммой. Аргументы родственников и друзей, не представляющих себе, как вы где-то за рубежом собираетесь выстроить жизнь с нуля и без всякой помощи, кажутся то убедительными, то нет. И вы, надев розовые очки и сапоги известного всем кота, решаетесь все же побороться за место под солнцем в чужих краях.
Иногда для того, чтобы понять, с каким человеком имеешь дело (а в данном случае вы имеете дело со мной), хорошо бы знать не только, кем этот человек является, но и кем не является. Я не националистка, не ура-патриотка и не пропагандистка. В этой книге я представляю абсолютно неангажированный взгляд на жизнь, не сужу жизнь по принципу «хорошо – плохо», «правильно – неправильно». Уже много лет я ощущаю себя гражданкой всей нашей планеты и частичкой всего мироздания. Я очень благодарна всем Высшим силам за то, что мне было дано ощутить это. Я всегда старалась и стараюсь приносить людям пользу и никому не вредить.
С понятием Родина у меня всегда были сложные отношения. Сначала это была необъятная страна СССР. Поскольку в других странах мы не жили и большинство наших граждан их даже не видели, то воспринимали жизнь в СССР и в детстве, и в юности, как единожды данную и незыблемую. Жили по принципу «что имеем, то и любим», и действительно было много чего достойного любви, несмотря на все болезненные недостатки нашей страны. Самые близкие мои друзья родом оттуда и вся моя семья тоже.
В свои девятнадцать лет, после окончания Львовского музыкального училища, я уехала по распределению в областной центр преподавать фортепиано, музыкальную литературу и сольфеджио. Ученики меня стали величать Ириной Вилотовной, а коллеги приставали с вопросами о моем экзотическом отчестве. Имя моего папы, Вилот, было одним из модных в предвоенное время имен-аббревиатур патриотического толка, а точнее, оно означало – Владимир Ильич Ленин Организатор Трудящихся. Скажу честно, при всей своей любви к папе я была совсем не в восторге от своего отчества. Не то чтобы я себя чувствовала жертвой революции, но было неприятно наблюдать усмешки окружающих коллег, а объяснять истоки моего отчества приходилось всем. Еще учась в училище, я узнала, что была не единственной в стране, чьи родители были названы именами вождей пролетариата и событий с ними связанными. Для тех, кто впервые столкнулся с этим, приведу пару примеров самых оригинальных, на мой взгляд, имен: Пятвчет (-а) – Пятилетка в четыре года; Оюшминальда – Отто Юльевич Шмидт на льдине; Даздраперма – Да здравствует Первое Мая.
На фоне этих удивительных имен все Вилоты, Вилорды и Вили звучали вполне благородно и даже с музыкальной точки зрения вполне благозвучно. Однако самым интересным для меня вариантом такого рода имен было отчество моей однокурсницы по музучилищу. Ее отца звали Электромиром, да-да… ей теперь предстояло стать Еленой Электромировной. Признаюсь, иметь соратницу по отчеству было даже приятно. Вот только мучил меня один вопрос: «Как же обращается семья Лены к ее отцу?»
– Лен, мама называет папу Электриком? – спросила я.
– Нет, – ответила она, – Юрой…
Умора, да и только.
Со временем, когда я училась в музучилище, у меня связаны и первые впечатления об активировавшейся в восьмидесятые годы эмиграции. Тогда много еврейских семей выезжали в Америку и Канаду, а позже, в девяностые, в Израиль и Германию. У моей мамы, преподавательницы английского языка, появилась возможность давать частные уроки, и нам стало немного полегче в финансовом отношении (к тому времени мои родители разошлись и стало совсем туговато с деньгами). У меня же в связи с еврейской эмиграцией, наоборот, усложнилась жизнь. Помнится, на третьем курсе во мне пробудился организаторский талант, и я собрала группу студентов, с которыми мы придумывали предновогодние капустники. Среди нас был пианист, четверокурсник, собиравшийся с родителями уехать в Америку. Он был очень талантливым мальчиком, прекрасно импровизировал, мог сыграть все что угодно, причем виртуозно и очень «вкусно». Я знала, что он уезжает, и мне было очень жаль терять такое дарование. В нашей «актерской» группе он был просто незаменим. Некоторые ребята говорили, что, мол, счастья за морем не ищут, что и здесь его ждала блестящая карьера. Он же всегда относился нейтрально к такого рода разговорам. Дескать, родители приняли решение, и точка.
Первый же наш капустник (вечер юмора с музыкальными номерами) имел необыкновенный успех. Мы и сами от себя были в абсолютном восторге. Но буквально через неделю меня вызвали на ковер директор с парторгом, возмущаясь тем, что я взяла в группу участников изменника Родины. Парторг с пеной у рта угрожал мне, что выбросит меня из училища, что я позорю статус учебного заведения. Самое интересное, что как только развалился Союз, его дочь в числе первых рванула за границу, а вслед за ней и он сам. Из директорского кабинета я вышла убитой наповал. Какой изменник Родины? Какой враг народа? Это же наш Миша, чудесный парень, друг, однокашник… Я, наверное, тогда впервые столкнулась с таким жестким отрицательным отношением к эмиграции. Мы обсудили ситуацию с мамой, и я приняла решение оставить «артистическую деятельность» вообще, так как попросить Мишу больше не участвовать в наших репетициях я не смогла.
Мама же со многими своими частными учениками, собирающимися уехать за океан, подружилась. И некоторые из них признавались, что их вызывали в КГБ и расспрашивали о других выезжающих семьях, настаивали на доносах. Я, в свои семнадцать лет, не очень-то во все это вникала. Но неприятный осадок от разговоров в связи с эмиграцией оставался. Мне было совершенно непонятно, почему люди не могут переезжать в другие страны, почему на них сразу же навешивают ярлык предателей. Видно, я была не совсем «сознательная». Не зря меня еще в восьмом классе не взяли в комсомол. Не могла я тогда заставить себя выучить, за что и какой орден получила комсомольская организация. Мне все это казалось политической бюрократией, не имеющей ко мне никакого отношения. Но в училище, кстати, очень быстро заметили, что я не платила комсомольские взносы. Был поставлен ультиматум: хочешь учиться – вступай в комсомол. Вот так я в него и вступила.
Через 10 лет я таким же странным образом вступила и в свой первый брак. Мама тогда заявила:
– Или я, или он. А если он, то оставляй ключи и уходи к нему. Ты мне больше не дочь.
И я, влюбленная дура, ушла к нему, а еще через полгода мы поженились. С мамой мы тогда работали в одном и том же учебном заведении, проходили мимо друг друга по одному коридору и не здоровались. Мне было очень больно, думаю, что и маме тоже. Целых полтора года она меня игнорировала. Однако со временем наши отношения с мужем начались портиться. Мы жили в так называемой кавалерке, и у меня не было ни своего угла, ни времени на себя. Вся жизнь вертелась вокруг моего мужа, его интересов, друзей и планов. А когда я, забеременев, поехала в Свердловскую консерваторию защищать свой музыковедческий диплом, муж мне сказал:
– Не забудь там сделать аборт.
Возможно, он это сказал в шутку. Он очень много гадостей за полтора года нашего брака успел мне наговорить якобы в шутку (такой уж у него был ядовитый стиль общения со мной), но этой фразы я ему простить не смогла. После защиты диплома я к нему уже не вернулась, а постучалась домой к маме. Нам обеим неимоверно полегчало, как будто гора с плеч свалилась. Меня ежедневно терзал жесточайший токсикоз, поэтому сложные роды, длиною в бесконечность, показались вполне терпимыми по сравнению с семью месяцами непреходящей тошноты. С момента, когда я узнала, что жду девочку, я ни секунды не сомневалась в том, как ее назову. Все свое детство я сожалела о том, что меня назвали Иришкой, а не Сашенькой. Сама не знаю, почему мне так хотелось быть Сашенькой. Дошло даже до того, что однажды, приехав в пионерский лагерь, я всем представилась Сашей. Там ведь, в большинстве случаев, собирались незнакомые друг другу дети, и я была уверена, что я хоть месяц покайфую в роли Саши. Но не получилась. Я просто не откликалась на это имя и постепенно начинала понимать странность этой ситуации. В конце концов я во всем призналась. Так вот, пусть не я, а моя дочь будет Сашенькой-Сашулькой, решила я.
Отец моего мужа был поляк, эмигрировавший со своей мамой и братом в начале Второй мировой войны на Украину. Для них тогда вопрос переезда был большой дилеммой. Жили они в Лодзи, оккупированной немцами, а от отца моего свекра не было никаких известий. В самом начале войны он ушел на фронт и числился пропавшим без вести. Оставаться в городе было опасно, маму могли увезти в Германию… В то время Россия и Германия организовали своего рода коридор для поляков русского и украинского происхождения для эмиграции в Советский Союз. С помощью одного немецкого офицера, который помог изменить в паспорте фамилию мамы Wlazlo на Влязлова, дети с мамой выехали из Польши. Таким образом, бабушке моего бывшего мужа удалось спасти сыновей и себя. Они оказались на Украине, во Львовской области, не подозревая, что война доберется и туда. И только во время перестройки, когда многие документы НКВД были преданы огласке, выяснилось, что отец их семьи попал в плен в самом начале Второй мировой и оказался в Катыни, в лагере для польских военнопленных, где и был расстрелян НКВД-шниками с тысячами других польских офицеров по приказу Сталина в тысяча девятьсот сороковом году. Правительство Советского Союза принесло официальное извинение за это военное преступление. А моему свекру, Александру Генриховичу, польское правительство прислало сообщение о том, как погиб его отец, и пригласило его в Варшаву на день памяти, куда съехались и другие дети погибших. Вот такая ирония судьбы – государство, спасшее их семью в начале Второй мировой, в то же время лишило их семью отца. Александр Генрихович рассказывал об этом с грустью и слезами на глазах, но без тени ненависти или злобы. Его вывод был таков: «Вот такие превратности судьбы происходят в этом мире». Этот взгляд на жизнь мне очень импонировал. У многих моих знакомых среди родственников предыдущих поколений были и раскулаченные, и расстрелянные, и сосланные, и эмигрировавшие. Но только некоторые из них сумели простить, отпустить и не погрузиться в лоно ненависти, передаваемой из поколения в поколение.
К этому времени мы с мужем были уже несколько лет разведены (наш брак можно назвать ошибкой молодости). Мама моя была права. Этот человек оказался совсем не семейным, да еще и с садистскими наклонностями. Чуть что не так, хватал за руки, оставляя на запястьях синяки, оскорблял и унижал. После развода практически не помогал и ни разу не попытался увидеться с ребенком.
Когда Сашеньке было три года, экономическая и политическая ситуация в стране все ухудшалась и ухудшалась. Наш дед Саша (так называл себя мой бывший свекор Александр Генрихович) был единственным из той семьи, кто навещал внучку каждое воскресенье. Именно он и предложил нам подумать об отъезде в Польшу. Польское правительство предложило ему возможность вернуть гражданство и переехать туда. Я тогда подумала, что вряд ли бы он в свои шестьдесят с плюсом стал этим заниматься. Однако все равно было приятно, что он выразил готовность переехать ради Саши и ее будущего. Тем временем направление, в котором развивалась Украина в девяностые, только усугубляло коррупцию, национализм, и проявляло некомпетентность во многих жизненно важных сферах. А пока я думала над тем, уезжать или не уезжать, дед Саша помогал нам выживать. Будучи членом польского общества, он помогал в девяностые организовывать туристические поездки для поляков (бывших репатриантов) во Львов, город, где они родились и провели свое детство. Их расселяли в семьях львовских поляков. Мы с мамой хоть и не были польками, но дед нам регулярно «подбрасывал» этих туристов, и мы таким образом зарабатывали несколько долларов в сутки. В те времена это очень выручало. Места у нас в квартире было предостаточно, а мама прекрасно владела польским, так как любила слушать их радио, да и к языкам у нее был талант.
В мои обязанности входило показывать гостям город, находить их прежние дома и слушать семейные истории. Так детский садик, в который я ходила, оказался бывшей виллой одной из гостюющих у нас семей. А наша районная детская поликлиника была когда-то домом другой польской семьи. Было очень трогательно слушать их воспоминания о детстве и становилось больно, когда они рассказывали о вынужденной эмиграции. Ведь наверняка не все хотели покидать свои гнезда. Но Львов в то время уже был советским, а польские и австрийские виллы были национализированы. Еще тогда я осознала, что переселение народов никогда не заканчивалось. Подобная история происходила и в Чехии, в районе Судетов. То эта территория считалась немецкой, то чешской. Поэтому оттуда выселялись то одни, то другие. До сих пор вопрос судетских немцев остается драматичным и до конца не разрешенным в Чехии.
Все эти печальные эмиграционные истории аккумулировались в моей голове и постепенно перестали казаться чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому в девяностые, когда страна СССР прекратила свое существование, а жизнь в новообразованной Украине стала невыносимой во многих отношениях, единственным решением для меня была идея о скорейшем отъезде из страны. Выжить в ней было практически невозможно. Я тогда считала, что хуже уже нигде быть не может. Когда живешь среди растущей злобы и ненависти людей друг к другу, экономической разрухи и криминального разгула, невольно чувствуешь себя воином из поговорки «один в поле не воин» и понимаешь, что ничего изменить не можешь, а делать что-то нужно. Ведь у тебя ребенок, и ты не можешь смириться с тем, что он будет расти в деформированном обществе. Да и голодом его заморить ты не имеешь никакого права.
По мере взросления глаза моего поколения открывались все шире и шире. Стали открываться многие негативные составляющие жизни в СССР. Уже мало кто не видел вездесущей коррупции, привилегированного клана членов единственной в стране партии или той неправды, которая печаталась в газете «Правда». Во время перестройки хоть и начались какие-то глобально-положительные изменения, но моя маленькая семья уже тогда почувствовала себя преданной государством. Мы принадлежали к той категории семей, до которых ни старому, ни потом уже новому государству совсем не было дела. Люди какими-то правдами и неправдами узнавали, что в такой-то магазин такого-то района завезут кур и уже с пяти утра там выстраивались очереди. Пустые полки в магазинах стали нормой. Но вместе с тем стали появляться частные мини-магазинчики с иностранными продуктами. Нашей семье (а таких семей было немало в стране) они были совершенно не по карману. Люди «со связями» научились многое «доставать» из-под полы, из-под прилавка, с базы и т. п. Мы с мамой ничего этого не умели. А потом страна и вовсе развалилась. С одной стороны, многим было понятно, что все к тому и шло, а с другой – ощущение неопределенности и хаоса заполняло и ум, и сердце. А изменить ведь ничего не могли. Да и не знали как.
На более высоком, не бытовом, так сказать, уровне после распада СССР впервые организовывались какие-то международные конкурсы и выставки. Поскольку на фоне развала страны стали формироваться самостоятельные государства, стало все чаще появляться громкое слово «международный», которое на самом деле подразумевало прежние советские республики. Да я и сама участвовала в одном из таких «международных» проектов. Назывался он АРИОС. В эту организацию я посылала частями рукопись учебного пособия по мировой художественной культуре, получая жалких двадцать пять долларов при каждом победном переходе на следующий уровень конкурса. И что? В результате в Москву была послана вся рукопись, и после этого никто не вышел со мной на связь. А было обещано издание книги и даже какая-то солидная премия. Моя школа с нетерпением ждала нового учебника. Однако весь этот конкурс оказался сплошным мошенничеством. Ладно я со своим маленьким пособием, но в конкурсе же участвовали ученые, профессора, посылающие туда труды всей своей жизни. Вполне возможно, что книги потом издавались под чужими именами. Я для себя эту тему закрыла, когда узнала, что по тому адресу, где находилась эта ассоциация, уже расположилась совсем другая фирма, и концов АРИОСа невозможно найти.
Не могу сказать точно, что стало последней каплей, но решение уехать становилось все прочнее и прочнее. Бывшей Родины уже нет на карте, а новообразовавшаяся Родина, Украина, начала меня предавать с первых дней своего существования. Кроме экономических проблем пришли и социально-политические, стало нежелательно разговаривать на русском языке, а русский я считала своим родным языком также как и украинский. Стало страшно выходить на улицу, так как почему-то все фонари были разбиты. Бандитизм, рэкет, драки как на улицах, так и в парламенте… одним словом, наступил абсолютный беспредел. Очень часто переименовывались улицы… Улица Мира превратилась в улицу Степана Бандеры, да еще и памятник ему начали на ней возводить. И все это пришло в мой родной и любимый Львов. Националистические настроения всегда были развиты в большей степени на Западной Украине, чем в других ее областях, но чтобы такой разгул и переворот в сознании людей… Для меня это было совершенно непонятно и печально. Я себя с этими энергиями совершенно не ассоциировала. Мне категорически не хотелось идти в ногу с новой Украиной. Я почувствовала себя абсолютно чужой в своем родном городе и стране. Возникло ощущение, что новая Украина наступает на старые советские грабли «до основания мир разрушим, а затем…» Подобных разочарований появлялось все больше и больше. Не только у меня, но и у многих людей тогда возникало желание оставить родные края и начать искать счастье за морем.