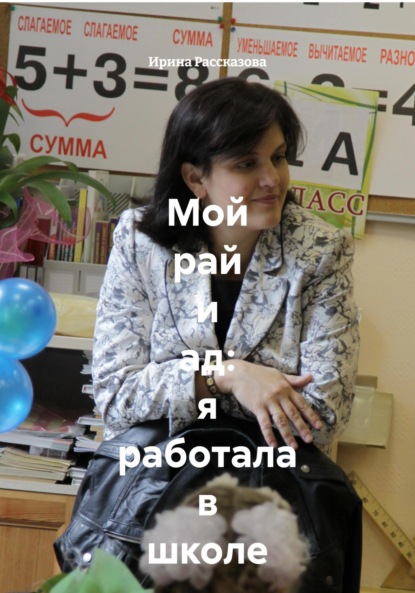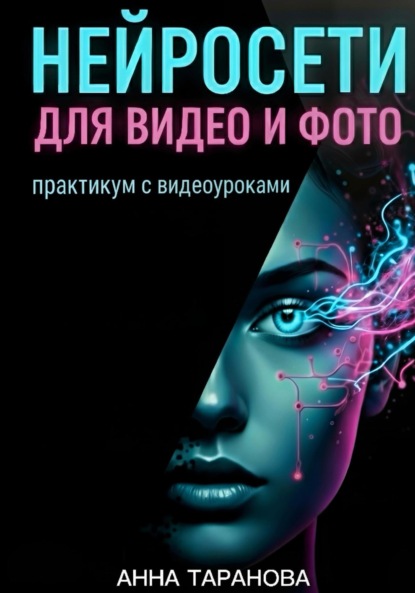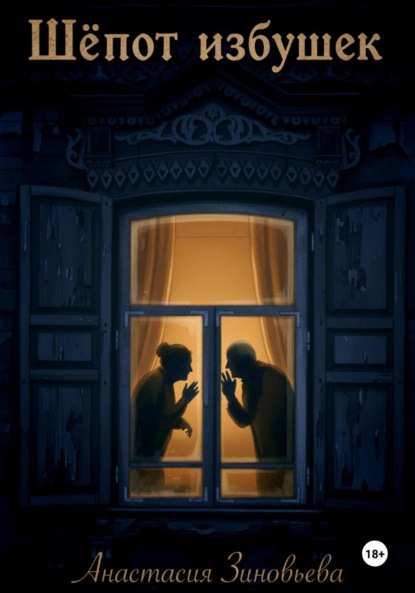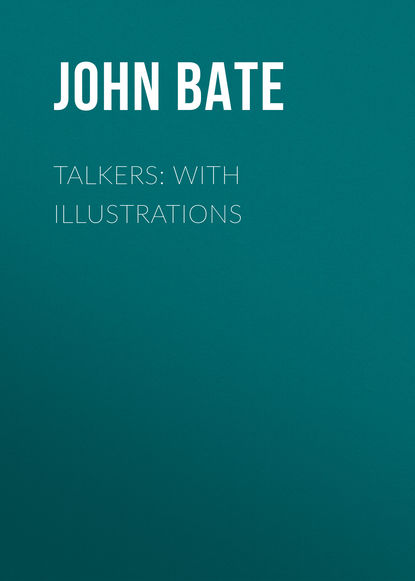- -
- 100%
- +
Во время собеседования видео вывели на экран, но директор на него не взглянул, а спросил: «Какие у вас дефициты при подготовке к урокам?» Коллега удивилась вопросу и честно сказала: «Никаких». Действительно, какие могут быть дефициты? С таким стажем любую тему даешь с закрытыми глазами. Если и нужно найти какой-то материал – книги, интернет в твоем распоряжении. А если у тебя «дефициты» после стольких лет работы – ты не учитель. В ответ коллега услышала от приехавшего на мотоцикле менеджера-директора – которого, кстати, ей пришлось прождать три часа: «Ответ неверный, мне с вами все ясно. Дефициты есть всегда и у всех в любом деле». Обстановка в кабинете при этом впечатляла (а опытный взгляд высвечивает все, от уровня культуры до комплексов его хозяина): директор сидит за столом в своем кресле, а кандидат и завучи, пожилые женщины, стоят перед ним в ряд, полукругом. Сесть никому не позволено. И вдруг коллега ощущает тычок в бок и слышит шепот: «Выпрямитесь! Он у нас сутулых не любит!»
Большего унижения она не испытывала за всю жизнь. Звонила мне, плакала: «За что?» Я успокаивала: «Да это счастье, что тебя туда не взяли, под таким работать – себя не уважать!» И думала: что сказала бы Ирина Константиновна, столкнувшись с этаким юнцом, маленьким царьком? Как бы ответила? Была бы потрясена? Насколько? Ведь пожилые женщины с огромным опытом работают там и вытягиваются в струнку перед столом юного директора. Зачем?
Я зашла на официальный сайт школы. Там даже не было указано, какое образование получил этот директор…
Я убеждена, что деньги пахнут. Есть вещи, которые нельзя делать ни при каких условиях. Ни за какие деньги нельзя терять себя. Есть у человека «предел сжатия», как у пружины, как говорили в известном фильме. Неужели этот предел у людей настолько разный?
Запомнился один методический прием у Ирины Константиновны: коллективное комментируемое письмо. Учитель диктует предложение, ученик повторяет. Начинает писать и одновременно вслух объясняет орфограммы, которые встречаются в тексте. Все пройденные. В идеале все пишут в одном темпе. Отвлечься нельзя – отстанешь. Ясно, что кто-то пишет чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Но в этом тоже особый смысл: задача усложняется, ведь нужно держать в голове и то, что прямо сейчас диктует учитель, и то, что успеваешь сейчас ты. Это невероятно трудно, а еще труднее – организовать в классе такую работу, помня, что у детей разные успехи в освоении письма. Ирина Константиновна умела. Она использовала этот прием на каждом уроке. Не думаю, что я в полной мере овладела этим навыком. Но это самая настоящая работа по огранке будущего бриллианта – обученного малыша, становление письменной грамотности. На которую мой педагог не жалела сил и времени. И только когда все было усвоено, давала контрольный диктант по теме.
То же с математикой. Контрольные устраивали редко. В основном мы решали и решали, набивали руку. Много примеров, много задач. Каждый день. Основа основ, черновой труд, тренировка. То, что не любишь показывать на открытых уроках. Но это и есть главная учительская работа.
Рай:
Контрольные – вообще особая история. Здесь мы видели актрису – Ирину Константиновну во всей красе. Со сценическими паузами, достойными театральных подмостков, являла она нашим взорам пачку тетрадей для контрольных работ, обернутых цветной бумагой. Красной – пятерки, синей – четверки, зеленой – тройки, черной – двойки. И никто не знал, кто из нас слабое звено, кто тянет класс назад. Просто вместе переживали, если зеленых и черных полосок в стопке было больше, чем красных и синих. Затем мы говорили о недостойном поведении, об ответственности октябрятских «звездочек», о звании пионера… Цель была одна: затронуть самые тонкие стороны наших душ, чтобы мы прониклись. Научить нас не быть равнодушными. Помню день, когда мы увидели много красных корешков – и ни одного черного. Мы кричали «ура!». Ирина Константиновна не останавливала нас. Она радовалась вместе с нами. А потом все же осадила. Нельзя останавливаться, нельзя успокаиваться. Теперь я понимаю: она учила нас жить. Быть настоящими. Я все очень живо воспринимала. Все мотала на ус. Брала на вооружение.
Я представить себе не могла тогда, что пройдет пара десятков лет, и именно за эти лучшие качества, которые нам прививали таким трудом, я буду расплачиваться своей судьбой, своим здоровьем, своим счастьем в профессии. Меня ждало впереди много лишений, боли… говоря честно – меня ждала настоящая трагедия.
Но даже теперь, оглядываясь назад, я не жалею, что я такая, какая есть, и я останусь собой. Думаю, благодаря Ирине Константиновне я сильно отличаюсь от многих своих коллег.
Ад:
В школе 203… я проработала недолго. Директором тогда была не педагог, а юрист. По слухам, ее муж, бизнесмен, пивной магнат, благодаря связям устроил жену на эту должность. Что у нее было идеально – так это документы, договоры, все с юридической точностью. Но в педагогике она не понимала ничего. Как-то пришла ко мне в класс как к новому учителю, познакомиться, и сказала: «За урок я должна запомнить, как каждого из детей зовут, а у вас я не запомнила; значит, урок плохой. Так что если вы будете давать такие уроки, ищите себе другое место». Рядом стояла завуч и подпевала. Я была в ужасе. Проработав к тому времени около десяти лет, я уже кое в чем разбиралась, но все же считала, что директор, раз занимает эту должность, понимает больше. Но тут впервые подумала, что могу ошибаться. Таких критериев оценки урока я еще никогда не встречала. И впервые в жизни усомнилась в правоте человека, который выше по статусу.
Я хорошо обдумала и решила рискнуть: как в омут головой. Собрала все возможные документы, конспекты уроков и поехала с жалобой в Департамент образования Москвы. В те времена для подтверждения категории, например, вызывали комиссию из департамента, все боялись этих визитов как огня, радовались, если комиссия по какой-то причине не приезжала. Но я сознательно пошла на то, чтобы пригласить комиссию на свой урок. Я решила: если бред, который я услышала от директора, вдруг (!) подтвердят и в департаменте, я уйду из профессии.
Тогда представительства департамента были в каждом округе Москвы. Думаю, сейчас в подобной проблеме никто не стал бы разбираться, меня просто растоптали бы, подпев нерадивой директрисе. Но тогда справедливости можно было добиться. Наверное, представителей департамента еще и поразила моя дерзость: думаю, ни один учитель по своей инициативе их еще в школу не вызывал.
Я провела урок. Когда комиссия собиралась уходить, я услышала из приоткрытой двери: «Не трогайте эту девочку, она может сделать урок из ничего». Я поняла, что ставка была сделана верно, я победила. Мне, однако, представители департамента посоветовали: с администрацией надо дружить. Я поблагодарила за совет, за участие и понимание, но ответила: нет, на таких условиях дружить я ни с кем не буду.
Рай:
Я слушала, как отвечали мои одноклассники на уроках у Ирины Константиновны, и особенно меня интересовали те, кто не очень хорошо понимал материал. Мне хотелось разобраться: как Ирина Константиновна добивается понимания? И скоро я обнаружила, что получается у нее не всегда. Я поставила себе цель найти рецепт. Сейчас я знаю, что есть понятия: методически верно, методически неверно. Да нет, я считаю, что не должно быть такого понятия.
Просто нужно представить, что ты мама, и перед тобой твой маленький ребенок, которому срочно нужно по-простому что-то объяснить. Я вспоминала, как мне самой рассказывала что-то сложное мама. И тогда, в первом-третьем классе, я запоминала, что не получается у моих одноклассников, и на продленке, когда мы делали домашнее задание, подходила к ним и просто, в двух словах объясняла, в чем «затык». У меня получалось. И теперь я делаю так же. Я поняла, что в этом аспекте я превзойду своего учителя. Но – только в этом.
Мне запомнилось, как одна методист, несколько раз приходившая на мои уроки, спросила: «Скажите, как вы так определяете, какой именно вопрос надо задать конкретному ребенку, чтобы он понял то, чего до этого не понимал?» Мне было очень приятно такое услышать. Что-то подобное я в себе подозревала, но делала это скорее интуитивно. Пожалуй, методист сумела это качество сформулировать.
Обратная сторона школьной медали
Мы переехали в Москву, когда мне было десять лет. Зная о предстоящем переезде, я задирала нос. Помню это, и за это стыдно. Казалось, что это как-то ново, по-взрослому: сжигать мосты. Как будто ты дорос до большого города, до того, чтобы жить в столице. Уж там-то все будет иначе, там-то я буду очень стараться. Все с чистого листа: буду стараться писать красиво, и это, помноженное на природную грамотность, сделает мое письмо достойным одних только пятерок… Я не могла себе тогда ответить на вопрос, а что мне мешало удивить Ирину Константиновну и начать аккуратно писать в тетрадях прямо сейчас. Скорее всего, я не верила, что уже составив обо мне мнение, моя учительница сможет его поменять. Я как будто боялась лишний раз открыто выразить уважение, трепет перед ней и даже любовь. Наверное, боялась каких-то ответных чувств… Или думала, что в этом случае от меня теперь всегда будут ждать только красивых работ? А если я не смогу соответствовать ожиданиям и не выдержу? Тогда я бы испугалась ее гнева.
Все из нашего городка стремились в то время в Москву. Как и из других городов в глубинке. Столица – это возможности, как ни крути. Мне в мои десять лет казалось, что, переехав в Москву, я буду жить как-то иначе, на каком-то другом уровне, и надо еще завоевать там авторитет… Все люди, жившие в столице, казались мне особенными. Я по наивности своей не понимала, что везде – и Москва не исключение – люди разные, и дети разные, и учителя разные. И школы. И ценности – тоже.
Ирина Константиновна, зная о моем скором отъезде, смотрела на меня с грустью и молчала. Ни о чем не расспрашивала. Только теперь, с высоты моих лет, я понимаю, почему.
Ад:
Переезд дался тяжело. Я ждала его как праздника, но мне тут же надавали по носу. Не буду останавливаться на том, как тяжело я привыкала к московским расстояниям, к толпам, очередям, к комнате в коммунальной квартире, как боролась со страхом лишний раз выйти в коридор, потому что боялась соседа. Я пишу о школах. И вот самым большим моим разочарованием стала школа в Москве. Я попала в ближайшую к дому, в самый обычный класс. Казалось бы, все как во Владимире. Те же уроки, та же программа, те же учебники. Те, да не те. Я увидела, что учитель может делать ошибки в записи на доске. И не признавать их. Исправлять верно написанное учеником в тетради на неверное. Я увидела, что урок можно вести, не вставая со стула, а на перемене обсуждать с коллегами свою личную жизнь. Учительница была молоденькая, только после института, недавно вышедшая замуж. Она плакала, а коллеги ее утешали, давали советы, как наладить отношения «с ним». Возможно, она ждала возможности уйти в декрет, но чужие дети ее не интересовали от слова «совсем». Мы не сильно доставали ее, в то время учителя принято было слушаться, на уроках было тихо, но мы ничего не знали по программе. Пионерские галстуки носили формально, никто не проводил с нами классных часов, не беседовал по душам. Поначалу мне было легко, я училась на пятерки, с ходу начав писать в новой тетради аккуратнейшим почерком. С требованиями, которые наша учительница не предъявляла к себе, а значит, и к нам, стать отличницей было не трудно.
Моих слабых мест (сложностей в математике, проблем с почерком) здесь никто не знал, класс подобрался очень средненький, детей мало контролировали дома, некоторые, как я потом догадалась по характерному запаху, были из очень пьющих семей. А еще меня поразило оснащение школы. Парты и стулья в таком состоянии, что форменное платье было все в зацепках, столешницы разрисованы ручками, и никто их не оттирал. Убирать класс, мыть пол нас не заставляли. Я вспоминала мою школу во Владимире: новые лакированные парты, выкрашенные полы, чистоту, порядок. Мне в голову не приходило, что в Москве может быть хуже. Я не могла себе признаться, что, радуясь переезду, гордясь этим и задирая нос перед Ириной Константиновной, одноклассниками, я в каком-то смысле предавала их. Но реальность давила, отчаяние копилось во мне, как нарыв, и однажды прорвалось. Я зарыдала. Я всегда плакала одна, чтобы никто не видел. Но это продолжалось каждый день, много месяцев. Я не могла привыкнуть к Москве, принять ее. Я понимала, что во Владимир мы уже не вернемся. Здесь у мамы работа. Она поднимает меня одна, без отца. Поэтому и говорить с ней о Владимире не имело смысла. Надо было просто перетерпеть и привыкнуть. Но я не могла.
Я отчаянно любила свой родной город и мечтала вернуться туда. И знала, что никогда не вернусь. До сих пор я воспринимаю Москву как рабочий город, город возможностей. Очень уважаю Москву. Но не люблю, хотя живу здесь уже почти сорок лет. Каждое лето я во Владимире. Там спокойно моей душе, там воздух детства.
Рай:
Тогда, в 1987-м, я взяла с мамы слово, что при первой возможности мы съездим во Владимир. Я хотела зайти в школу. К Ирине Константиновне. Мама всегда держит слово, сдержала и на этот раз. Помню, была зима. Я приехала в модной дубленке, такой не было ни у кого из моих бывших одноклассников. Сейчас не могу сказать, почему я так поступила, думаю, я пыталась свой стыд, страх, отчаяние, вину скрыть за бравадой превосходства. День был будний, почему-то мы в Москве не учились – это было начало каникул, а во Владимире еще продолжались уроки. Я зашла в класс, Ирина Константиновна посадила меня за свободную первую парту, сказала что-то вроде «Ирина приехала, посиди с нами…» Ребята выполняли задание, Ирина Константиновна склонилась над столом, смотрела на меня спокойно, ни о чем не расспрашивая. Я старалась не встречаться с ней взглядом. Я не могла разрыдаться при всех, сказать, как мне плохо. Как я хочу сюда. Она бы поняла – но другие бы не поняли. А перед ней было стыдно. Как-то сама обстановка (может, ее и создала в тот момент моя первая учительница?) мне подсказала: я отвлекаю всех, они заняты делом. Я досидела до звонка, подошла к Ирине Константиновне и сказала: «Я буду учителем начальных классов». Вряд ли она поверила мне: обычные детские мечты… Я вышла, не взглянув больше ни на кого.
Никогда я не была больше в своей школе и не видела Ирину Константиновну. Думаю, ее нет уже в живых. Но… дорогая Ирина Константиновна, я сказала вам правду: я поставила себе цель, и я ее достигла.
Ко всему привыкаешь. Я привыкла к московской суете, освоила метро (в одиннадцать лет сама ездила в любую точку, помнила все пересадки), дотерпела до переезда в отдельную квартиру, поменяла школу (правда, она мало чем отличалась от предыдущей московской), у меня появились друзья. Окончила девять классов, и подруга рассказала мне, что пробует поступить в лучшую тогда школу Москвы. Кто в курсе, меня поймет: сейчас это школа 654 имени Фридмана. В мое время ее называли ШПЧ (шесть-пять-четыре, Школа Поборников Чести, Школа Поиска Человека), а в аттестате у меня написано «Московская городская Люблинская гимназия»). В моей школе возле дома десятый класс тогда не открывали, терять было нечего, и я решила попробовать.
Я почитала вопросы для поступления и пришла в ужас. Мне этого ни за что не осилить. Училась я в среднестатистическом классе, но только на «четыре» и «пять», свободного времени хватало, чтобы заниматься в музыкальной школе, делать уроки и потом до вечера гулять с друзьями. А когда я увидела билеты к экзамену, у меня возник только один вопрос: а что до сих пор я в школе делала, если всего этого не знаю?! Если бы мы это проходили, если бы это задавали, я бы выучила! Мама воспитала во мне зашкаливающее чувство ответственности (которое, кстати, мешает мне всю жизнь). И уроки со мной она делала, проверяла, объясняла непонятое, всегда «держала руку на пульсе». Не было такого, чтобы я пошла в школу, что-то дома не проработав и не усвоив. Но все, что в билетах – как это мимо меня прошло?!
Но решение принято, надо было пробовать. Так сказать, без отрыва от производства, от учебы в своей школе. И я стала готовиться. Помню, перед экзаменом по истории я впервые в жизни не спала всю ночь, учила. Пока ехала в метро, валилась с ног. А в голове была такая каша – казалось, если зададут неожиданный вопрос, обязательно начну рассказывать не то. И, о чудо! – я сдала на «пять». Счастью не было предела. С русским и литературой проще, это «мои» предметы, а вот английский подтягивала с репетитором. Устные темы учили с мамой.
В 654-ю меня приняли. Ее преимуществом был не сравнимый с другими школами уровень подготовки. Фридман создал уникальную школу, где дети именно учились. Нет, не то слово. Пахали. Я не знаю ни одного человека из нашего выпуска 1994 года, который занимался бы с репетитором. Не существовало понятия «нормы домашнего задания». Сколько необходимо, чтобы усвоить материал, столько и задавали. И мы все выполняли. Дисциплина была железная, все по-взрослому. Некоторые предметы вели вузовские преподаватели. Из этой школы уже в мае можно было досрочно поступить в несколько вузов. Математический класс почти в полном составе был зачислен в МГУ. Я после досрочных экзаменов прошла в два педвуза, в том числе и в Ленинский (МПГУ). Волновалась, но конкурентов у меня не было, я это понимала – слышала ответы других поступающих. На моих глазах несколько девчонок побросали билеты и ушли. Я недоумевала. Вопросы легкие, вы что, не готовились совсем? Не можете даже начать отвечать?
Особенный неоценимый навык, который дала мне гимназия Фридмана: я умела сдавать экзамены. Каждую четверть нас учили именно этому. Была зачетная неделя, без уроков, в формате экзаменов по профильным предметам. Нас учили готовить к сдаче сразу большой пласт материала и преодолевать стресс. Учили грамотно излагать мысль, говорить. Отвечать на неожиданные вопросы. Я не знаю ни одной школы, которая могла бы повторить успех школы Фридмана.
На вступительных экзаменах в МГУ с одним из моих одноклассников произошел удивительный, но закономерный для нашей школы случай. Мы проходили «Поднятую целину» Шолохова, но в некоторых вузах могли задать вопрос и о «Тихом Доне». Пройти и то, и другое просто нереально, это объемные произведения, мы этого не успевали даже в нашем гуманитарном классе, где литература была каждый день.
Вечером перед вступительным экзаменом уже засыпающему моему однокласснику мама-филолог на всякий случай кратко пересказала «Тихий Дон», назвала имена основных героев, более ничего. По его словам, он мало что запомнил. И надо ж такому случиться, что именно этот билет ему и достался. Пережив ужас и попрощавшись с перспективой попасть на филфак МГУ (тогда еще не ввели ЕГЭ, пять вузов выбрать было нельзя, поступали только в один), он понял, что надо хотя бы попробовать «умереть достойно». Он вспомнил все, чему нас учили в гимназии Фридмана: «Никогда не показывайте, что растерялись и чего-то не знаете. Отвечайте. Боритесь до конца. Не молчите!» Рассказал экзаменаторам все, что знал о творчестве Шолохова, привел наизусть цитаты критиков, затронул проблематику и систему образов «Поднятой целины» и стал подбираться к «Тихому Дону», понимая, что если его сейчас не прервут, будет конец. Всему. Однако тех знаний, которые он уже продемонстрировал, преподавателям МГУ было достаточно, чтобы понять, что пришел умный и достойный абитуриент, и беседовать по «Тихому Дону» подробно не пришлось. Парень поступил в МГУ с высоким баллом.
Именно подготовка в школе Фридмана позволила мне и моим одноклассникам уверенно сдавать экзамены и быть выше других абитуриентов на две головы. Это и было целью (не единственной, конечно) создания такой школы, ради этого туда стремились попасть. Сам Анатолий Давыдович Фридман говорил (выступать он умел, захватывал внимание, обладал несомненной харизмой): «Мы воспитываем интеллектуальную элиту». Родителям не стеснялся напоминать: если вас что-то не устраивает – вокруг полно обычных школ. Возражений просто не слушал. Много лет его школа выпускала по 7—8 параллелей со стопроцентным поступлением в вузы, в том числе с досрочными экзаменами.
Учиться сюда ездили со всех концов Москвы. Обстановка была создана такая, что не учиться было нельзя. Просто стыдно прийти и выглядеть глупо. Я день и ночь сидела за книгами и все равно дотянуться до отличников не могла. Мне казалось, остальные за то же самое время подготовились лучше, прочитали больше, лучше понимают материал на уроках. Как было на самом деле, я не знаю до сих пор, но однажды услышала от того самого приятеля, который потом так чудесно поступил в МГУ: «Мне кажется, Ирку хоть вверх ногами привяжи, она все равно будет хорошо учиться». Я поняла, что впечатление у одноклассников обо мне неплохое.
Мне не хватало времени даже на общение, на дружбу. Многие казались мне высокомерными, я боялась подойти и что-то спросить лишний раз. Но я знала главное: я здесь ради одной цели – поступить в лучший педагогический вуз страны и стать учителем начальной школы. К концу одиннадцатого класса у меня стала страшно болеть голова. Я приходила домой, обедала и садилась за уроки. Заканчивала в первом часу ночи – и все равно не успевала все, что нужно было бы. Правда, в школе никогда в этом не признавалась.
Не было еще в помине никакого ЕГЭ (слава Богу!), нас учили писать сочинения, давать развернутые ответы, рассуждать, доказывать свое мнение, подтверждать критикой – заставляли учить наизусть некоторые критические статьи и прозу и не принимали письменных работ без цитат. Поступая в вуз, я убедилась, как это было правильно. Я оценила, какую великолепную подготовку нам дали, и буду благодарна всю жизнь.
Теперь я вижу, какой стала эта школа в новых современных условиях, без Фридмана, и мне бесконечно больно.
Ад:
Однако было еще кое-что. Я никогда не чувствовала себя комфортно в этой школе. Каждый день мне было страшно. Страшно опоздать, страшно не доучить, не ответить, допустить ошибку, показаться глупее, не расслышать, пропустить важное. Я была в постоянном напряжении. Дома мне давали бутерброды, потому что в столовую я не ходила: еда там была невкусная, много народу, страшно не услышать звонок и опоздать на урок. Войти в класс, когда все уже на местах, я считала позором. Но даже эти бутерброды я часто приносила в портфеле обратно домой. Иногда боялась, что достану, начну – и не успею доесть до конца перемены. Лезли в голову глупости, что более успешные одноклассники будут косо смотреть, если вдруг запахнет колбасой. Никогда подобного за ними не замечала, но все равно опасалась – наверное, боялась быть уязвимой, не важно, в чем.
Я подозревала, что у ребят, проучившихся несколько лет вместе, есть какие-то отношения и вне школы, но не понимала, как у них хватало времени?! И это тоже заставляло думать, что я не дотягиваю. Либо я выкладываюсь в учебе, как только могу, либо думаю, как говорится, «о красе ногтей», кокетничаю с мальчиками, но тогда моя цель – поступление в вуз – мне заказана. Я выбрала первое. Не то чтобы я сильно расстраивалась из-за того, что не общаюсь с одноклассниками вне уроков. Да они и не очень-то пускали в свой мир. Скажу так: анализировать эту ситуацию у меня тоже не оставалось ни сил, ни времени.
Я была похожа на наших олимпийцев. Чтобы выиграть Олимпиаду, надо подчинить этой цели все. Ни о чем другом не думать. Об этом много говорили наши пловцы, фигуристы, гимнастки. Мои ставки были так же высоки, нервное напряжение последних двух пред вузом лет – таким же.
Я выпала из жизни во всем остальном: перестала слушать современную музыку, никуда не ходила, не виделась с друзьями, не замечала, как появлялись новинки в одежде – все прошло мимо меня. Однажды, в какой-то чудом возникший свободный выходной я встретилась с ребятами из своей предыдущей школы. Кто-то из них обронил новое молодежное слово, все засмеялись, согласились, поддержали. Все поняли. А я – нет. Как-то почувствовалось, что пропасть растет. Стало грустно, но отвлекаться было некогда. Дома ждали статьи Писарева.
Наша классная руководительница была жестким, но потрясающим профессионалом, глубоко знала литературу. Почти все – наизусть. Цветаевско-ахматовская манера общаться с нами, вести уроки, вечно отрешенно глядя в окно, как бы мимо нас, находясь где-то выше – и в то же время здесь. Невозможно угадать, что она на самом деле думает о тебе, о твоем ответе. Чем больше пытаешься понять, заглянуть в глаза, тем большее фиаско претерпеваешь. И от этой холодности страх, постоянный страх. Разочаровать, не попасть в струю, обнаружить перед ней и перед всеми, что как раз этот момент ты не дочитал, не успел, заснул, лихорадочно в ночи дочитывая главу, по которой будет сегодня урок… Уже окончив школу, потом, через много лет я выяснила, что нечто похожее чувствовали почти все ученики нашего класса, если не все.