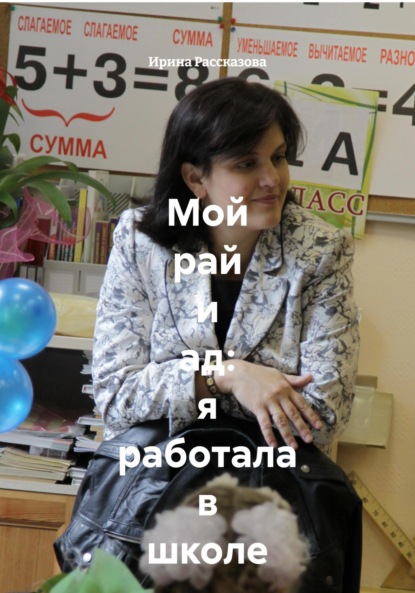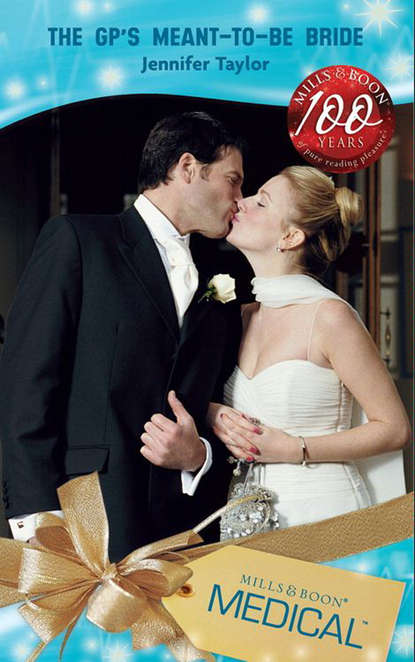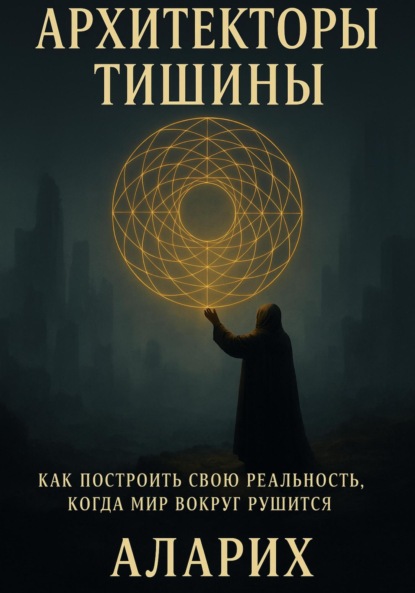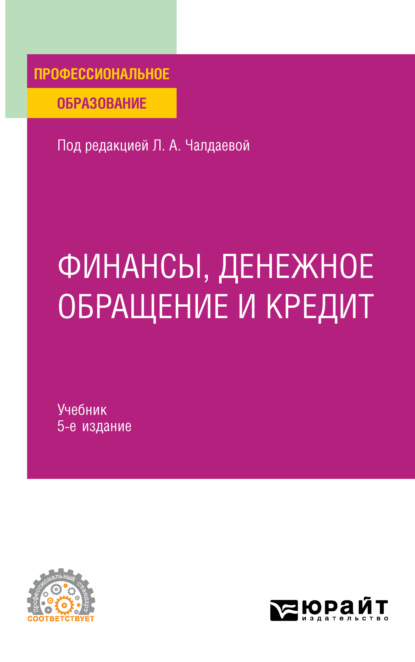- -
- 100%
- +
А я-то думала, что все уверены в себе, только одна я чего-то боюсь! С девочкой, с которой когда-то после девятого класса мы поступали в гимназию Фридмана, мы ходили несколько лет подряд на встречи выпускников, и происходило удивительное. У многих уже появились дети, многие стали очень успешными людьми, в том числе бизнесменами, некоторые – директорами корпораций. Но оказываясь на встрече в школе или рядом с ней, мы снова будто занимали те же ниши, которые были нашими во времена учебы. Возвращался неизвестно откуда страх. Мы играли те же роли, хотя некого и нечего было больше бояться, все было завоевано, цели достигнуты, да и учительница появлялась на этих встречах редко. Та же девочка спрашивала меня осторожно, когда мы уже уходили домой: «Ира, ты тоже это чувствуешь? На каком крючке мы сидим?!» Но мы не могли себе ответить.
Это обратная сторона школьной медали, травма, которая оставила глубокий след в наших душах, и мы излечивались от нее годами. В какой-то момент я решила никогда больше не ходить на встречи выпускников и ничего не вспоминать. Не скажу, чтобы мне очень интересны были мои одноклассники и их жизнь. Мы никогда не дружили.
Мне стало чуть проще и легче, когда лучшая на свете школа стала уходить все дальше в воспоминания, исчезать из моей нынешней жизни.
Рай:
Но вот совсем недавно, когда после окончания гимназии прошло 30 лет, тот самый парень, который чудесно поступил в МГУ, решил организовать нашу встречу. 30 лет… Не могу себе объяснить, зачем, может, хотела еще раз проверить себя, но я пошла. Все отмечали, что встреча получилась потрясающей, этого никто не ожидал. Я вдруг стала участницей откровенного разговора о школьных страхах, о том плохом и хорошем, что каждый запомнил и что несет через всю жизнь.
Беседа эта оказала необыкновенный психотерапевтический эффект, я почувствовала, что у всех словно пали оковы. Мы сорвались с крючка, о котором когда-то говорила моя одноклассница. Я впервые была среди этих людей собой. Я увидела, что и их мучали те же страхи, и они это так же пытались скрыть тогда, во время учебы. Мы стали понимать друг друга. Мы спорили и не во всем были согласны: например, у меня нет никакой обиды на классного руководителя за ее жесткость, потому что я понимаю ее как коллега. Теперь – как коллега. Думаю, что она не была бы собой, если бы вела себя иначе.
Ребята вспоминали эпизод, который случился до моего появления в ШПЧ, но о нем еще долго говорили в школе. В восьмом или девятом классе пропал журнал. Пропал бесследно. Так и не нашли. Был большой скандал. Классные журналы хранятся в архиве много лет, это документ, потерять его – преступление, восстановить с точностью невозможно (электронных журналов тогда не существовало). Кто-то говорил, что его закопали далеко от школы. Можно было, конечно, подумать на двоечников, желавших скрыть от родителей очередной «неуд». Но в гимназии Фридмана почти не было таких. Тогда кто и зачем? Случайная двойка у отличника? Вычисляли, у кого, кто мог. Так и не выяснили. Но сейчас, на встрече выпускников, нас интересовало не это: мы обсуждали с болью и почти со слезами, что не согласны были с действиями классного руководителя. Ребят тогда собирали, вели долгие беседы, психологическое давление переходило все границы. И теперь, через тридцать лет, мы спрашивали друг у друга: так ли велик был проступок, стоил ли он такого наказания. Мы спорили: «Перестань, это как понимать… ты же не брал журнал?», «А что учителю было делать, ей тоже влетело…», «А я понимаю», «А мне было все равно», «Нет, учитель не должен был так делать»… Я увидела перед собой уже другое – разные типажи современных родителей. И так и не решила, на чьей я стороне. Для меня было ценно, что спустя тридцать лет я увидела своих одноклассников обычными, понимающими, вовсе не высокомерными людьми.
Я все это пишу сейчас не для того, чтобы рассказывать о пережитом в школе. Я хочу сказать главное: чтобы дети могли расти, развиваться, идти вперед, надо учить их решать именно те задачи, которые в данную секунду им не по плечу. Вернее, они думают, что не по плечу. Задачи, от которых здесь и сейчас – страшно. Но преодоление возвышает. Делает тебя победителем: над собой, над ленью, над страхом незнания. И только тогда ребенок будет учиться брать новые и новые вершины. Школа Фридмана учила нас по таким принципам. Поэтому было так тяжело. И тем слаще были победа и успех.
Например, в десятом классе я впервые узнала, что, оказывается, можно задать выучить наизусть не просто абзац прозы, а несколько страниц критики. Зачем это нужно – стало понятно позже, когда мы начали использовать цитаты в сочинениях в качестве аргументации. Но сперва, получив задание – выучить наизусть статью Писарева, мы приходили в ужас, и у всех был один вопрос: а когда это делать?! Но спросить об этом учительницу даже в голову не приходило. Да она и не увидит наших лиц – всегда смотрит, как помните, в сторону (только теперь я понимаю, что не просто так!), и своим уверенным молчанием дает нам понять: да, учим, это естественно, правильно, иначе нельзя, а разве может быть иначе? И ты выучиваешь. И понимаешь, что уже чем-то отличаешься от молодежи, шастающей по улицам. И задираешь нос.
А представьте себе такое же задание в современной школе. Перегруз! СанПиН! Нормы! Я зажмуриваюсь и уже жду удара, проигрывая в воображении ситуацию: жалобу в департамент от яжематерей. Да-да! Они не дремлют. Помочь ребенку с домашним заданием у них нет времени и сил, а жалобу накатать – легко! И нажатием одной кнопочки отправить… Поэтому и нет больше такого образования, какое получила я.
Я убеждена, что никаких норм домашних заданий не должно быть. Учитель знает, сколько нужно поработать ученику, чтобы усвоить тему.
Бывает, тяжело ложится что-либо в голову. Кому-то легче, кому-то труднее. Есть темы, которые не дашь играючи. Таблицу умножения, например. Сколько ни рисуй ее в картинках, сколько ни придумывай компьютерных игр для запоминания – ее надо сесть и выучить. Это труд. Я преподаю еще и английский язык и знаю: чтобы в голове уложились времена, чтобы ребенок научился их различать и понимал, в какое из них перевести русское предложение, надо по каждому времени написать предложений не менее ста. О каких нормах мы можем здесь говорить? Каждый из нас помнит: когда не решалась задачка, всей семьей решали. И не считали это зазорным, не ругали школу и учителей.
Я считаю так: это твой ребенок. Ты в конечном итоге отвечаешь за его образование и успех. Родитель.
Поэтому выдуманное чиновниками (с какой целью?) понятие «объем домашнего задания» – для первого класса столько-то, для второго столько-то – тоже направлено на разрушение образования, на то, чтобы дети искали поводы не делать заданного, а взрослые потребители – родители – повод пожаловаться. Ведь очевидно: кто-то хватает на лету, кто-то нет. Не понял письменные вычисления в столбик – надо прорешать очень много. Сидеть и делать. Только тогда уляжется, станет навыком. Компетенцией. Это твой труд. Нельзя бросать, надо проявить силу воли и стараться. Большинство современных детей стараться, к сожалению, не умеют.
Никаких игр, развлечений, пока не сделано дело. Если бы это правило соблюдалось в каждой семье, поверьте, не было бы жалоб, не уходили бы учителя, и школьники легко сдавали бы любые экзамены – и те, что сдавали мы в советское и постсоветское время, и нынешний ЕГЭ.
Украденный первый класс
Университет дал мне не только педагогическое образование. Он научил многозадачности. Не скрою, учиться мне было несложно, по основным предметам я не открыла почти ничего нового курса до третьего, училась по старым школьным тетрадкам. Спасибо, гимназия Фридмана! А все, что касалось педагогики и методики, я впитывала очень внимательно. Задавала вопросы, примеряла к реалиям. И сразу решала: это мне подходит, а это – нет. Прекрасно помнила опыт из детства, когда я находила нужные слова для одноклассников, объясняя им непонятый материал, и молчаливо спорила с Ириной Константиновной: нет, тут не так, надо вот так ему сказать, попроще, и он поймет.
Я ждала подтвердятся ли выведенные мной когда-то «методические» приемы. Можно ли под них подвести научную базу? И на первом же занятии по методике русского языка услышала от методиста, доцента, удивительную вещь: «Девчонки, конечно, вы сейчас удивитесь тому, что я скажу, но помните: самое бездарное, что есть на свете – это методика преподавания. Наука о том, как учить. Невозможно научить учить. Надо чувствовать, как объяснить тот или иной материал. Если ты не чувствуешь, то и методички не помогут, значит, не надо быть учителем». Я поняла, что выбрала правильный путь.
Безусловно, преподаватель объяснила нам все то, чего будут ожидать от нас завучи и директора: понятия планирования, этапы урока, как правильно составить его конспект и прочее. Но это – не методика как таковая.
На каждом занятии в качестве тренировки нам давали страницы из разных учебников по русскому языку. Посоветуйтесь, подумайте, как будете вести урок? Предположите, чего дети могут не понять? Как будете «выплывать»? Это меня захватывало больше всего. Мне было весело, я понимала, что все делаю правильно.
С тех пор я не прочитала ни одной методички. Иногда, проверяя себя, заглядывала в них: так ли я составила предстоящий урок? И с радостью убеждалась, что все верно.
На первом курсе у нас был предмет «Младший школьник». Готовили реферат на тему «Работа учителем начальной школы: как я ее понимаю». Я с удовольствием написала все, что думаю, учитывая владимирский опыт и все свои соображения и мечты. Преподаватель автоматом поставила зачет и сказала: «Из вас выйдет, Ирина, хороший специалист, но, я боюсь, вам очень трудно будет в школе, надо, чтобы понимающий директор попался… Но вы волевая такая, выдержите…»
Только почти через двадцать лет работы я поняла, что она имела в виду.
Что касается многозадачности – во время учебы, на втором курсе я стала подрабатывать: после школы Фридмана мне было не привыкать к большой нагрузке, и я совсем не уставала, отсидев три-четыре пары. Я заполнила вторую половину дня работой в косметической фирме, этим многие тогда занимались. Надо признать, бизнес шел достаточно успешно, и я почти 18 лет параллельно работала и в школе, и с косметикой. Еще в вузе я заработала на свой первый подержанный автомобиль. Почему-то от завучей в два первых рабочих года свои я слышала потом: «Нельзя этим заниматься! Если директор узнает, выгонит тебя с волчьим билетом!» Это почему, интересно? Понять не могла, что их так злило. Учебный процесс совершенно не страдал от того, что я имела параллельный заработок, я всегда выкладывалась на работе в школе по полной, это было моим основным и любимым делом. Возможно, со стороны коллег это была просто злоба, зависть. Почему-то им хотелось побольнее меня ударить. Потому что я успевала все.
В университете меня особенно увлекали занятия по возрастной психологии. Мне кажется, именно вникнув в нее, мы и становились специалистами. На лекциях Елены Робертовны Гореловой не замечали, как летит время. Примеры она проводила такие, что сразу становилось понятно: что где встречается, отчего происходит. Проработала она с нами очень недолго. Не знаю подробностей (да никто нам, студентам, и не рассказал бы этого), но я чувствовала, что происходит что-то не то. Однажды во время занятия зашел кто-то из сотрудников кафедры психологии, что-то очень резко ей сказал, она перестала улыбаться, вышла, ее лицо пошло пятнами. Хотела бы ошибиться, но думаю, ее на кафедре «съели».
В тот момент мне очень хотелось обнять Елену Робертовну. И я вспомнила еще один эпизод, который произошел в школе Фридмана. Нам преподавала историю потрясающий педагог Ольга Викторовна Кишенкова. На выпускном мы говорили ей: как бы хотелось, чтобы такой учитель достался и нашим детям. Она превосходно знала своей предмет, просто жила им. У нее было прекрасное чувство юмора. Нас она очень любила, и мы получали взаимную радость от общения. Хотя была она немного «не от мира сего». Мы все были гуманитарии, и зерно, что называется, падало в добрую землю.
Ад:
Уроки Ольга Викторовна вела, как я теперь понимаю, не опираясь ни на какие правила, этапов урока у нее проследить было нельзя, она просто приходила и рассказывала нам очень подробно в хронологическом порядке обо всех событиях в истории России. Мы записывали, задавали вопросы, боялись упустить хоть одно слово. Я выяснила, что она заранее готовила материал, опираясь на множество документальных источников по той или иной теме, и у нас возникала целостная картина. Больше никогда и нигде я не видела такого глубокого подхода. Только много позже, в 1314-й школе, встретила человека, историка от Бога, который использовал фильмы, делал целые видеоразработки к урокам.
Однако такие учителя совершенно не умеют выполнять нелепые требования администрации по заполнению разных журналов, отчетов, таблиц и прочего бреда (как я понимаю Ольгу Викторовну! Сама считаю, что все это будто нарочно придумано, чтобы отвлекать от преподавания).
Однажды завуч вошла в класс и при нас накричала на Ольгу Викторовну за какую-то несданную бумагу. Эпизод был очень кратким, но всем нам захотелось встать между ними и защитить нашего учителя от хамства. Видимо, почувствовав это, завуч осеклась и вышла. После урока я подошла к Ольге Викторовне. Она заверила меня, что все в порядке, но мимоходом бросила: «Мне вас надо выпустить…только бы вас выпустить…»
После того, как мы окончили 11-й класс, Ольга Викторовна ушла и, насколько я знаю, больше никогда не работала в школе. Теперь она автор очень многих учебных пособий, надеюсь, все у нее хорошо.
Был еще жив Анатолий Давыдович Фридман, когда я окончила педуниверситет, и первое, что сделала – ему и принесла свой красный диплом. Откуда во мне появилась такая наглая уверенность, что он не откажет мне и обязательно возьмет на работу, я не знаю. Но он меня взял.
И я с удивлением узнала, что корпус, в котором я училась в старших классах, и здание начальной школы, в котором мне предстояло работать, – две разные вселенные. Здесь меня никто как выпускницу этой школы не знал, да и не хотел знать. Это был первый мой настоящий опыт и без преувеличения – самый сильный класс, который я когда-либо учила. Это моя большая любовь и большая боль. А школа, которой я так благодарна за свою учебу в старших классах, нанесла мне первый удар, который простить и забыть я не могу до сих пор.
Но пока до всего этого было далеко. Меня взяли вести подготовку к школе, всего три раза в неделю. Но оформляли этих детишек как первоклассников: через год они сдавали испытания и поступали сразу во второй класс. Значит, нужно было научить их не только читать (тех, кто не умел), но и писать. Нас было четверо девчонок, окончивших вуз, и набрали четыре подготовительные группы по 25 человек. Классов планировали сформировать два или три, то есть было ясно, что конкурс высокий, поступят не все. Конечно, я приняла это как руководство к действию: выложусь на сто процентов, но мой класс должен поступить в эту школу в полном составе.
Нашим наставником стала одна из завучей с необычной фамилией Молот. Она собирала нас четверых и учила всему: как проводить родительские собрания, как строить каждый урок. Я узнала то, чему не учили в вузе: можно разбивать класс на группы, в одной урок русского, в другой в это время – математика с другим учителем, потом они меняются. Уроки строились по-разному для читающих и пока не читающих детей. Разумеется, цель была – за год подтянуть слабую группу до сильной. Ну, у меня-то уж точно была такая цель. Не читающие дети не должны сразу становиться кандидатами на вылет.
Передать не могу, какое это было счастье – переводить детей из слабой группы в сильную. Некоторые пришли к нам очень неподготовленными, а к марту сделали потрясающий рывок.
Никогда больше в своей практике я не встречала настолько внимательного, серьезного подхода к подготовке дошкольников. Позже в других школах я пыталась действовать так же, но надо мной только смеялись: часто дошкольную подготовку воспринимали только как возможность заработать, результат мало кого волновал.
Ксюша Павлова, Миша Марков, Света Сухарева, Егор Дубинин, Лиля Зиганшина, Наташа Аверьянова (она была самой маленькой, всего пять лет, и хорошо помню ее очень вежливую маму), Ксюша Свирина, Саша Чижиков. Я до сих пор вижу эти глаза, эти пытливые мордашки. Они в шесть лет были уже настоящие ученики, работали и старались. Там же я встретилась с Никитой Митрофановым – уникальным одаренным ребенком с феноменальной памятью. «Перескажи, что прочитал» ему говорить было нельзя: он один раз просматривал текст любого объема и повторял слово в слово.
Кем стали эти ребята, я не знаю, мне трудно представить их взрослыми. Все время кажется, что где-то в той школе они так и сидят за партами и ждут меня.
Насколько Молот была уникальным специалистом (практически всем, что я использую в работе столько лет, я обязана ей, и в этом мое чувство благодарности безгранично), настолько она была гадким и жестоким человеком.
Сначала я подумала, что просто не нравлюсь ей, и именно ко мне она относится плохо. Но постепенно стала общаться с коллегами, с теми, кто давно с ней работал, а также с родителями, которых никак нельзя было упрекнуть в том, что им наплевать на детей (как помните, в школу Фридмана кто попало не попадал). И все они в один голос говорили: это учитель, из-под двери которого текут кровь и слезы.
Она никогда ни на кого не кричала, но ее боялись все дети. Они не смели пошевелиться. За неверно соединенные буквы снижалась отметка. На уроках литературы ученики должны были читать актерски, а кто читал верно, но невыразительно, никогда не получал «пять». Зато ни разу за все годы ее работы никто не мог припомнить, чтобы итоговый диктант в четвертом классе хоть один ребенок написал ниже, чем на «четыре».
Она могла задержать ребенка после уроков, совершенно не заботясь о том, что внизу ждут родители, которые ненадолго отпросились с работы, чтоб отвезти чадо домой. Она занималась с отстающими часами, пока все, что нужно, не будет усвоено. Возмущенные взгляды родителей отскакивали от нее, как горох, у нее была полная и стопроцентная уверенность в своей правоте.
Даже учитывая потрясающие результаты этого педагога, я не берусь судить, все ли методы, применяемые ею, оправданны. Но считаю, что хорошему учителю необходима именно такая уверенность в себе.
Именно у Молот я увидела технику чтения столбиками «по кругу», благодаря которой дети начинали читать в два раза быстрее, чем требовали нормативы. Именно у нее я подсмотрела уникальный прием, который учит ребенка задумываться о написании слова с орфограммой до того, как он начнет выводить первую букву. Нужно сперва зеленой ручкой написать проверочные слова. Так вырабатывалось грамотное письмо и навык сперва размышлять, а потом принимать решение.
Была у Молот и практика работы над ошибками, после которой они больше не появлялись. И прекрасная методика запоминания словарных слов – их записывали только в предложениях и словосочетаниях, никогда не просто через запятую. Были тренажеры и пособия, с которыми я сама работаю до сих пор, благо, они переиздаются.
Нетрудно догадаться, что если «сверху» присылали какую-нибудь контрольную, она была проще, чем то, с чем привыкли работать ученики Молот. Поэтому там не бывало троек.
Как-то репортеры на Олимпиаде, увидев, как наша Алина Загитова прыгает подряд десять «тройных» на тренировке, написали: ясно, что после этого несчастных три таких же в программе она прыгнет точно! Мне это напомнило Молот и вообще всю мою учебу в школе Фридмана.
Мы делали больше, чем остальные. Кого брать в вузы, как не нас? Кто напишет диктант лучше, чем класс Молот? Но, обладая истинным талантом преподавания, она при этом отличалась полным равнодушием – к детям и, смею предположить, окружающим людям вообще.
При ее явном уме мне до сих пор кажется странным: как она во мне не разглядела будущего хорошего специалиста? Я долго еще пыталась понять, что ее во мне так бесило и раздражало?
Я приходила на все беседы, где она обучала нас, девчонок, азам преподавания, записывала все ее идеи и следовала им. Я понимала, что то, что она объясняет, – на вес золота. Правда, говорила она медленно, возможно, чтобы успевали понять те, кто схватывает не сразу. Но я, уловив ее мысль, тут же трансформировала ее в реальный урок, в своей голове уже простраивала канву. И когда завуч что-то повторяла, мне уже ясно было, как это сделать. Тогда я отключалась, не слушала, смотрела в окно. Может, ей для поддержания ее собственной «короны» (а она, безусловно, была) требовалось, чтобы все слушали, как ее ученики на уроке, и боялись пошевелиться? Может, в этом причина? Да, по моему виду нельзя было сказать, что я готова только смотреть ей в рот и не стану подвергать ее слова сомнению. Очевидно, я буду пропускать через себя: это мне подходит, а это нет. Может, была еще какая-то причина, но однозначно одно: она терпеть меня не могла.
К концу учебного года выяснилось, что проверять работы наших ребят будет она, и от нее зависит, кто пройдет во второй класс и останется в гимназии, кто нет. Тогда я наивно рассудила, что такой человек как Молот больше всего ценит сильных учеников и дело своей жизни. И самое важное и единственно верное, что я могу сделать в этой ситуации – то, чего она не сможет не заметить: я подготовлю лучший класс.
Я понимала уже тогда, что только в связке с родителями можно получить хороший результат. Они должны отрабатывать с детьми дома то, что мы проходим на уроке. Это ключ к успеху. Об этом говорила, конечно, и сама Молот.
Мне повезло не только с детьми, но и с родителями: я увидела, что они готовы работать. Для каждого я училась находить нужные слова, каждый день, отпуская учеников домой, разговаривала с родителями и каждому давала персональный совет.
Я очень любила этих детей и получала истинное удовольствие от работы с классом. Я поняла, что правды о моих учениках, о том, как они работают на уроках никто из руководства мне не скажет, потому пошла посоветоваться с учителем, который вел математику в этом классе: как они, мои дети, на что обратить внимание? И получила ответ, от которого запела душа: «У тебя самые управляемые дети, а управляемость зависит от тебя, моя милая. Все открытые занятия я провожу только на твоем классе». Я поняла, что это еще не Берлин, но уже Сталинград.
Однако первое большое разочарование, боль от несправедливости и еще бОльшая боль – от того, что я была бессильна исправить ситуацию – ждали меня именно в первый год работы и именно в школе, которую я сама окончила, которую уважала и в которой мечтала преподавать, чтобы множить ее успехи.
Я совершенно не амбициозна, никогда не хотела подняться по ступенькам карьерной лестницы, стать завучем, потом директором. Нет, я всегда видела себя именно учителем, с большим послужным списком и хорошими результатами. Как Молот, только человечнее. Как Ирина Константиновна. Хотя, возможно, дано или то, или другое? Недаром же самые жесткие тренеры – самые успешные, вспомнить хотя бы тренера гимнастки Елены Мухиной Михаила Клименко или лучшего тренера мира по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Начались итоговые контрольные у моих дошколят. Для меня было очевидно: у кого из нас четверых больше детей поступит, тех и оставят вести свой класс дальше. Это была моя мечта. Я продумала, на какие экскурсии мы с ребятами будем ездить, как я буду учить их грамотному письму, актерскому чтению, как Молот – бок о бок с ней, уважая ее, боясь, недолюбливая, в чем-то не соглашаясь с ней, но учась у нее профессиональному мастерству.
Я тогда не осознавала, что самым большим счастьем для меня было бы дождаться ее похвалы, признания, что я умею подготовить сильный выпуск. Конечно, под руководством опытных наставников мы, занимаясь с классами всего три раза в неделю, сделали невозможное: всех детей научили читать, писать небольшие диктанты. Учителя по логике и математике тоже сделали свою часть работы.
Наконец я увидела итоговые списки: прошли все мои ученики! Лишь один завалил математику, но ее преподавала не я, к тому же, учитывая поведенческие особенности ребенка, брать его в гимназию и без того не стоило. Но русский язык и чтение он сдал хорошо. Я поинтересовалась результатами остальных трех классов: в одном из 25 человек поступили 18, в двух других 14 и 12 соответственно. Я ликовала. Я была уверена, что это первая моя большая победа в профессии.
Ад:
Не верь. Не бойся. Не проси.
Мне было очевидно, что я останусь здесь работать, и класс дадут именно мне. Но я очень удивилась, когда узнала, что остальные девчонки совершенно не переживали за зачисление детей. В разговоре одна из них сказала: «Ну и что, они не написали работу, а я при чем?», вторая – «Мне важнее всего мой собственный ребенок, я здесь для другой цели», третья вообще не стала этот вопрос обсуждать как незначительный. Однако именно она и объявившая, что находится здесь по другой причине, получили в итоге два вторых класса.