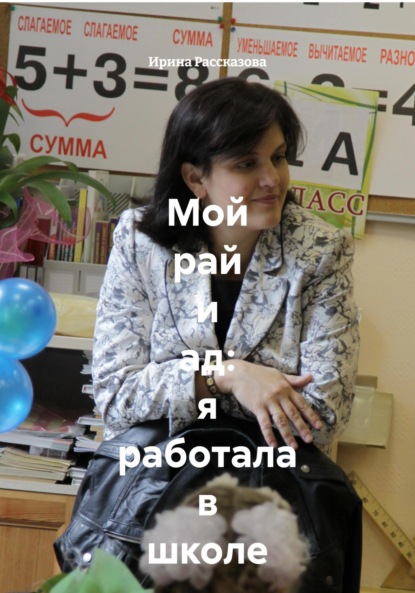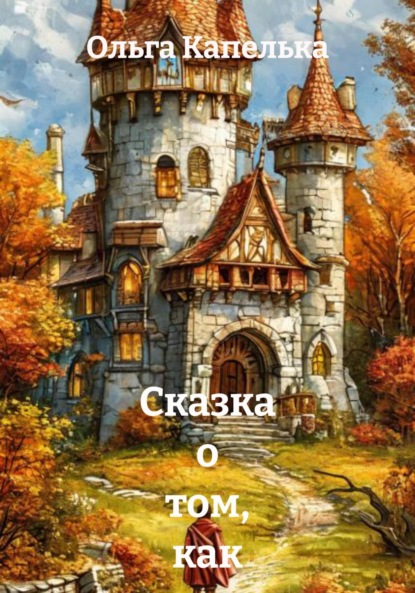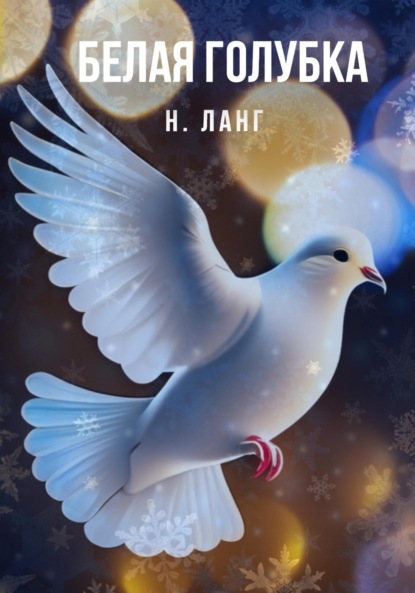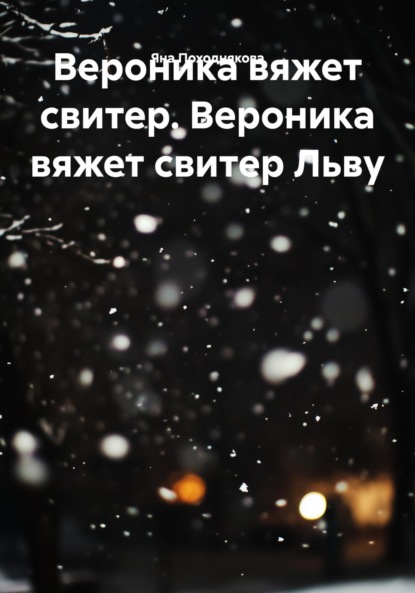- -
- 100%
- +
Я чувствовала, что происходит что-то не то, и что от меня что-то зависит, но что сделать, я не знала. Я совершала глупые поступки – помню, приносила какие-то конфеты завучам, благодарила, что класс оценили по достоинству, раз взяли всех… О своей роли молчала, думала, что это и так очевидно. Мне и в голову не приходило тогда, после вуза, в двадцать два года, что решающими могут быть не профессиональные качества, а что-то другое. Ведь в школе Фридмана нас всегда учили отстаивать себя, быть честными, ответственными, принципиальными, старательными, а 654 – это Шесть Пять Четыре, Школа Поборников Чести, Школа Поиска Человека… Сам Фридман постоянно повторял это. И… тогда именно его я решила попросить о помощи. Как носителя высшей справедливости. Я верила в него.
Я изложила ситуацию письменно, все рассказала родителям класса, которые не сомневались, что именно я стану их классным руководителем, и пошла к директору. У меня была честная цель: я хочу у вас работать, хочу дальше учить этих детей, я мечтаю об этом, я очень люблю свою работу и шла к ней многие годы, распорядитесь, чтобы мне дали этот класс и чтобы нас не разлучали. Об этом попросили и родители. Однако Фридман сказал им: «Мы сами разберемся», а мне пообещал решить вопрос на весеннем педсовете, но в итоге все оставил как есть.
Тогда он уже напоминал мне Брежнева на последних годах жизни. Нужен был как свадебный генерал, но часто уже плохо соображал, забывал, путался, не обходился без помощницы, а делала короля его свита. Иногда думаю, что он просто не вспомнил о моей просьбе. А может, я оправдываю его, и он склонен был прислушиваться к подчиненным, с которыми много лет работал, а не к молодой девчонке, пусть и бывшей выпускнице… Не знаю. Я плакала.
Я рыдала каждую ночь, мне снились мои дети, моя неосуществленная мечта. Но что-то подсказывало мне, что никогда нельзя плакать на работе, перед людьми, которые делают такие вещи. Нельзя показывать, как тебе плохо, нельзя просить, унижаться. Будет только хуже, они поймут, что могут манипулировать тобой. Я брала себя в руки и шла на работу.
Завучи, дай Бог им здоровья и долгих лет, узнав о том, что и я, и родители ходили к директору и просили оставить мне класс, сделали, надо признать, гениальный ход: они перемешали поступивших детей и добавили к ним прошедших по конкурсу во второй класс «с улицы». То есть не за что стало бороться. Молот (я была потрясена уровнем ее цинизма!), понимая, что я переживаю, позвала к себе и как ни в чем не бывало стала интересоваться моим мнением – как лучше распределить детей по классам, исходя из способностей.
Другая завуч объяснила: «Мы решили, что тебе надо еще пару лет посидеть на «дошколке», поучиться многому, поэтому второй класс тебе не даем». Тут смолчать я уже не могла и спросила: «Мне надо поучиться многому, а тем, у кого меньше детей поступило, учиться не надо?!» И получила гениальный ответ: «Тебе просто повезло, тебе изначально попались сильные дети, а ты их ничему не научила». То есть если класс получился сильный, организованный – то просто повезло. А ты – так, погулять вышла. Молот, буквально прижав меня к стенке в коридоре, сказала: «Знаешь, почему все так? Потому что надо еще чай пить с коллегами! А ты не уважаешь коллектив». Надо же! А мне, грешным делом, казалось, что это вообще не очень прилично…
Работать, чтобы делать свое главное дело в жизни и не распыляться на чай и печенье… до сих пор так думаю и не хожу ни на какие корпоративы. Но разве можно за это лишить класса?
Я была раздавлена и уволилась из школы, в которой мечтала работать.
Много лет спустя мне звонили мои ученики и рассказывали уже не очень удивлявшие меня вещи. Класс, в который попало больше всего моих детей, как наиболее подготовленный, дали той девчонке, которая говорила, что у нее другая цель и ей дорог только ее ребенок. Цель стала известна на первом же родительском собрании. Завуч, которая говорила, что мне «попались сильные дети», беззастенчиво попросила родителей посодействовать их молодому классному руководителю в подготовке и защите диссертации.
Как я потом узнала, девушка нашла связи, чтобы устроиться в лучшую школу Москвы, работать по удобному графику, писать и защищать диссертацию. Ей нужен был класс, и пожертвовать решили мной, потому что я недостаточно внимательно смотрела в рот Молот. И вообще пришла «с улицы». Кстати, из «дошколки» этой девушки в гимназию поступило меньше всего учеников. Выполнив свои задачи, карьеристка ушла, так и не выпустив класс. Когда я узнала об этом – вы не представляете, как же хотелось, чтобы меня позвали обратно. Но это уже из области фантастики.
Родители рассказывали и о некоторых, казалось бы, незначительных мелочах: на экскурсиях их классная руководитель даже не оборачивалась на идущих сзади детей, ее не интересовала безопасность, она могла оставить обратную дорогу на родителей и уехать домой. Могла не проверить тетради, при любом недомогании не прийти на уроки. Вроде бы ничего глобально страшного и незаконного. Но это не Учитель.
Прошло много лет, дети выросли. А мне все кажется, что они ждут меня там. Это мое недоделанное дело. Но и сейчас я понимаю, что не в моих силах было что-то изменить – там, где не важно, какой ты педагог, а важно, дружишь ли ты с начальством. Нет, я не дружу.
Я имею дело только с порядочными людьми. Я могла сделать только одно, чтобы доказать, что я хочу работать с классом и достойна этого: подготовить детей так, чтобы их приняли. Это оценили дети, оценили родители. Но оказалось, что этого не то что недостаточно. Это оказалось не нужно. До сих пор эта боль мешает мне жить. Я много лет пытаюсь посмотреть на ситуацию со стороны, подумать, что мне для чего-то надо было столкнуться с подобным в жизни. Но я не могу ни забыть, ни простить.
Я отходчивый человек, и мне иногда кажется, что если бы сейчас, через много лет, передо мной извинились, мне стало бы легче. Но нет. Уже ничего нельзя исправить. Время ушло.
Одного космонавта спросили, какую ошибку он считает самой страшной. Он ответил: «Ту, которую нельзя исправить в будущем». Похоже, это тот самый случай.
Таким был мой первый рабочий год. Несмотря на всю боль и обиду, я сделала для себя для вывода. Во-первых, поняла, что я очень неплохой специалист уже сейчас, поверила в себя. Во-вторых, усвоила: каким бы хорошим педагогом я ни была, какие бы результаты ни показывала – если администрации я буду неугодна, а на мое место будет претендовать «блатной» человек, от меня избавятся обязательно.
Любимчикам – труднее всех
Слезы пришлось утереть и уйти работать в обычную школу на улице Чугунные ворота. Сейчас этого номера больше нет. Еще в первый свой год, параллельно с работой в школе Фридмана, я вела здесь несколько часов по музыке и английскому – совмещала. Коллектив уже знала. Директор предложила мне первый класс. Он был непростым: чуть ли не половина детей с трудом объяснялись на русском. Конечно, я применяла методы, которыми овладела в школе Фридмана у Молот. Что-то работало, что-то, как вы догадываетесь, не со всеми, что-то – не работало никак.
Я все пыталась найти в этих детях черты не доставшегося мне класса. Получалось с трудом. Но когда в ком-то их обнаруживала, то очень верила в этого ребенка. Если видела в нем желание учиться и находила понимание у родителей – знала: получится.
Специфика здесь была другой. Очень много проблем, идущих из семей. Я ровно отношусь ко всем национальностям, но особенности культуры и воспитания нельзя сбрасывать со счетов. У кавказских народов к мальчикам изначально относятся как к будущим главам семей, воинам, и это накладывает свой отпечаток: их с детства учат вести себя так, словно они всегда правы. Да, у них очень почтительное отношение к учителю, но мальчики уверены, что все делают правильно и не считают нужным себя проверять. По моим наблюдениям, это именно национальная самоуверенность. Не личностная. В духе нашего «Мужик сказал – мужик сделал». Они получали свои «трояки» не только и не столько из-за языкового барьера. Проверить выполненные задания по математике они считали ниже своего достоинства. Не допускали, что могут ошибаться. И найденные ошибки ни в чем их не убеждали. Я не знаю, как это объяснить, но у меня все время было впечатление, что они совершенно не понимают, зачем ходят в школу. Дома, догадываюсь, у них была какая-то совсем иная жизнь. Отцы зарабатывали на стройках, мало кому из них удалось сделать успешный бизнес в России, и впоследствии, думаю, они уехали. На беседы и родительские собрания приходили матери, плохо понимавшие русский (еще хуже, чем их дети), и жаловаться им на плохое прилежание и поведение их чад было бесполезно: они кивали, но сделать ничего не могли, потому что в семье слова не имели. Отцы появлялись редко, а если появлялись, подключались к процессу воспитания ненадолго: пару раз «всыплют» дома провинившемуся, и опять все пускают на самотек.
Никого не желая обидеть, предположу, что ехали к нам в начале 2000-х годов далеко не самые успешные граждане стран бывшего Советского Союза. Ехали люди без образования, не желавшие учить язык и становиться россиянами. Часто – не уважающие наши законы. Имеющие по три-четыре ребенка, но не занимающиеся их воспитанием и образованием. Правда, и требований к школе и учителям у них не было, они не жаловались.
Невольно я сравнивала этих детей с учениками школы Фридмана и приходила в отчаяние. Сперва по неопытности планировала уроки так же, как там, используя старые конспекты. Но в первую же неделю поняла, что номер не пройдет: не успеваем даже трети того, что делали со слабой группой в гимназии.
Уже тогда я задавала себе вопрос: почему в России до сих пор нет закона, по которому, чтобы поступить в школу, ребенок прежде должен освоить русский разговорный? Незнание языка – это не только неумение читать и писать диктанты. Это и сложности в математике и других предметах. Из-за языкового барьера ученики не могут прочитать текст задачи, а если и могут, то не понимают ее смысл.
И все же я вспоминаю это время с большой благодарностью, потому что в этой школе я встретила учеников, которых помню всю жизнь и считаю самой большой своей победой.
Рай:
Среди моих иностранцев выделялся мальчишка, которого я в первое время, каюсь, не замечала. Если он и отличался, то в худшую сторону: в сентябре этот первоклассник не мог сказать по-русски ни слова. Родители, объясняя ему, что он должен протянуть учителю цветы, просили его повторить за ними русское «здравствуйте». Я дежурно улыбнулась и подумала: «Ну, еще одно «счастье» привалило». Голубоглазый Самбел на армянина был совсем не похож. Он был выше и на год старше остальных детей. Учитывая, что мальчик не знал русского, родители, приехав в Москву, специально отдали его в первый класс, а не во второй. Скоро я заметила его аккуратные тетради, потрясающую дисциплину, и мне стало стыдно, что я не заметила его лучших качеств с первой минуты. Он никогда не плакал, всегда улыбался и был дружелюбен со сверстниками, никогда не пропускал школу, не болел. Он был готов работать столько, сколько нужно. Домашние задания выполнял идеально. Все, что было сделано неверно, он переписывал столько раз, сколько я просила, без каких-то обид.
Был такой предмет в этой школе – русский как иностранный. Как его вести, ни один учитель не знал, но я интуитивно понимала, что надо остановиться с детьми на том, чем русский отличается от их языков: ударения, падежные окончания, род. Объяснить все это первоклашкам, плохо понимающим русский, невозможно. Я предлагала заучивать. Мы расставляли ударения в старых списанных книгах для чтения, которые было не жалко. Самбел делал ежедневно по 10—20 страниц, приносил задание и неизменно говорил: «Задайте мне еще».
Он был опрятно одет, всегда в белой рубашке, в форме, никогда я не замечала у него грязных ногтей, не слышала хамства или дурного слова в чей-то адрес. Хотя играл он, бегал и общался с остальными мальчишками и девчонками так же, как все. Ко второму классу он стал неформальным лидером. К нему шли за помощью и защитой, за поддержкой. Он никогда не дрался и не был воинственно настроен. И постоянно учился. Постоянно. К концу начальной школы говорил почти без акцента, писал диктанты на «четыре» и «пять», великолепно решал задачи. Все четыре года меня поражало его ангельское, королевское терпение и сила воли, дружелюбие и умение прощать.
Стремление Самбела заговорить на русском было настолько сильным, что он работал как вол, чтоб добиться результата. Родители принимали любое замечание, любой совет по воспитанию сына, всегда были улыбчивы, готовы помогать. Возможно, кто-то относился к ним, не разобравшись, как и я поначалу: невнимательно и не веря в их искренность, как к людям второго сорта. Но они делом доказывали, что отличаются от многих других мигрантов. Они действительно нашли свое место в России, но при этом сохранили свои традиции. Самбел окончил вуз, он женат на армянке, у него растет сын. Мой бывший ученик и его родители до сих пор иногда пишут мне в «Одноклассниках».
Рай:
Антон был сыном военнослужащего, он попал ко мне после очередного переезда. В то время параллельный первый класс занимался по системе Занкова, его вела другая учительница, очень опытная. Разумеется, мне как молодой и вновь пришедшей приходилось работать по обычной программе, и я очень быстро поняла, почему в другом классе не было ни одного ребенка, не говорящего на русском, да и одежда и портфели детей выглядели поприличнее: конечно, туда детишек отобрали. Я не обижалась и собиралась подготовить своих на выходе не хуже (как я была наивна!). Антон был потрясающе работоспособным, позже я узнала от его родителей, что в «занковский» класс он не прошел. Я видела, как проходят отбор дети в школе Фридмана, и готова была дать голову на отсечение, что Антон обязательно поступил бы даже туда. Его отец позже рассказал, что был очень обижен, но ребенка не взяли без объяснения причин. А я считала, что Антон – просто идеальный ученик. Трудностей добавляла только его леворукость, но с этой проблемой мы справились. Часто дети-левши в первом классе хуже пишут, им сложнее: образец в прописи всегда слева, а они закрывают его рукой и ленятся лишний раз проверить. К Антону это не относилось. Он был собран, внимателен, аккуратен. Очень скоро его очень полюбили дети, особенно девчонки. Он это понял, попытался даже заболеть звездной болезнью (что никак не ухудшило учебу, наоборот). Родители помогли справиться: «Осаживаем, как можем». Задания всегда были выполнены, все диктанты и контрольные – только на высший балл.
Ради старательных, мотивированных детей я готова идти на многое, и даже предложила родителям: хотите, я поговорю с учителем параллельного класса, постараюсь убедить, что Антона не разглядели, что ему надо учиться в сильном окружении, пусть переходит, он потянет! Но отец и мать отказались. Мне было очень приятно услышать: «Мы сначала испугались, что к нам поставили молодого учителя, не знали, что делать. Но увидели, сколько вы успели за это время, какую высокую планку поставили. Мы видим, как меняется и растет внутренне ребенок, как много он умеет, и мы от вас никуда уходить не хотим».
Антона перевели к «занковцам» только в пятом классе. Уже после того, как ушла из этой школы, я слышала от учителей, с которыми долго еще общалась: «На мальчика в том классе молятся». Я радовалась не только за Антона, но и за себя: я разглядела еще тогда, что он очень перспективный.
Галина Сергеевна стала тем человеком, после знакомства с которым я поняла, для чего судьбе вообще было угодно лишить меня возможности работать во фридмановской школе и привести сюда. Эта женщина сыграла огромную роль в моей жизни вообще, в формировании как личности, и как будущему специалисту преподала много важных уроков. Когда я начала работать в 3…-й, я была уверена хотя бы в одном: увольнять меня отсюда никто не будет. В этой школе, что греха таить, школе ниже среднего уровня, вряд ли кому-то понадобится мое место – место учителя в классе, где полно иностранцев, которых, положа руку на сердце, качественно обучить не получится. И как учителю, который работает на результат и только на результат, мне было важно найти в классе ту отдушину, ради которой каждый день идешь на работу и радуешься. Радуешься, что покоряешь одну вершинку за другой. И кроме Самбела и Антона такими детьми стали Настя и Саша – двоюродные брат и сестра. Они были одного возраста и волей случая воспитывались в одной семье. Саша был на домашнем обучении: из-за болезни он передвигался на костылях. Но врачи обнадеживали и обещали снять инвалидность. А Настя ходила в школу. Она была блондинка с большими голубыми глазами, худенькая, с короткой стрижкой. Неимоверно старательная.
Меня поражало, что она впитывает каждое мое слово, а отвечая на вопросы, говорит моими фразами. Но она не была «зубрилой», училась очень осмысленно. Настя всегда боролась за справедливость – и, может, я видела в ней свое отражение? Иногда, если кто-то молчал в ответ на мой вопрос по материалу, который все давно должны были усвоить, она не выдерживала. Вскакивала, оборачивалась к классу и говорила: «Ну как же так, вам же объясняли, вы что, ничего не слушали? Ну послушайте! Й, ч, щ – они же мягкие!» При этом Настя была независимой, ее не очень волновало, дружат ли с ней в классе, и именно поэтому к ней и тянулись, особенно мальчишки. «Стукачкой», как вы, возможно, подумали, она не была, да я никогда и не слушала жалобщиков. Очень быстро дети понимали, что сдавать кого-то бесполезно, за донос достанется еще больше.
Конечно, у всякого учителя есть любимчики, что бы кто ни говорил. Но важно никогда не выдать, кто любимчик на самом деле. Я очень люблю даже не очень способных, не очень умных детей, это совсем не важно. Я люблю тех, кто слышит учителя и старается покорять одну вершину за другой. И люблю родителей, которые предъявляют схожие с моими требования к детям. Вот и весь секрет. Но я могу гарантировать, что пока дети учились у меня, никто не знал, кого я люблю больше всех. Наоборот: к тем, на кого я больше надеялась и в кого верила, я была требовательнее, чем к другим. И приходилось моим «любимчикам» несладко. При этом ни разу никому из них я не завысила отметку и, разумеется, не занизила остальным. Все честно.
Рай
И вот первого сентября, отработав с утра в новом для меня первом классе, я пришла познакомиться еще с одним моим учеником, Сашей, братом Насти. Я впервые оказалась дома у этой семьи и увидела, как они живут и кто занимается воспитанием этих детей.
Меня встретил мальчик на костылях. С большими карими глазами, темноволосый, на Настю не похож. Он был в белой рубашке, в пиджачке, с галстуком-бабочкой. У него тоже День знаний! Просто во второй половине дня. Он ждал меня. За ним стояла, улыбаясь, пожилая женщина в белой блузке, тяжело дышала. Галина Сергеевна. Я предположила, что она была глубоко больным человеком. Потом мои догадки подтвердились. Рядом крутилась гордая, уже побывавшая в школе Настя. Она зорко следила, все ли честно, похож ли и Сашин день на первый школьный и все ли брату зададут, как ей. Мальчик протянул мне цветы и сказал: «Я очень хочу учиться». И я почувствовала, что меня свяжет с этой семьей нечто большее, чем отношения учителя и ученика. Мы поговорили с Сашей обо всем, о чем говорили сегодня с классом, чтобы брат и сестра могли сравнить впечатления: я поняла, что у детей возникла здоровая конкуренция, и Саша не должен знать меньше, чем Настя. Они этого не переживут.
Я была готова учить Сашу во второй половине дня. По молодости у меня не возникало вопроса, должна ли школа за это отдельно платить. Сейчас надомное обучение оплачивается, и прилично. Но мне тогда казалось, раз такой мальчик у меня учится, то никто не виноват, что он инвалид и не может идти в школу, он ни в чем не должен быть ущемлен, и учитель обязан ходить к нему бесплатно. Я не вникала тогда в тонкости тарификации и доплат. Также мне в голову не могло прийти, что надомное обучение предполагало преподавание только трех основных дисциплин. Что это, как не дискриминация детей-инвалидов? Я сразу решила, что вести буду все предметы.
На следующий день я узнала, что надомное обучение Саши мне не доверят, отдадут другому учителю, поопытнее. И ни музыку, ни труд, ни «изо» мальчику знать не положено, окружающий мир – тоже не для него. Саша почти плакал, когда узнал, что больше не увидит меня. И я решила все равно приходить к нему несколько раз в неделю, давать задания и бесплатно вести остальные уроки. Чтобы он ни в чем не чувствовал себя обделенным. Так мы проучились с Сашей весь год.
Галина Сергеевна побывала у директора и попросила, чтобы во втором классе я уже официально приходила к Саше и учила его всем предметам. Потихоньку мы присоединили и английский, и к концу четвертого класса Настя и Саша готовы были держать испытания в школы посерьезнее, в том числе и языковые, и успешно поступили.
Близкие Саши были мне очень благодарны. Мы действительно дружили. После моей собственной семьи эти люди тогда стали мне едва ли не самыми дорогими на свете людьми. Галина Сергеевна поразила меня своей мудростью, я бежала к ней за советом, когда мне было плохо, а Сашка чуть не стал моим приемным сыном.
С самого начала показалось странным, что мне учить Сашу не дали, а назначили учительницу, которая, как я выяснила, пообщавшись с ней поближе, совершенно не была в этом заинтересована. Она воспринимала эти визиты как обузу и делала ровно столько, сколько полагалось по куцей надомной программе. Ей в голову не приходила мысль, что надо учитывать, что детей в семье двое, что Настя отличница, что у детей конкуренция и нельзя ущемлять мальчишку.
С первого дня работы в школе Фридмана и по сей день я убеждена, что то, что делают с первоклашками – величайшая глупость: часто дети на подготовке получают достаточно серьезные задания, а потом, уже попав в первый класс, не получают их совсем! Отсутствие домашних заданий и отсутствие отметок расхолаживает. Дети приходят в первый класс (я говорю о детях мотивированных родителей, которые озаботились подготовкой к школе своего ребенка, которые развивают его и занимаются им) готовыми трудиться, настроенными на учебу. Вот здесь и важно не разочаровать их. Показать притягательность знаний, научить радоваться результату, который ты получаешь, потрудившись.
Молот говорила нам, девчонкам, которых обучала работать в первом классе: надо обязательно донести до родителей, что ребенок научится писать тогда, когда на лбу у него выступят капельки пота. Все только трудом, совместной нашей работой. Ежедневной работой. В системе. И всегда нужно ставить себе большие и маленькие цели. К концу года хочу научить: чему? На этом уроке научить: чему? Даю вот это задание: с какой целью? Чем полезно простое списывание для изучения русского языка? О чем заставляет задуматься? Ни о чем? Тогда оно не нужно. Надо ставить цель: послушайте текст и ответьте… Если просто «послушайте», а потом самый бестолковый вопрос, который часто задают неграмотные учителя: «понравилось – не понравилось» – лучше вообще не читать. Если пишем текст, то что в нем ищем? Что отмечаем? На какую цель это работает? Что выделяем другим цветом? Как комментируем? Как отрабатываем тему? А получается, что родители приводят детей в школу, но там отметок нет, заданий нет, и у детей создается иллюзия, что можно ничего не делать, все как-то само зайдет в голову.
Самое страшное – такая же иллюзия возникает и у некоторых не очень далеких родителей, в основном воспитанных в девяностых. Потерянное поколение. И мнется опытный педагог, знающий цену успешному труду и знаниям, на первом родительском собрании, и пытается аккуратненько так уговорить и убедить (чтобы жалоб не было!), мол, конечно, у нас официально нет домашних заданий, но вы же понимаете, сами учились, что если прописи дома не делать, результат будет «ноль», ну, то есть… ребенку будет трудно, потому что навыки не закрепляются и не отрабатываются… И тут же пытается погасить набегающую волну, от которой электризуется атмосфера вокруг: вы не волнуйтесь, задания будут маленькими…
Да плохо, что маленькими! Много надо прописывать. И взрослый – рядом. Первое время – рука в руке. Только так. Мне начнут возражать: родители работают. Нет, это не причина, это повод ничего не делать. Родители всегда работали. И в советские времена тоже. А вечером приходили и проверяли уроки у детей. И если не сделано – заставляли делать или переписывать. Родители успешных детей – то есть тех, кто с первого дня был нужен и интересен своей семье, не допустят, чтобы ребенок пошел в школу, не выучив урока.