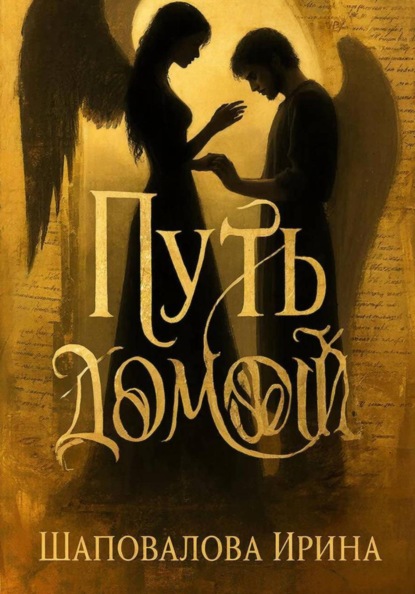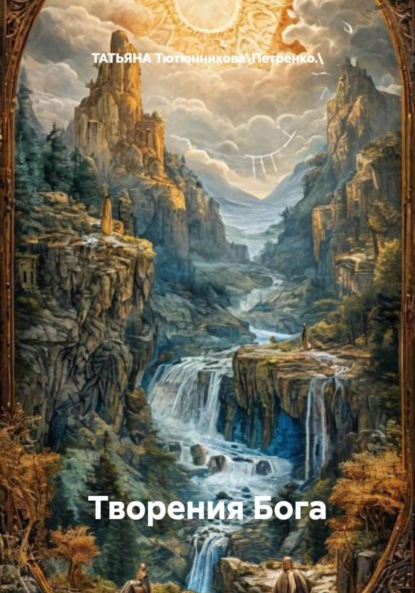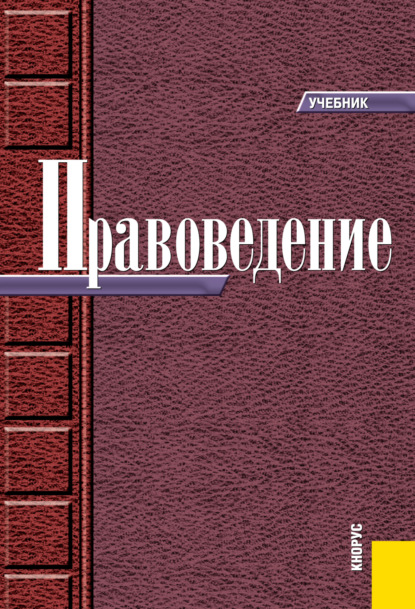- -
- 100%
- +
Мать Элоди собрала всех в трапезной. Её лицо было подобно высеченной из камня маске святого гнева.
– Сегодня день очищения! – возвестила она, и её голос резал тишину, как нож. – Дьявол, проникший в наши пределы, будет изгнан огнём! До заката строгий пост и молчаливая молитва. Каждая из вас должна вымолить прощение за то, что скверна ступала по нашей святой земле.
Алисия стояла, сжавшись, чувствуя, как слова настоятельницы жгут её изнутри. Через узкое окно она видела, как на площади мужики в грубых одеждах складывают правильный, страшный холмик из хвороста вокруг высокого, почерневшего от прошлых казней столба.
Но сердце вело её вниз, в подземелье, вопреки запрету, вопреки страху. Она должна была увидеть её. В последний раз.
Маргарита сидела в той же позе, что и прошлой ночью. Но теперь её лицо освещалось не луной, а тусклым лучом утреннего солнца, пробивающегося сквозь решётку. И на этом лице был мир. Не покорность, а мир.
– Ты пришла, – тихо сказала Маргарита, не открывая глаз. – Не надо бояться.
– Как вы можете, так спокойно? – выдохнула Алисия, и её голос дрожал.
Маргарита открыла глаза и улыбнулась. Это была улыбка, полная такой печальной нежности, что у Алисии перехватило дыхание.
– Я видела настоящий ужас, дитя. Видела, как угасают глаза моих детей. По сравнению с этим, огонь всего лишь миг. А они… – она кивнула в сторону, где были слышны голоса матери Элоди и отца Григория, – они просто боятся. Боятся боли, боятся смерти, боятся всего, чего не понимают. Не их вина, что они видят демонов в каждой тени. Их вина лишь в том, что они не хотят зажечь свет.
– Покайтесь, может они простят вас. – неуверенно произнесла Алисия
Но Маргарита лишь улыбнулась.
Алисия понимала,что никакое раскаяние не спасет Маргариту. Но что-то же нужно сделать.
–Но что? Побег?Мольбы о прощение?– сознание Алисии искало выход.
Площадь кишела народом. Лица, искаженные любопытством, страхом и странным, праздничным возбуждением. Маргариту вывели. Она шла сама, с высоко поднятой головой, и её спокойствие действовало на толпу тревожнее, чем истерика.
Отец Григорий зачитал приговор, его голос вился над головами, как ядовитая змея. Палач подвел Маргариту к столбу, привязал. Взял факел.
«Молчи! Это твой последний шанс остаться чистой в их глазах!» – ревел в голове Дарион.
«Говори» – было единственным словом от Рафаэля.
Палач поднес факел к хворосту. Первый сухой щелчок.
– Стойте!
Крик вырвался из её горла прежде, чем она осознала это. Алисия выбежала вперед, расталкивая ошеломленных людей.
– Она невиновна! – её голос, хриплый от напряжения, разорвал ритуал. – Она лекарь! Она спасала! Я… я лгала! Я назвала её ведьмой из страха и гордыни!
Наступила мертвая тишина, а затем площадь взорвалась гулом. Отец Григорий побледнел от ярости. Мать Элоди смотрела на неё с таким отвращением словно увидела воплощение самого Люцифера.
– Держи её! – прошипела мать Элоди. – Дух лжи овладел ею! Она в сговоре с нечистой!
Крепкие руки схватили Алисию. Она не сопротивлялась.
«Посмотри, к чему привела твоя слабость! Теперь ты погубила их обеих!» – Дарион звучал почти искренне разочарованно.
Но голос Рафаэля был чист и ясен: «Ты поступила как живая душа. Впервые за эту жизнь».
Её заточили в камеру напротив, через узкий коридор от Маргариты. Дверь с грохотом захлопнулась.
Тишина. Затем сквозь толщу камня, едва слышно, донёсся голос:
– Алисия?
– Я здесь, – откликнулась она, прижимаясь лбом к холодной стене.
– Спасибо, – прозвучало так тихо, что можно было принять за шум в ушах. – Теперь и ты свободна. По-настоящему. Нужно ли тебе это,прости и благодарю тебя.
И странное дело,в своей каменной могиле, в ожидании ужасной участи, Алисия впервые за всю эту жизнь почувствовала покой. Тяжёлый, горький, но чистый.
Ночью, через крошечное оконце под потолком, Алисия увидела чёрное небо. И на этом небе одна звезда вдруг сорвалась с места и прочертила длинную, серебристую линию, чтобы исчезнуть на краю мира.
Она не знала, было ли это знамением или просто игрой природы. Но в её сердце что-то отозвалось тихим, ясным знанием. Земной урок этой жизни был усвоен. Страшной ценой.
И душа ее, наконец, расправила крылья.
Глава 6. Огонь выбора.
Дождь, начавшийся ночью, к утру превратился в ледяную изморось, которая забивалась под одежду и заставляла коченеть пальцы. Но на площади у монастыря Святой Клары народу не убавилось. Толпа гудела, алчно взирая на два столба, густо обложенных сыроватым хворостом.
Алисию вывели первой. Верёвка впивалась в запястья, а страх был таким плотным, что перехватывало дыхание. Он звенел в ушах, сжимал горло, заставлял сердце биться как бешеное. Запах мокрого дерева, человеческого пота и животного страха стоял в воздухе.
– В последний раз, сестра Алисия! – голос матери Элоди прорезал гул толпы, как нож. Настоятельница подошла к ней так близко, что Алисия почувствовала запах ладана и чего-то кислого от её дыхания. – Отрекись! Признай, что была околдована этой тварью, и обретёшь прощение! Покайся публично, и тебя отпустят! Ты будешь жить!
«Будешь жить» прозвучали самым страшным, самым сладким искушением. Инстинкт, древний и всепоглощающий, закричал внутри неё. –Согласись! Выживи! Любой ценой!
Страх охватил Алисию целиком. Она не могла дышать. Она хотела жить.
И в этот миг небеса над площадью раскололись.
Слева от неё пространство закипело невидимой яростью. Из ничего вырвалось присутствие,тяжёлое, давящее, пахнущее гарью и холодной сталью. Дарион.
Чёрные, как провал в ночи, крылья из ломающегося света и теней затмили половину неба. Его гнев заслонял солнце.
«Отступи» – его голос звучал ясно и четко.
Справа, из самой стены монастыря, хлынул ослепительный, немыслимый свет. Не слепящий, а пронизывающий, ясный. И из этого света шагнул Рафаэль. Его крылья были сотканы из сияющего воздуха и тишины, размах их затмевал стены монастыря. В его руках не было оружия, лишь бездонное и скорбная решимость.
«Не отпускай свет», – прозвучал его голос, и в этом слове была вся любовь Лимба. «Отпусти страх. Это не смерть – это дверь».
Дарион ринулся вперёд. Его черные крылья, как клинки тьмы, рассекали пространство, чтобы обрушиться на Рафаэля. Воздух завизжал. Рафаэль не уклонился. Он встретил удар, подняв руку. Столкновение двух сил выплеснулось в мир смертных ослепительной вспышкой и оглушительным грохотом, который люди приняли за удар грома. Небеса потемнели, закрутились свинцовые тучи.
Дарион снова и снова направлял свои молнии. Его удар как коготь из чистой ненависти был направлен не на Рафаэля, а сквозь него, на саму душу Алисии, чтобы сломать ее волю. Рафаэль принял удар на себя. Грохот от их столкновения в её душе был таким, что она вскрикнула, и люди подумали, что она закричала от страха перед костром.
Молния, живая, фиолетово-белая, ударила в колокольню монастыря, осыпая площадь искрами и каменной крошкой. Толпа в ужасе завопила, попадая ниц.
Чёрное пламя и ясный свет сплетались, рвали друг друга, и от каждого удара земля содрогалась, а в небе бушевала яростная буря. Они сражались не за её тело. Они сражались за нее. За самый стержень ее существа.
Алисия, привязанная к столбу, видела испуганные лица людей, слышала вой ветра, чувствовала ледяные брызги дождя. От каждого удара по Рафаэлю ее собственная душа содрогалась от боли. От каждого луча света, что он отбрасывал, в ней теплилась надежда.
«Выживи и правь!» – ревел Дарион, и в его голосе была ярость загнанного в угол зверя. Удар чёрного крыла, невидимый для людей, вызвал резкий порыв ураганного ветра, который опрокинул телегу с хворостом и заставил палача едва удержать факел.
«Ты больше,чем плоть. Вспомни дом», – голос Рафаэля прорезал хаос в ее душе, чистый и устойчивый. Его свет, невидимый для толпы, окутал Алисию, как щит, на мгновение заглушив жуткий холод страха.
И в этот миг, между двумя раскатами настоящего грома, между криком толпы и ревом невидимой бури в её душе, в Алисии наступила тишина. Абсолютная. В ней не осталось места ни для чьего голоса, кроме ее собственного.
Она увидела лицо матери Элоди, искаженное торжеством и суеверным страхом перед бурей. Увидела, как к соседнему столбу привязывают Маргариту. Женщина, мокрая и бледная, нашла её взгляд и тихо, почти беззвучно, шевельнула губами: «Не бойся».
Алисия посмотрела в чёрное, разгневанное небо, где бушевала битва за её душу. Посмотрела на факел в руке палача. На сырой хворост у своих ног.
Она сделала глубокий вдох, вбирая в себя весь этот мир,холод, страх, жестокость и эту крошечную, непобедимую искру человечности.
– Нет, – сказала Алисия. Ее голос, тихий и хриплый, был почти заглушен воем ветра, но мать Элоди его услышала. Услышала и замерла. – Она не ведьма. А я,я не лгу.
На лице настоятельницы не осталось ничего, кроме ледяной, фанатичной решимости. Она резко махнула рукой.
Палач, крестясь на бушующую грозу, наклонил факел. Сырой хворост зашипел, задымил, а затем жадное, жёлтое пламя рванулось вверх по промасленным веткам.
Алисия не смотрела на огонь. Она смотрела вверх. Над ней, в разверзнутом небе, Рафаэль, ослепительно яркий, обездвижил Дариона, завернув того в кокон из чистого сияния. Падший ангел издал последний, бессильный рев ярости.
И в глазах Рафаэля, обращенных к ней, Алисия увидела гордость.И прощение. И любовь. Ту самую безусловную любовь из Лимба.
Первое пламя лизнуло её подол. Боль пришла,острая, всепоглощающая, животная. Она вскрикнула. Но даже в этом крике не было просьбы о пощаде.
Она повернула голову, сквозь слёзы от дыма глядя на Маргариту. Та улыбалась. И Алисия, сквозь боль, сквозь страх, улыбнулась ей в ответ.
Огонь взметнулся, сливая два костра в одно огромное, жаркое, очищающее солнце. Последнее, что она услышала перед тем, как мир растворился в свете и боли, был тихий, ласковый голос Рафаэля:
«Домой, Аэлис. Ты идёшь домой».
И её выбор, и её смерть в пламени, и её душа, вырвавшаяся на свободу, всё это слилось в последний вздох, унесённый яростным ветром над площадью, где люди, в ужасе крестясь, наблюдали, как две ведьмы горят под дикую, ниспосланную самим небом бурю.
Глава 7. Перламутровая пена.
Пламя, пожиравшее ее тело, погасло. Но не превратилось в пепел, а растворилось,превратившись в нечто иное. Боль отступила, не оставив пустоты. Аэлис не упала и не взлетела. Она просто перестала быть там и начала быть здесь.
Это было похоже на погружение в океан, где вместо воды жидкий жемчуг, а вместо давления всепроникающее объятие. Лимб. Воздух звенел. Это был звон тишины, наполненной отголосками, как раковина, прижатая к уху, которая хранит память о море. В ней сплетались миллионы голосов, но не заглушая друг друга, а создавая сложную, печальную и прекрасную симфонию.
Она смотрела на себя. Ее форма была подобна облаку из сияющего тумана, но с очертаниями, знакомыми и чужими одновременно. По поверхности этого живого облака струились призрачные узоры. Это были не шрамы, а скорее водяные знаки души, отпечатки только что прожитой жизни. Там, где было пламя, теперь вились золотые, мерцающие спирали. Там, где была боль от верёвок легкие, серебристые полосы. Вспышка страха на площади оставила после себя тёмно-синюю, пульсирующую точку, как капля чернил в молоке, которая медленно растворялась, делаясь все светлее.
А потом из перламутровой дымки перед ней выплыло солнце. Это был Рафаэль. Его присутствие не проявлялось, а разворачивалось, как невидимый до сих пор цветок, лепестки которого были сотканы из спокойного, ясного света. Он не имел четких границ, его сияние плавно перетекало в атмосферу Лимба, как акварель по мокрой бумаге. И в самой глубине этого сияния Аэлис увидела усталость. Не человеческую,а древнюю, космическую усталость гор, наблюдающих за сменой эпох. Усталость от битвы, которую он принял за нее.
Он не сказал ни слова. Он просто протянул к ней луч своего внимания, мягкий и тёплый, как луч солнца сквозь толщу воды. И когда этот луч коснулся её сущности, пространство вокруг зацвело воспоминаниями.
Она снова была на площади, но теперь видела всё иначе. Видела свою маленькую, смятенную душу, дрожащую в центре урагана. Видела, как пространство вокруг неё искривилось от чудовищного давления, с одной стороны чёрная, маслянистая буря, клубящаяся ненавистью и обещаниями власти, с другой непоколебимый, прозрачный, как алмаз, столп тишины. Она чувствовала ярость падшего,она была острой и колючей, как тысячи иголок. И чувствовала боль ангела,нежную и глубокую, как трещина в самом сердце хрустального сосуда, принимавшего на себя каждый удар, чтобы защитить хрупкий огонек её воли. И в центре, среди этого космического шторма, она увидела его. Свой выбор. Он был не словом, а жестом души. Крошечным, почти незаметным смещением, тихим падением капли в бездонный колодец, которое, однако, породило круги, разошедшиеся по всей поверхности бытия. Это падение переломило ход битвы.
Ощущение ушло. Она снова плыла в перламутровом океане, держась за сияющую руку Рафаэля. Они двигались вдоль медленной, вечной реки душ, Аэлис смотрела на своё отражение в ее текучей поверхности. Она видела не грешницу и не святую. Она видела ландшафт прожитого опыта. Горные хребты преодоленных страхов, долины мгновений слабости, ручьи невыплаканных слез и одинокий, прекрасный цветок, выросший на месте последнего, трудного решения. И это было красиво.
Они приблизились к источнику Голоса. Туда, где тишина становилась особенно глубокой и звонкой. Аэлис почувствовала знакомое присутствие, безграничное, всевидящее, безусловно любящее. И ждала.
– Тридцать пятый уровень, – прозвучало. Звук родился не снаружи, а внутри неё самой, наполнив каждую частицу её существа. Голос был всё тем же абсолютным, чистым инструментом. Но в его бездонной основе, в самом тембре, Аэлис различила новый обертон. Тончайшую вибрацию признания. – Урок самоотверженности и целостности пройден. Жертва принята. Урок усвоен.
Её сияние отозвалось не вспышкой, а преображением. Изнутри наружу пошла волна теплого, медово-золотого света. Он не ослеплял, а наполнял, делая её форму более плотной, более реальной, более собой. Свет излился и вовне, мягко окрасив перламутровую дымку вокруг в цвета раннего восхода, отбросив длинные, ласковые тени. Тридцать пятый. Это был не прыжок через пропасть. Это было как подняться после долгого падения и обнаружить, что стоишь на новой, невиданной высоте.
И в этот миг тишины и света из глубин океана Лимба, из его темных, спокойных придонных слоев, поднялась тень. Холодная, маслянистая волна, пахнущая озоном после грозы и тлением. Отголосок Дариона. Его ярость, лишенная формы, но не силы.
Волна накрыла ее, и мир изменился. Перламутр помутнел, превратившись в стены богато убранных покоев. Она была в них. В платье из тяжёлого шёлка. В руках хрустальный кубок. Власть была осязаемой, как холод металла в её руке. В сердце глубокий, беззвучный, умиротворяющий холод. Жизнь, купленная ценой той лжи. Жизнь в силе, в роскоши, в полной, бессловесной темноте души. Искушение дышало на неё сладким, смертельным холодом, обещая покой ценою всего, что она только что поняла.
Но прежде чем видение могло её сковать, пространство вокруг неё взорвалось светом. Не атакой, а простым наличием. Присутствием Рафаэля, которое растворило кошмарный мираж, как солнечный луч растворяет утренний туман. Тень отступила с шипением невысказанной ярости.
– Он не оставит тебя, – мысль Рафаэля была тихой и печальной. – Отпечаток боли, которую ты ему нанесла своим выбором, остался. Он будет искать этот отпечаток. Всегда.
Аэлис не ответила. Она смотрела в туманную даль, откуда пришла тень. Внутри неё не было страха. Было ясное понимание дороги, как у путника, увидевшего вдалеке грозовые тучи на своём пути.
Рафаэль повёл её в сторону от главного течения, в тихую заводь Лимба, где дымка сгущалась, образуя нечто вроде подводного грота, стены которого светились изнутри. Место Намерения. Здесь из общей массы выделялись и танцевали в медленном водевиле тонкие, светящиеся нити судьбы. Каждая вибрировала своей собственной, уникальной мелодией.
Перед ней выплыли три.
Золотая нить звучала тихой, умиротворяющей мелодией, как колыбельная. Она обещала жизнь, наполненную милосердием и созиданием. Урок: хранить светильник души в мире, где тьма не явлена, а разлита в серой обыденности, где легко забыть, зачем светить.
Алая нить горела огненной, страстной симфонией. В ней слышался рёв толпы, лязг оружия и гимны свободы. Жизнь борца. Урок: пройти через огонь борьбы, не дав ему спалить в тебе всё.
Стальная нить звенела чистым, высоким звуком. Мелодия открытий, озарений и холодной красоты формул. Жизнь познающего разум. Урок: не заблудиться в идеальных лабиринтах ума, не променять тепло живой души на безупречную, но безжизненную схему.
Аэлис слушала эту тихую музыку возможностей. И её внимание привлекло не звучание, а тишина. В стороне, чуть в тени, вилась еще одна нить. Рафаэль не указывал на неё. Она была цвета ржавой крови и мокрого пепла, и звука от неё не исходило вовсе. Она была молчанием перед взрывом, затишьем перед бурей. Багровая Нить.
Аэлис протянула к ней частицу себя. Прикосновение было воспоминанием. Вспышкой в темноте, грохотом, давящим на уши, запахом пороха и сырой земли, вкусом железа на губах. И одним словом, врезавшимся в сознание: война.
– Почему эта? – спросил Рафаэль. Его голос был похож на лёгкий ветерок, колышущий поверхность озера. В нём не было несогласия, лишь глубокая, древняя печаль.
– Я научилась не бояться умирать, – мысль Аэлис была ясной и плавной, как течение той самой реки душ. – Теперь я должна научиться не бояться жить, когда сама жизнь становится полем боя. Когда тьма приходит не тайком, в темницу к одной душе, а открыто, обрушиваясь на всех свинцовым ливнем. Когда нужно выбирать не между правдой и ложью, а между тем, кого спасти, а кого оставить. Я выбираю этот урок.
В последние мгновения перед тем, как её сущность начала притягиваться к багровой нити, растворяясь в ее беззвучном призыве, Аэлис увидела в основном потоке, в его самых спокойных, глубоких водах, знакомое сияние. Медовое, тёплое, завершенное. Душа Маргариты, наконец обретшая покой, уносилась в безмятежную даль, к вечному сну или иной, высшей форме бытия.
Аэлис послала ей всю свою благодарность, всё запоздалое, щемящее раскаяние, всю ту любовь, на которую не решилась при жизни. В ответ пришла волна, чистая, безусловная, всепрощающая теплота. Прощение, не нуждающееся в словах.
Рафаэль коснулся её в последний раз. Его прикосновение было как первая капля дождя после долгой засухи, освежающее, дающее жизнь, несущее обещание. «Я буду рядом. В каждом вздохе ветра на том поле. В каждой капле дождя. Всегда».
Аэлис обернулась к багровой нити, которая теперь развернулась перед ней не нитью, а целым туннелем. В её сиянии не осталось ни сомнений, ни страха перед болью. Только спокойная, неизбежная решимость.
Её душа, омытая слезами света и закаленная в монастырском огне, мягко уплыла в воронку нового воплощения. Перламутровая дымка сомкнулась за ней, но на миг в ней осталось отражение, уже не лик испуганной монахини, а другое лицо. Молодое. Женское. С темными кругами под глазами и усталостью в тысячу лет. Но в глазах не страх, а ясная, негнущаяся воля. А на щеке, застывшая, как хрустальная слеза, сияла одна-единственная капля свинцового ливня.
И душа, познавшая очищающую мощь огня, безмолвно скользнула навстречу ливню из свинца и стали.
Часть 2 Глава 1 Координаты ада.
Падение длилось вечность и мгновение одновременно. Аэлис, теперь уже лишь чистая воля, обернутая воспоминанием о боли и пламени, неслась по багровой нити. Она не летела, её втягивало, как щепку в водоворот. Мимо проносились не пейзажи, а сгустки будущего, вырванные из времени. Искажённый крик в дыму, колючая проволока, чья-то рука, судорожно сжимающая комок мерзлой земли, детские санки, брошенные на окровавленном снегу. Это был не рассказ, а какофония предчувствий, и в ней не было ни начала, ни конца. Лишь нарастающий, низкий гул, похожий на отдалённый гром или скрежет гигантских машин.
Последним, что она различила перед тем, как реальность взорвалась в её сознании, были голоса. Они звучали не снаружи, а изнутри неё самой, будто два фундаментальных закона мироздания вступили в спор на её территории.
«Добро пожаловать на фабрику, душа, – прошипел холодный, отточенный как лезвие штыка, голос Дариона. В нём не было прежней яростной пышности, лишь выверенная до цинизма уверенность. – Здесь твоё милосердие, брак. Оно сгорит в топке первым. Ты увидишь истинный лик мира. И он тебе понравится. Он простой».
И тут же, едва уловимо, пробился другой голос. Не громкий. Нежный, как давление воздуха перед рассветом. Рафаэль.
«Не слушай фабричный гудок, Аэлис. Ищи не лики. Ищи глаза. Даже в самом тёмном цеху этой фабрики ищи человеческие глаза. В них карта выхода».
Грохот поглотил всё.
Она пришла в себя не от света, а от его отсутствия. От спертого, густого мрака, пахнущего влажной землёй, известкой и страхом. Но больше всего от гула. Он был везде, в камнях подвального пола, дрожащих как живые,в пыли, осыпавшейся с потолка ей на лицо,в самом воздухе, который вибрировал, разрываемый чудовищными, нечеловеческими звуками снаружи. Грохот. Дребезжание. Далёкие и похожие на сухой кашель, очереди. И свист. Долгий, тонкий, леденящий душу свист, за которым неминуемо следовал удар, от которого содрогнулся мир.
Память души, как затекшая конечность, медленно возвращалась. Белое одеяние. Пламя. Тихий голос – «Домой». Но это было там. А здесь,здесь было тело. Хрупкое, дрожащее, смертное. Имя ему было Вера. Ей девятнадцать. В ушах стоял звон, во рту вкус пыли и крови от прикушенной губы.
Она лежала на чём-то твёрдом, прижавшись спиной к холодной стене. Рядом, в темноте, слышалось прерывистое, поверхностное дыхание. Мать. Хрупкая тень, которая теперь лишь судорожно сжимала её руку. Чуть поодаль клубок нервного тепла. Младший брат. Саша. Двенадцать лет. Он не плакал. Он тихо, на одной ноте, постанывал, как раненая птица. И ещё были другие. Запах немытой кожи, молока и безнадеги. Соседка с грудным ребёнком. Вера помнила её лицо,круглое, доброе, всегда улыбающееся. Теперь в темноте была лишь смутная форма, качающаяся из стороны в сторону, и едва слышное мурлыканье колыбельной.
Свист нарастал, превращаясь в вой, впивающийся в мозг. Инстинкт, древний и мудрый, прижал Веру к земле. Мать навалилась на неё сверху, прикрывая своим телом. Саша вжался в угол.
Раздался удар.
Не звук, а конец звука. Оглушительная, абсолютная тишина, в которую ворвались звон в ушах и тяжелый, гулкий обвал где-то прямо над ними. Потолок подвала вздрогнул, с него посыпались кирпичная крошка и клубы едкой пыли. В просвете, где раньше была дыра для света, теперь была черная пустота, окаймлённая торчащей арматурой. Пыль медленно рассеивалась, пропуская тусклый, серый свет снаружи.
И тогда Вера услышала. Плач. Тонкий, пронзительный, требовательный плач младенца. Он бился о стены подвала, крича о голоде, о холоде, о страхе. И так же внезапно, как начался, он оборвался. Не затих, оборвался. Резко, как перерезанная струна.
В темноте качающаяся тень соседки замерла. Колыбельная оборвалась на полуслове. Наступила тишина, страшнее любого грома. Потом раздался шёпот, ровный, без интонации, обращенный в никуда: «Спи, моя радость, спи… Всё хорошо… Спи…»
Вера, преодолевая парализующий страх, приподнялась. Луч света падал на соседку. Та сидела, прижимая к груди свёрток в грязном одеяле. Но голова младенца лежала на её руке неестественно, под углом, будто кукла с перебитой шеей. Женщина не смотрела на ребёнка. Она смотрела в пустоту перед собой и улыбалась той самой, прежней, доброй улыбкой. И качала бездыханный свёрток.
Вера почувствовала, как что-то внутри неё рвётся. Не мысль, а само ощущение мира. Всё здесь было устроено, чтобы растереть в порошок любую надежду, любое чувство, кроме одного животного желания продлить еще на секунду биение собственного сердца. Ей захотелось отвернуться, заткнуть уши, бежать от этого зрелища. Это было естественно. Это было разумно. И в этом желании отвернуться была особая, манящая простота, смотреть только вперёд, только на себя, только на своих. Забыть всё остальное. Это был путь, который предлагал холод, сжимавший ее сердце.
И тогда, сквозь пыль и этот леденящий соблазн забытья, она это увидела. Не лицо женщины. Её глаза. В них не было безумия. Там была такая бездонная, такая чудовищная боль, что ее невозможно было вместить, осознать. Это была боль, способная разорвать вселенную. И в этих глазах, на самом дне, все еще теплился крошечный, угасающий огонек,отблеск той колыбельной, того мира, где дети не умирают от обвала потолка в подвале. Этот взгляд пригвоздил Веру к месту. Он не просил о помощи. Он просто был. И в этом бытие была такая истина, перед которой меркли все доводы разума о выживании.