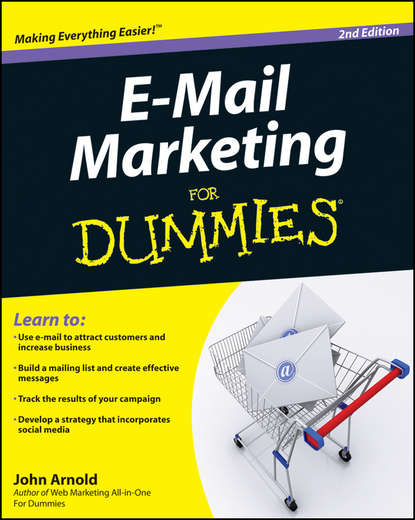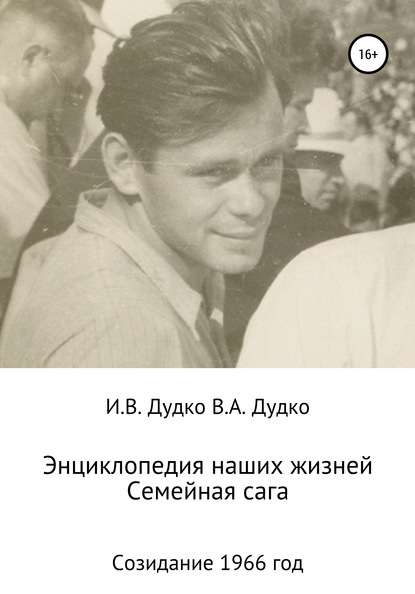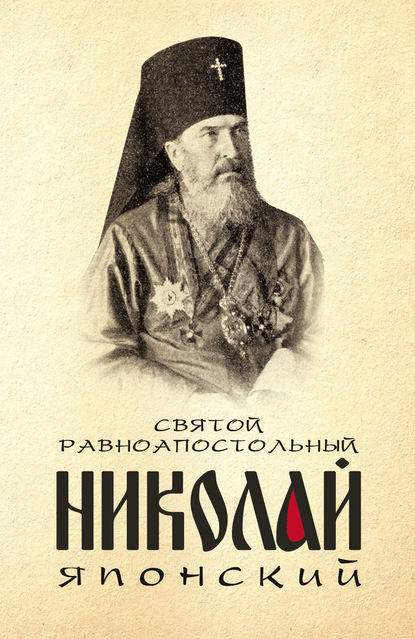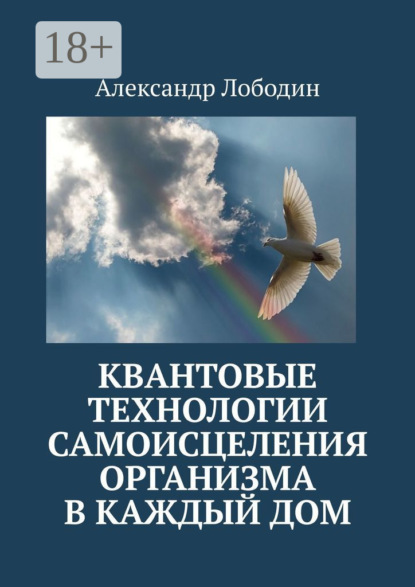На ринге с судьбой. Портрет горного инженера Швецова на фоне эпохи XIX века
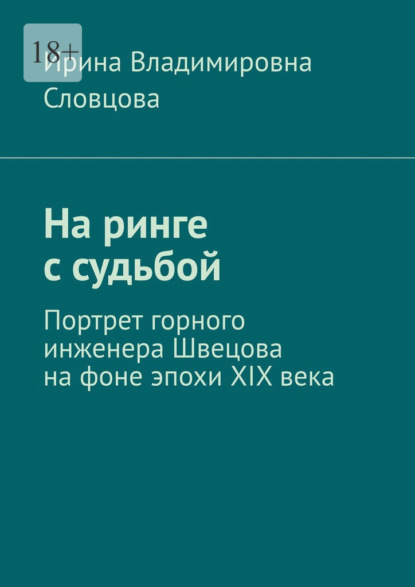
- -
- 100%
- +

© Ирина Владимировна Словцова, 2025
ISBN 978-5-0068-3681-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Ирина Словцова
НА РИНГЕ С СУДЬБОЙ
Портрет горного инженера Швецова на фоне эпохи XIX века
Документальный очерк
СОДЕРЖАНИЕ
РАУНД I. ВОСХОЖДЕНИЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Глава 1. Воля хозяина
Исторические подробности
Глава 2. Проводы
Исторические подробности
Глава 3. «Железный» караван на старте
Исторические подробности
Глава 4. Крушение. Первые жертвы
Глава 5. Пожар на бечевнике
Исторические подробности
Глава 6. Наивные мальчики с Урала
Исторические подробности
РАУНД II. ПОЕДИНОК НА ВЕРШИНЕ
Глава 7. Противостояние
Технические подробности для любопытных
Глава 8. О владельцах. Николай Никитич Демидов
Глава 9. Охранная грамота
Глава 10. В тисках происхождения. Платина
Геологические подробности
Глава 11. Открытие, оставшееся неизвестным
Исторические подробности о судьбе российской платины.
Глава 12. Свобода без права на жизнь
Глава 13. Медный рудник. Противостояние
Историческая справка
Глава 14. Уникальная находка. Малахит
Глава 15. Вторая встреча
Глава 16. Судьба малахита
Глава 17. Первая партия для Исаакия. Воспоминания
Глава 18. Конкуренция с англичанами. Сталь
Глава 19. Об опекунах вокруг «демидовского пирога»
Глава 20. Противостояние. Рельсы для железной дороги
Историческая справка
Глава 21. За сибирским золотом
Исторические подробности
Глава 22. О Владельцах. А.Н.Демидов
РАУНД III. ПАДЕНИЕ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Глава 23. Тёмные и душные времена. Антоний Кожуховский
Глава 24. Сибирь в 40—50 годы XIX века
Маленькое «лирическое отступление»
Глава 25. Проект завода в Сибири.
В ожидании поддержки правительства
Глава 26. Раунд последний – болезнь
Глава 27. Сибирское уравнение, сын Евгений
ЭПИЛОГ
Об авторе
Список использованной литературы
ВСТУПЛЕНИЕ
Есть люди, которых судьба ведет по жизни. А есть такие, кого она швыряет, словно на ринге, из угла в угол, не давая опомниться и сделать ответный ход. Фотия Швецова судьба бросала по вертикали: то подбрасывала на такой уровень социума, где ему по рождению быть не предназначалось, то сбрасывала с Олимпа. Она им играла с самого рождения, проверяла на прочность…
Он родился в начале XIX века и уж точно не с серебряной ложкой во рту.
Его мать происходила из рода волжских рудоискателей, а отец – из тульских оружейников. Приехав на Средний Урал, они оказались крепостными Демидовых.
В тот период шло освоение этой богатейшей территории, Демидовы строили один за другим железоделательные заводы, остро нуждались в квалифицированных кадрах и хотели быть уверены в том, что ни один из мастеровых-металлургов, кузнецов или рудознатцев не сбежит к конкурентам или, вообще, не сбежит из-за тяжелых условий труда. Они скупали целые деревни на Волге, Орловщине, Украине и перевозили людей на Урал, записывая их в свою собственность – крепостными.
Родившийся в 1805 году в Нижнем Тагиле Фотий Швецов стал крепостным по факту происхождения. Но этот статус не препятствовал поступлению в школу, куда принимали детей заводских служащих. Николаю Никитичу Демидову нужны были грамотные кадры, поэтому он лично комплектовал школьную библиотеку и контролировал успеваемость учеников. Программа обучения соответствовала потребностям горнозаводского хозяйства: алгебра, геометрия, чистописание, черчение, маркшейдерское дело, два-три иностранных языка, ну и закон Божий, а как без него.
Способности, уникальная память, наблюдательность юного Швецова были явно выше среднестатистического школьного показателя, это проявилось во время обучения и подтвердилось на выпускных экзаменах.
Н.Н.Демидов, отслеживавший учебные успехи юных тагильчан, включил Фотия в группу мальчиков, которым предстояло продолжить обучение за границей.
Почему такая честь – не по чину? Как раз по чину: крепостных людей в России не принимали ни в одно учебное заведение, дающее высшее образование. А во Франции, Швеции, Германии – пожалуйста, любой каприз – за ваши деньги. Такие студенты назывались пансионерами господ Демидовых, а их учебу и поведение за границей отслеживали сотрудники посольств в соответствующих странах.
14-летнему Фотию Швецову предстояло долгий маршрут. Как это было? Может, так:
РАУНД ПЕРВЫЙ. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Глава 1. ВОЛЯ ХОЗЯИНА
В последний понедельник апреля 1819 года Федька Звездин ранним утром возвращался из своего дома в школу. Делал он это крайне осторожно, шел не по улицам посёлка, а огородами, прячась за хозяйственными строениями и банями. Он всё рассчитал: школьный надзиратель с вечера был пьян, а потому проснётся только вместе со всеми учениками, когда повариха станет звать к завтраку. А за это время беглец успеет перебежать задний двор школы и влезть в окно первого этажа каменного здания – в спальню. Там его уже ждут приятели – Фотейка Швецов и Ванька Синицын. Из всех троих Звездин жил к школе ближе всех. И когда представлялся случай сбегать домой, поесть досыта и принести гостинцев приятелям, он это делал. Вчера дежурил вечно пьяный надзиратель Кузьма, так что грех было не воспользоваться оказией и не сбежать к отцу с матерью – хотя бы на несколько часов.
…Подросток оглядел пустой двор и собрался уже перебежать его наискосок, чтобы залезть в окно, которое ему изнутри откроют одноклассники, как на крыльцо школьного здания вышли священник Вениамин, преподаватель закона Божьего и главный учитель школы Мосцепанов. Выражения лиц у них были встревоженные.
– И чего их принесло в такую рань? – с досадой подумал мальчишка, вынужденный мерзнуть на мокром апрельском снегу. Одет он был плохо – их в школе не баловали. Отец Федьки говорил, что приказчики всё разворовывают, а отчеты посылают в Петербург правильные – будто все деньги, что Демидов отписывает на заводскую школу, тратят на них, учеников. Враньё! Еще несколько месяцев назад, пока не приехал вновь назначенный главный учитель Мосцепанов, они с голоду ели тараканов.
…Отец Вениамин и Мосцепанов отправились прямёхонько на скамейку под дубом, в дупло которого успел спрятаться Федька. Сгоряча он не почувствовал холода, шедшего ото льда и старых листьев, осевших в дупле, и еще чего-то жесткого. Может, белка принесла на веточках грибов, да и забыла, как водится, про свои припасы.
Взрослые продолжали разговор, начатый в стенах школы.
– Кого пошлём?
– Так ведь господин Демидов ясно выразился: лучших учеников.
– Тогда отправим Ивана Синицына и Фотия Швецова…
У Федьки похолодело в груди: Мосцепанов называл имена его закадычных друзей. Куда отправят, зачем, надолго, и как он останется без них?
– Ну, относительно Федора Звездина хозяин распорядился особо. Отрок азы иконописи освоил так, как не всякий взрослый способен.
До Федьки даже не сразу дошло, что речь о нём.
– Синицын и Щвецов сначала в Мец доставлены будут, а Звездин – сразу в Париж, к Томиру…
– Ну-с, думаю, мы поступаем правильно, – подвёл итог разговору Мосцепанов и поднялся со скамьи. Следом за ним – батюшка. Они направились к школьному крыльцу, вошли в здание, за ними бухнула, закрываясь, тяжелая дверь. Ни жив – ни мертв, продрогший мальчик стремглав сиганул под окно, которое, он приметил, уже было приотворено: приятели его ждали. Кубарем он свалился с подоконника, забрался в кровать под тощее одеяло. Его зубы стучали, скорее всего, не от холода, а от слов, которые он услышал.
Одноклассники, смущенные испуганным и измученным видом друга, слушали, как его зубы отбивают дробь, смотрели на него с изумлением и ждали, когда он заговорит.
В спальную комнату вошел надзиратель, хриплым голосом заорал:
– Подъем!
Ученики заводской школы поскакали с казенных кроватей, побежали умываться.
Только после завтрака Федька смог говорить и пересказал приятелям утренний разговор взрослых. Ни Фотий, ни Ванька услышанному не обрадовались и на уроках сидели мрачные. Все трое понимали, что участь их уже решена.
Исторические подробности
Заводская школа в посёлке Выя1 была организована на Урале Демидовыми одной из первых, ещё при Петре Первом. А поскольку Демидовская империя была огромна и включала в себя не только заводы, рудники и шахты, но и огромную территорию тайги (которая истреблялась на древесный уголь); и пристани; и пильницы, на которых готовились сосновые и еловые доски для барж и каменок; а также морские и речные флотилии судов; и склады готовых изделий в городах расположенных на берегах рек по которым плыли «железные» караваны, она нуждалась в целой армии грамотных, хорошо обученных специалистов и, что немаловажно, умевших подчиняться интересам и распоряжениям хозяина.
В демидовской империи, как во всей России тогда, поддерживалась кастовость. Если в масштабах государства это было «деление» на дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство (казенное и крепостное), то в огромном Горном округе Урала тоже существовали свои касты: служащие (управители и приказчики разных уровней), потомственные рабочие и приписанные к заводам крестьяне.
Дети служащих после окончания школы назначались писцами, «толмачами» (переводчиками) в конторы и заводские (фабричные, рудничные) управления, приказчиками и т. д. Если повезет – могли дослужиться до высоких должностей, как в Нижнем Тагиле, так в Москве и Петербурге. Но при этом они оставались крепостными!
В невзрачном двухэтажном здании Выйской школы постоянно звучал не только уральский говорок, но и правильная речь на французском, немецком, английском языках. Школа готовила управленцев. Поэтому помимо чистописания, арифметики, геометрии, закона божьего, черчения, горного дела в её программе обязательно было изучение иностранных языков. Преподавали их свои же, бывшие выпускники школы, которые несколько лет жили и учились кто во Франции, кто в Германии, Италии, Англии или Швеции, а вернувшись домой, занимали должности в управленческом аппарате демидовской империи. Демидовы торговали со всей Европой, продавая чугун, железо и медь, имели во многих странах свои представительства, поэтому вся деловая переписка велась на иностранных языках.
Практически каждый год, по итогам экзаменов, на которых присутствовали первые лица Главной конторы нижнетагильских заводов, выбирались лучшие, наиболее способные ученики, которых отправляли на учёбу заграницу. Демидов в своих письмах настаивал, чтобы «… оные мальчики были весьма востры, дабы оных понапрасну сюда не провезти, дураков своих и здесь хватает…»
Отправка талантливой молодёжи за границу, в Европу была удачным вложением капиталов. Всё, что было передового в горнодобывающем деле, геологии и минералогии, точных науках и технике, живописи, скульптуре и архитектуре, успешно осваивалось крепостными юношами в течение 5—6 лет, а затем они, снова оказавшись дома, «возвращали» Демидовым долг за европейское обучение новыми открытиями, живописными полотнами, иконами, великолепными зданиями.
Поэтому Нижний Тагил не был похож на обычный посёлок: в нём действовали великолепные церкви, строились особняки для местной аристократии и чиновничества, авторами которых были крепостные архитекторы. А в особняках хранились произведения искусства, приобретенные в Италии, Франции или созданные тагильскими художниками-крепостными, обучавшимися в Европейских школах живописи или Петербургской Академии художеств.
В 1819 году из лучших учеников выйской школы были выбраны трое: Фотий Швецов, Иван Синицын и Фёдор Звездин.
…На последнем уроке, приоткрыв скрипучую дверь, в класс заглянул старший надзиратель, громко крикнул:
– Швецов, Звездин, Синицын – к директору, – поправил на плечах накинутую шинель и скрылся за дверью.
Вызванные к начальству мальчишки, под недоуменные реплики одноклассников вышли из учебной комнаты и отправились следом за надзирателем. Кабинет директора школы Евлампия Максимовича Мосцепанова находился на первом этаже.
Мосцепанов появился в Нижнем Тагиле несколько месяцев назад. За это время и ученики, и приказчики почувствовали его крепкую руку. Он был штабс-капитаном в отставке, ходил, похрамывая, но без трости; когда сердился, шрам от сабельного удара на его лице багровел, и директор начинал говорить отрывисто, словно отдавая команды. Взрослые рассказывали, что Евлампий Максимович участвовал в сражениях с наполеоновскими войсками во время Отечественной войны 1812 года, а ранения получил уже в заграничных походах, когда «наши дошли до Парижу».
До появления Мосцепанова местные приказчики, распоряжавшиеся деньгами, отпускаемыми хозяином на училище, богатели, строили себе двухэтажные дома, а ученики спали на полу и с голоду ели тараканов, которых ловили тут же, в своих классных комнатах и спальнях. Евлампий Максимович написал донесение господину Демидову, жившему во Франции, а пока оно добиралось до адресата, уволил пару-тройку зарвавшихся школьных чиновников. Приказчики, как водится, хотели Мосцепанова сгнобить через суд, но к тому времени ответ Демидова подоспел в Нижне-Тагильскую заводскую контору, и главного учителя Выйского училища (так официально называлась должность Мосцепанова) оставили в покое, позволив ему распоряжаться школьными деньгами и материальными ресурсами, как подобает.
…Фотий распахнул дверь в кабинетик директора и вошел первым, за ним – понурив головы, Иван и Федька. Евлампий Максимович, перебиравший бумаги на столе, услышал приветствие вошедшего Швецова, поднял голову, оглядел учеников. Он уже знал, что самый высокий из них – с глазами разного цвета – карим и голубым – Швецов, а тот, что пониже – худенький, вихрастый, белобрысый, с белёсыми ресницами вокруг ярких голубых глаз – Ванька Синицын, а третий – молчаливый, с кожаным ободком на голове, сдерживавшим копну русых вьющихся волос, – Федька Звездин.
Мальчишки молча переминались с ноги на ногу.
Мосцепанов взял в руки листок бумаги, исписанный каллиграфическим почерком, посмотрел на учеников ничего не выражавшим взглядом.
– Ну, раз все в сборе, – сказал Мосцепанов, – объявляю вам решение хозяина нашего, господина Демидова. На весеннем караване отправляетесь вы в Петербург, а через него – во Францию. Так что даю вам два дня на сборы и прощание с родными. В Усть-Утку поедете заранее. Скоро уже лёд на Чусовой вскрываться будет.
Сообщение подростков не обрадовало, но и высказывать возражения они не собирались. Кто ж рискнёт сопротивляться воле всемогущего Демидова?
– Можно сегодня уйти? – уточнил Фотий, приняв факт как данность судьбы.
– Вам со Звездиным можно и сегодня, у вас родители здесь, в Тагиле живут. До ночи успеете. А Синицын завтра с утра пойдет…
Ванька, у которого из родных были только дед с бабкой, наморщил лоб, сказал с обидой:
– Я дедову заимку и ночью найду, не маленький.
Мосцепанов, с заметным равнодушием ответил:
– Ну, коли не боишься, иди в ночь. – Потом, словно спохватившись, сказал:
– И вот ещё что. Учиться в Париже будете, а караван полгода идёт… Ведь забудете всё, ленивцы, а хозяин вас по прибытии сам захочет экзаменовать по языку. Я распоряжусь, чтобы вам учебники выдали… Будете на караване повторять и между собой на французском говорить. А караванный за вами присмотрит.
– А как там, в Париже? – робко спросил Федька.
Мосцепанов, нервно перебиравший бумаги на своём столе, поднял голову, посмотрел из-под седеющих бровей на отроков, ответил:
– В Париже? – и голос его чуть дрогнул, – …теплее, чем на Урале… – И резко закончил разговор:
– Чего застыли, идите, собирайтесь.
Как только мальчишки оказались в коридоре, и первый шок от услышанного прошел, Швецов мечтательно сказал:
– Мы сможем увидеть пол-России, поплывём по Каме, по Волге!
Ванька посмотрел на приятеля как на сумасшедшего и заявил решительно:
– Сбегу я. Мне Париж без надобности, а деда с бабкой одних оставлять не хочу.
Швецов урезонил:
– Ты подумай, что с ними сделают, если сбежишь! Запорют до смерти, чтобы другим неповадно было детей своих скрывать от учебы за границей – вот и вся недолга. А если поедешь, то через несколько лет вернёшься домой, сможешь им помогать.
– А они доживут? Дождутся?
– Да они ж у тебя не старые совсем, – влез в разговор Звездин. – Если дед один на лося ходит, значит, силы ещё есть? Да и бабка Лукерья горазда ругаться. Если бы немощная была, могла б так орать?
– Да ты откуда знаешь? – Удивился Синицын.
– Батька мой сказывал. Он в господский дом дрова привёз, разгрузил, куда приказчик сказал. А бабка твоя ка-ак налетела на энтого приказчика, что мол, эти дрова ей нужны были, для кухни, печь топить, расстегаи печь, а теперь из-за того, что дрова не там сгрузили, у неё расстегаи перекиснут. Жуть, как ругалась.
Тихо переговариваясь, мальчишки вошли в большую комнату, которая служила ученикам заводской школы и спальней, и местом для приготовления уроков. Там их уже ждали однокашники, узнавшие о новости от надзирателя.
– Мы не увидимся больше? – спросил кто-то из учеников.
– Почему не увидимся? – отвечал Фотий. – Мы к утру четверга тут должны быть. Мосцепанов сказал, что ради такого дела нас сам в Усть-Утку доставит.
Не дожидаясь ужина, который не сулил ничего хорошего, кроме перловой каши на воде, трое подростков отправились по домам, где их в понедельник, в начале рабочей недели, никто не ждал.
Глава 2. ПРОВОДЫ
Фотий был старшим сыном мастера-литейщика2 Черноисточинского завода Ильи Швецова. Отец Звездина работал приказчиком на Выйском медеплавильном заводе3, а Иван Синицын был сиротой, отец которого погиб во время весеннего сплава «железного» каравана по горной реке Чусовой.
Подростки, выйдя из здания школы, отправились каждый в свой поселок. Иван побежал к бабке Лукерье, которая была стряпухой в господском доме в Нижнем Тагиле, Фотий пошёл в Черноисточинск, а Федьке нужно было всего лишь дойти до берега Выйского заводского пруда, где стоял родительский дом.
…Три года назад, когда Фотию исполнилось двенадцать лет, его отца отстранили от должности. По недосмотру Ильи Григорьевича в домне «забили козла». Это означало, что в печи, на её стенках, застыл не вылившийся чугун, домну пришлось остановить на ремонт. А этот останов оборачивался для хозяина ощутимыми финансовыми потерями. С того времени Илья Швецов перебивался случайными заработками, иногда надолго уходя из заводского поселка. Надо было хоть какие-то деньги заработать, чтобы заплатить подушные подати. А не заплатишь – посадят в острог, либо выпорют на конюшне…
За время отсутствия отца Фотий стал главным помощником матери. Приглядывал за младшими братьями и сестрами, помогал копать грядки на огороде, ставить тепличку для огурцов, заготавливал ягоды, грибы и кедровые шишки, научился ловить рыбу сетью, вместе с отцом косил траву для коровы и лошадей.
Семье Ильи помогала многочисленная родня – кузнецы Швецовы. Фотейка, если выдавалась свободная минутка, бегал к дядьям в кузницу, смотрел, как завороженный, на их работу у наковальни. В это время он забывал о своём недостатке – глазах разного цвета – и переставал прищуривать один из них. Ему всё равно было, какой глаз прикрывать, – у него было прекрасное зрение. Но в раннем детстве, когда незнакомые люди, увидев высокого мальчика с разноцветными глазами, начинали его тормошить, рассматривать и расспрашивать, как это так может быть, он приобрёл привычку при встрече с чужими прищуривать какой-нибудь глаз, чтобы разница в цвете была не так заметна. Когда же общался с друзьями и близкими, то про эту уловку забывал.
Фотий любил ухаживать за лошадьми: мыл, расчесывал, лечил не только свою, но и соседских. Скотина доброту помнит и чует – лошади слушались его беспрекословно. Когда летом мальчишки часто уходили в ночное с лошадьми, для Фотия наступала счастливая пора. Подростки спали в шалашиках, собранных на скорую руку, пекли картошку и грибы на костре, пугали друг друга рассказами о разбойниках, а рядом паслись на свежей траве пойменных лугов лошади.
Теперь был апрель, но ни в ближайшие месяцы, ни в ближайшие годы ему в ночном не быть…
…Когда Фотий подошёл к родному дому, построенному на кержацкий4 манер: пятистенным, с крытым крышей двором за высоким забором, ставни окон уже были закрыты. Он постучал в одно из них, громко позвал:
– Мам, не пугайся, это я.
Через несколько минут мать в накинутом на плечи теплом платке распахнула дворовую калитку, охнула, увидев старшего сына в неурочный час, сразу заподозрила неладное:
– Случилось что?
Вместе вошли в комнату. Притихшие ребятишки Николка, Гришка и Акулина сидели вокруг стола с лучиной. С горевшего берёзового прутика, стоявшего в специальной плошке с водой, падали горящие угольки, и падая, издавали шипение и чад. Николка менял прогоревший прутик на новый, а ребятишки сонными глазами смотрели на огонь.
Пока мать собирала нехитрый ужин сыну, Фотий рассказал о предстоящей поездке. Анна молчала, задумавшись, по привычке поправляла пряди русых волос, выбившиеся из тяжёлого узла, уложенного на затылке. Илья давно приметил за матерью такое свойство: столкнувшись с трудностями, она не причитала, не кричала, как другие деревенские бабы, а замыкалась в себе, молчала, потом только говорила о принятом решении. Вот и сейчас после длительного молчания сказала:
– Отменить мы ничего не можем. Отец вернётся только через неделю. Давай собираться.
Открыла железный кованый сундук, какие на Урале повсеместно держали в каждой избе – для хранения одежды или кухонной утвари и даже книг. Достала из него чистые рубашки и шаровары, тёплую кацавейку, войлочную шляпу…
– На реке в апреле холодно…
Застыла с ними в руках… потом закрыл крышку сундука, положила вещи на неё и, обратившись к сыну, сказала:
– Утро вечера мудренее, давай-ка спать ложиться, а завтра собираться будем. Я тебе подорожники испеку.5
Ни в одну семью весть о том, что их сын будет учиться во Франции, радости не принесла. На Урале все прекрасно знали, чем может закончиться «путешествие» на чусовском караване. С одной стороны, начало навигации на Чусовой для всех заводских поселков было праздником, так как именно этим – водным путём, открытым еще в стародавние времена, отправлялась продукция всех – казенных и частных – уральских заводов в Нижний Новгород, Астрахань, Москву и Петербург. А с другой – это был маршрут смерти, из которого люди домой могли и не вернуться, скончавшись либо из-за полученных во время крушения барки травм, либо утонув в коварной реке.
Парадокс заключался в том, что в то время, о котором идёт речь, жители северных районов России, и Урала, в частности, НЕ УМЕЛИ ПЛАВАТЬ. Лето на Урале короткое, и вода в реках, текущих с гор, не успевала прогреться. Поэтому мальчишки, если и плескались в реке, то делали это на мелководье, в теплой воде. Да, они умели раскинуть сеть для ловли рыбы, сделать запруду, убить зверя, но плавать – нет. Этим искусством овладевали те, кто жил в более теплом климате – к примеру, волжане или донские казаки.6
Взрослые переживали за своих детей, не только потому, что расставались надолго, а элементарно опасались за их жизнь. Поэтому и школьное, и заводское начальство заранее оговорило детали «доставки» детей в столицу: мальчиков должны были посадить на разные суда на тот случай, что если какая-либо барка потерпит крушение, то подростки погибнут не все. Взрослые это понимали, а дети – нет… до того времени, пока уже во время плавания не стали очевидцами гибели бурлаков на маршруте.