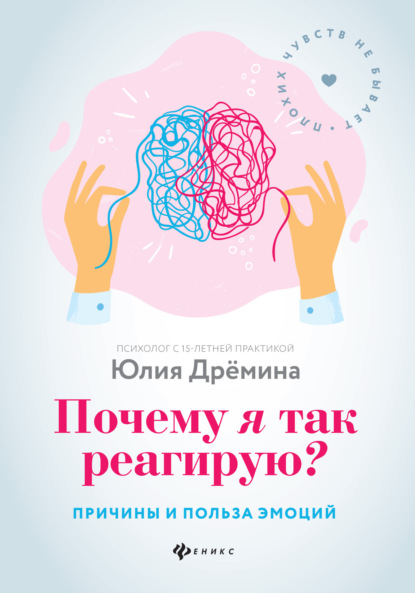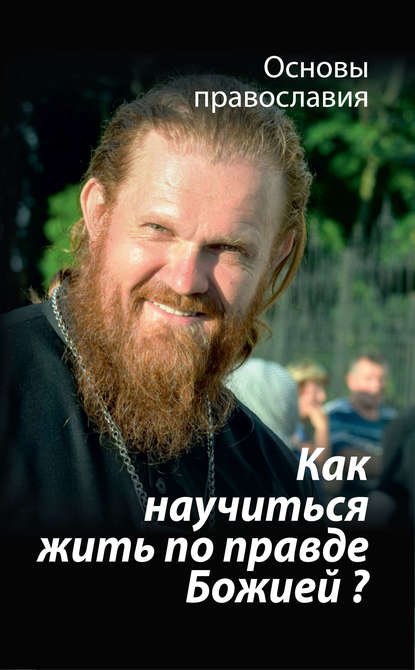На ринге с судьбой. Портрет горного инженера Швецова на фоне эпохи XIX века
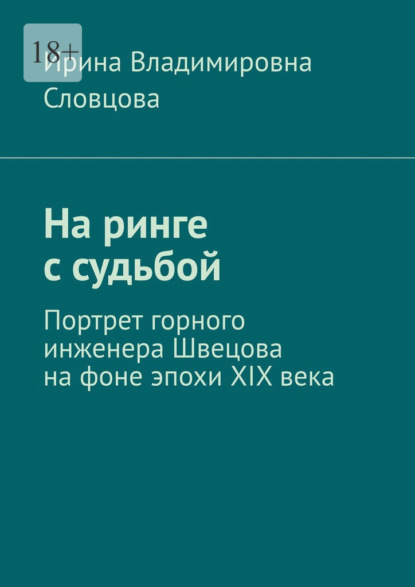
- -
- 100%
- +
Исторические подробности
Усть-Утка, речная пристань, была построена ещё в начале XVIII века, когда Акинфию Демидову пришла в голову идея сплавлять железо, произведенное на уральских заводах, по горной реке Чусовой. Он сам привел караван в Петербург. С той поры на берегах Усть-Утки и появилась каменная пристань. Здесь же, на верфи, строились коломенки, казёнки и барки. Рядом работала лесопильня, поставлявшая доски для их строительства. В складских помещениях скапливался в течение зимы товар: медные штЫки – отливки, похожие на длинный кирпич весом в полпуда7, листовое железо и чугунные болванки.
В 1812—1814 годах эта пристань видела погрузку пушек и ядер. Николай Никитич Демидов в те годы не только снабжал российскую армию оружием, но и в составе ополчения, сформированного на его деньги, принял участие в военных действиях, взяв с собой старшего сына – 14-летнего Павла.
К строительству барок приступали месяца за два до начала навигации. В основе конструкции судна – вертикальные борта и плоское дно, суживающееся у носа и кормы. Нос шире кормы примерно на 15—20 сантиметров, и при укладке груза больше старались нагружать носовую часть, чтобы центр тяжести барки смещался к носу. За этим при погрузке следил сплавщик – человек, который и поведёт барку по Чусовой. В носовой и кормовой части укрепляли пыжи – большие бревна. Поперек барки на днище укладывали средней величины бревна. К ним деревянными гвоздями пришивали днище и борта.
Рядом с пыжами вертикально ставили березовые столбы – огнива, до 30 см диаметром, на которые впоследствии наматывался толстый канат для торможения и остановки (на бурлацком языке – «хватке») барки. Вся внутренность барки – это сплошной трюм для укладки груза. А вот сверху в носу и корме устраивались палубы для бурлаков. Середина закрывалась крышей на два ската, в центре которой сооружалась высокая скамейка для сплавщиков. Руля у барки не было. Его заменяли 4 огромные весла – потеси, примерно 19 метров длины. На конце потеси, называемом губой, ставился самый сильный и опытный подгубщик, остальные бурлаки, а их было от 12 до 15 человек на весло, держались за специальные колышки-кочетки.
В деревне Усть-Утка, что расположилась на противоположном от верфи берегу, жили профессиональные сплавщики и мастеровые, обслуживавшие пристань, верфь, кузницу, плотину на ней, шлюз и склады. Это было не более 200 человек, занимавших с семьями около пяти десятков изб.
А вот в апреле, перед сплавом каравана, в Усть-Утку приходили тысячи людей. Для обслуживания только одной барки требовалось порядка 50—60 судовых рабочих. Барок отправлялось иногда до 90 штук. Умножаем на 50 – получаем 4500. Если привлекать только своих, заводских мастеровых, тогда пришлось бы заводы останавливать и всё их население отправлять на сплав. Демидовские приказчики придумали другое. Они знали, что в деревнях соседних губерний – Уфимской, Вятской, Пермской, Казанской – крестьяне из-за неурожая или других каких-то бед не имеют денег, чтобы заплатить подушную подать (налог). Как и сейчас, так и в прошлые времена, это нарушение закона каралось довольно жестоко. Поэтому уральские приказчики приезжали в деревни, договаривались с местной властью, которая и направляла в Усть-Утку мужицкие артели.
Местом сбора всех бурлаков, нанятых на «железные караваны», была Вятка. Артели должны были придти туда к 1 марта. Приказчики проверяли наличие каждого бурлака, делали отметку в документах, а уже 9 марта артели отправлялись к месту назначения – на пристани. Если у них были средства добираться конным транспортом (на подводах), то путь занимал около полутора недель, если все расстояние от Вятки до Перми, а затем до Усть-Утки они шли пешком, на это уходило 25 дней, если же смешанным «видом», то 15.
В караванной конторе приказчики отбирали у крестьян паспорта, выдавали денежный аванс размером в рубль, который бурлаками пропивался в кабаке.
Глава 3. ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРАВАН НА МАРШРУТЕ СМЕРТИ
В назначенный день подростки явились в школу. За плечами у каждого – одинаковые берестяные короба с крышкой, а в них – обычный набор подорожников: пирожки с картошкой, луком и морковкой, черёмухой. В таких заплечниках пирожки не портились и не черствели в течение недели.
…Как и обещал, Мосцепанов сам поехал с подростками в Усть-Утку. Выехали рано утром в заводском экипаже. Дорога на пристань к концу апреля была порядочно разбита. Да и не мудрено: по ней всю зиму телегами и подводами свозилась на речные склады продукция всех демидовских заводов. Так что теперь каждый апрельский ухаб отзывался болью в теле. Да и лес, обступавший дорогу с обеих сторон, не радовал: снег к середине весны ещё не растаял, но утратил белизну, посерел-почернел, стал ноздреватым, давно слетел с ветвей. Лиственные деревья показывали неприкрытые серые ветки, а ели – посеревшие хвойные лапы.
…Через несколько часов добрались до Усть-Утки, которая была полным контрастом серому унынию лесной дороги. Речная пристань походила на человеческий муравейник. Ни один из подростков за все свои 15 лет не видел такого скопления людей. Они были везде: у реки, на берегу, на улицах – вся территория пристани и близлежащей деревни была занята тысячами людей. Экипаж с трудом продвигался по улице, запруженной бурлаками.
– Прямо Вавилон нашей эры, – восторженно воскликнул Илья и поймал на себе удивленно-длинный взгляд Мосцепанова.
Евлампий Максимович, выпускник Петербургского кадетского корпуса, прошедший с русскими войсками пол-Европы до Парижа, никак не ожидал встретить в уральской глубинке таких самородков как Швецов или Звездин. Подписывая с представителями демидовской конторы договор на службу в Выйской заводской школе, он предполагал, что это обычное учебное заведение, готовившее служителей для заводских нужд. Но никак не ожидал увидеть в её стенах прекрасную библиотеку, преподавателей, говоривших на иностранных языках, одаренных учеников. Вот и сейчас, услышав комментарий Швецова, снова подумал, что самородками полнится земля русская.
Наконец, кучер подвёз их к зданию караванной конторы. Первый этаж, как водится, был каменный, второй – деревянный, с мезонином и балконом. Вместе с Мосцепановым подростки вошли в большую комнату с огромным деревянным столом в центре. На нём лежали расстеленные карты, папки с документами. В прокуренном помещении люди, стоявшие вокруг стола, говорили все разом – громко и раздраженно. Звучали отдельные слова и фразы: «навигация», «лёд», «сроки»… Ни один из подростков до этого дня никогда не был свидетелем бурных производственных споров и не видел такого количества приказчиков – большей частью бородатых, крепких разновозрастных мужиков.
Подростки оробели.
Коренастый человек лет сорока, с резкими чертами лица, густыми черными бровями над узкими яркими глазами обернулся, услышав их приветствие, резким движением бросил карандаш на разложенную перед ним карту и пошел навстречу приехавшим:
– Думаю, вы ко мне! – уверенно сказал он и протянул руку Мосцепанову. – Я Николай Петрович, начальник каравана. Вы, как полагаю, из Выи? Я уже получил письмо из заводской конторы.
Мосцепанов изложил караванному цель приезда подростков.
– Поступим так, – выслушав директора, сказал караванный. – Пусть один плывёт на казёнке, со мной. Второй – с Прохором Завалишиным, а третий – с Исаем Рыбаковым. Это лучшие уткинские сплавщики, с ними вашим отрокам будет надежнее.
– А можно нам вместе на одной барке плыть? – не выдержав, спросил импульсивный Ванька.
Николай Петрович, как будто не слыша мальчика, сказал, вроде ни к кому не обращаясь:
– Кто из вас старший? Пойдем со мной.
Фотий двинулся за мужчиной к лестнице, ведущей на второй этаж. В комнате второго этажа он увидел богато накрытый стол, бутылки с наливками, вином и водкой и остатками такой еды, о существовании которой он и не знал, разбросанные игральные карты. Теперь подросток догадался, почему директор решил сам сопровождать их в Усть-Утку, а не отправил с ними старшего надзирателя. Это ж убедительный повод, чтобы приятно провести время и пообщаться с нужными людьми.
Из открытой балконной двери веяло прохладой и весенней свежестью. Караванный вышел на широкий балкон, поманил Швецова рукой:
– Иди сюда, здесь видно всё, как на ладони.
С балкона открывалась панорама, которой Фотию видеть не доводилось: справа, на горушке, стояла белая церковь, недалеко от неё – двухэтажный дом на берегу реки, недалеко от плотины. Огромный плотинный шлюз выглядел гигантом по сравнению с теми, какие доводилось видеть подростку до сих пор в заводских поселках на плотинах, обслуживавших заводы. Около берега стояло несколько готовых к отплытию барок. Мальчик догадывался, что шлюз откроют при начале паводка, и через него все барки каравана будут выходить в русло Чусовой.
Первоначально показавшееся хаотичным движение людской массы отсюда, с балкона, выглядело строго продуманным. Со складов на телегах к баркам подвозили штыковую медь, болванки чугуна и железа, затем их брали на свои крепкие плечи и спины бурлаки, несли по сходням на барки. Суда, что были уже загружены, стояли у причалов, ожидая начала навигации. Для других, закрепленных на берегу в деревянных стапелях, на кострах варилась смола, которой заливали щели между досками дна и бортов, заделанные паклей. Готовые барки под дружное «Эх, дубинушка» сталкивались по склизням, смазанным салом, в воду.
– Пойдете туда, – показал Николай Петрович на суда, выстроившиеся у шлюза. Это барки Прохора Завалишина, Исая Рыбакова и моя. Скажете, кто вы и зачем. Там и будете договариваться о ночлеге. Чтобы в любой момент, как начнется паводок, быть на месте. Всё понял? Ну, иди, я и так на вас слишком много времени потратил.
Исторические подробности
Примерно так начиналось путешествие уральских подростков по рекам России – сначала по горной Чусовой, а затем по равнинным – Волге, Каме, затем снова среди скал – по горной Мсте, через Боровичские пороги – страшный и опасный. Когда в конце апреля, после вскрытия льда, Чусовая становилась бурной и полноводной, провести по ней барки весом в несколько тонн было делом весьма опасным. Особенно если учесть, что практически на каждом километре смельчаков подстерегали скалы (по-местному – «бойцы»), о которые разбивались (и не по одному) речные суда.
Железные караваны отправлялись от пристаней на Чусовой дважды в год, весной и летом. По численности судов, составлявших речную флотилию, в караване могло находиться до 70—90 барок.
Их маршрут пролегал по Центральной России, по территории Ленинградской (современное название), Псковской и Новгородской областей. Барки проходили по Вышне-Волоцкой водной системе, спускались по горной Мсте, двигались по Волхову, шли по Старо-Ладожскому (Петровскому) каналу, который в те времена считался одним из самых современных и мощных в Европе. Это был сложнейший комплекс гидротехнических сооружений – бейшлотов, плотин, шлюзов, гидроузлов для сбора воды с соседних рек, речушек, озер и болот. По тем временам – триумф инженерной и строительной мысли.
Достигнув Шлиссельбурга, караваны иногда по несколько дней не могли войти в Неву из-за тумана или штормов, которые шли с бушующей Ладоги. Но и фарватер Невы был сложен: в районе Отрадного (это современный Кировский район Ленинградской области) речников ждали коварные Ивановские пороги.
Вызывает восхищение работа лоцманов на всех реках: без приборов, основываясь только на своей интуиции, знании фарватера, скорости воды в реке, они проводили суда, минуя мели и скалы, стоящие прямо на их пути. Их навыками до сих пор восхищаются исследователи, занимающиеся историей караванов.
Подростков распределяли на разные барки: на тот случай, «если какая барка убьется, то погибнут не все». Наверное, юные пассажиры должны были «просто плыть», ни во что не вмешиваясь, а задача взрослых – доставить их целыми и невредимыми. Но это ведь только в инструкциях гладко бывает. Подросток, по природе своей, импульсивен, любопытен, смел, решителен и часто совершает довольно рискованные поступки.
Может быть, было так:
Глава 4. КРУШЕНИЕ. ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
Лоцман Исай Рыбаков торопил артель: нужно было поставить на барку новое весло, убедиться в его исправности и догонять караван.
Люди, немного повеселевшие после сытного завтрака, дружно оттолкнули барку от берега, она вошла в речную струю, удачно вписалась в несложный поворот Чусовой. После него стала видна впереди барка Прохора Завалишина. Так весь день они и шли друг за другом, повторяя сложные навигационные маневры, обходя скалы, стоявшие то посередине реки, то подстерегавшие у поворотов. День выдался солнечный, и серые прибрежные скалы, поросшие редкими корявыми деревьями внизу, у воды, и роскошными соснами на своих вершинах, не выглядели так мрачно, как прошлым днем.
Фотий на барке Завалишина даже различал маленькую фигурку Ваньки, за которым, как пришитый, бегал пёс Лоська. Фотий хотел было позвать приятеля, но понял, что из-за постоянного шума бурлящей воды только голос надорвет, а толку – чуть.
К вечеру обе команды удачно совершили «хватку» на левом берегу. При этом исаева барка схватилась через завалишенскую – таков закон на реке: барка, которая схватилась первой у берега, обязана принять конец у той, что идет следом. Да тут и закона не надо никакого: оба лоцмана не первый год ходили в одном караване, хотели многое обсудить, да и двум артелям надежнее ночевать в лесу совместно, как показали последние события.
Фотий вместе с артельными сошел на берег. В глазах всё еще стояла речная зыбь, а тело продолжало ощущать качку водоворотов и волн горной реки. Швецов увидел, как к нему по берегу бежит Ванька.
Мальчишкам хотелось обменяться новостями, рассказать друг другу о своих приключениях, но прежде нужно было помочь, как всегда, кашеварам, собрать сучья для костра.
После ужины Петька Рыбаков, сын лоцмана Исая, по-взрослому, солидно посоветовал:
– Надо выспаться. Завтра самый тяжелый путь. Отец всегда говорит: если мимо Разбойника пройдём – считай, Чусовая нас решила живыми отпустить.
Петька ушел на барку к отцу, Ванька – в балаган к Прохору, а Фотий остался у костра с артельными.
…На следующее утро он проснулся рано, до побудки и, лёжа на спине, наблюдал за небом. Оно хмурилось, за солнцем охотились тучи, словно хотели стереть его с горизонта, но оно сопротивлялось. Сначала одной серой громадине. Она наползала на него и, казалось, уже закрыла полностью, оставив маленькую полосу яркого света. Но стоило ей замешкаться без поддержки ветра, как солнце будто высунулось из-под тяжелого одеяла. Вторая туча пришла с другой стороны на подмогу первой, и скоро цвет неба до горизонта стал одинаково серым и унылым…
Вместо побудки Илья услышал ругань и причитания Исая Рыбакова:
– Ушли, окаянные!
– Ах, сволочи, – вторил ему водолив Егор с барки.
– Вот теперь им Егорьев день!
Оказалось, что под утро, когда все видели сладкие или несладкие сны, артель вологодских крестьян ушла. Фотий вспомнил, что накануне они сильно горевали, что уже пора землю пахать, а они все ещё не дошли до Перми.
Доложили караванному Николаю Петровичу, совершавшему обход барок до отплытия.
– А мы как поплывём? – сокрушался Исай. – Можа, хоть по одному человеку с барки нам кого выделят – хотя бы до Кына. А там доберем?
– Да, как же, в Кыне! Там уже все путные давно со своим караваном ушли.
– Можа, в деревне кого найдем?
– Стариков да сопляков мы найдем – все либо на сплаве, либо на пахоте
Начинал накрапывать мелкий дождь. Оставшаяся команда бурлаков, потушив костры на берегу, собралась на корме барки. Остались утчане да башкиры. Посланные Николаем Петровичем, подошли к Рыбакову пять бурлаков из других артелей. Он что-то объяснял им с запальчивостью, они сочувственно кивали головой. Стали распределяться по веслам. К Фотию подошел Исай:
– Дело у меня к тебе, Швецов. Нам всё равно рук не хватает. Нам до Кына надо добраться, а там либо груз оставить, либо новых бурлаков набрать. А ты парень, смотрю, смышленый, высокий, сильный, башкирский язык понимаешь. Встань к ним. Нам сейчас самая страшная дорога предстоит – мимо Разбойника, а оно видишь, как вышло!..
Исай резко и длинно выругался, как никогда прежде.
– Ах ты, мать твою! И это ж в самый раз перед Разбойником! Ах, мать вашу, ах, подвели под монастырь, – причитал на палубе водолив, механически проверяя, на месте ли груз. Потом убавил жалости в голосе, перешёл на обычный деловой тон, обращаясь к Исаю.
– Давай, ужо, собираться. Ты же здесь не останешься? Давай решай уже что-нибудь. Вишь, морось пошла. Замешкаемся – застрянем здесь на неделю.
Фотий занял место у весла, что было с правой стороны носовой палубы. Впереди него подгубным стоял Салават, с правой руки – пожилой башкир в оленьем треухе. Подросток боялся ошибиться, выполнить команду не так, с опозданием… Салават почувствовал его страх, повернул голову, сверкнул узкими черными глазами:
– Делай, как я.
Оттолкнулись от берега, вышли на стремнину.
…Работали веслом, как заведеные…
После ругани, перебранки и забористых шуток на палубе вдруг наступила гнетущая тишина, как будто судно обезлюдело. – Вся малочисленная артель стояла у четырех потесей в полном молчании и напряжении. Был слышен звон капель с поднятых вёсел. Водолив Егор, встав на колени, молился прямо на палубе – видимо, за всех. У остальных руки были заняты. По царившему напряжению Швецов понял, что барка подходит к скале, о коварстве которой предупреждал Петька. Тот сейчас сидел на скамейке, рядом с отцом и так же, как отец, напряженно всматривался в реку и её берега. Скала Разбойник была последним и самым страшным испытанием Чусовой. Потом будут ещё встречаться и мели, и таши8, но эта, унёсшая и уносящая, как жертвоприношение, десятки жизней бурлаков – последняя. Впереди шла барка Прохора Завалишина в такой же тишине. Что-то пошло у них не так, и быстрое течение несло судно прямо на Разбойника. Плавни9, сооруженные из брёвен около скалы, ослабили удар, но он всё равно был силен. Барка получила пробоину в борту, накренилась на бок, и с её палубы посыпались в воду болванки меди и железа. За ними покатились люди. Фотий видел, как Ванька покатился по палубе сначала к правому борту, потом к левому, а затем вместе с другими бурлаками упал в бурлящий около скалы омут.
Ванька полностью погрузился в воду, его голова скрылась в бурлящей белой пене, но через несколько мгновений показалась над водой. Ванька хватал ртом воздух, кашлял, отплёвывался. Казалось, что какая-то сила выталкивает его из воды, удерживая на плаву. Через минуту стало ясно, что это за сила: жилистая рука, вырвавшись из воды, схватилась за бревно выступающего плавня, потом другая рука, обхватив запястье подростка, ощупью пристроила руку мальчика на ветке. И только потом из воды вынырнул бурлак Митяй.
Фотий окаменел. Он боялся, что никто не подаст тонущим ни шеста, ни каната. Их барка тоже неслась к Разбойнику. Если они попадут в водоворот, образованный тонущей баркой, то тоже окажутся в ледяной воде.
– Табань, – кричал Исай Рыбаков, – лево руля, держи корму!
Швецов догадался, что Исай хочет развернуть барку против течения и таким образом замедлить её ход. Лица у бурлаков, стоявших на потесях, были багровые от напряжения. Жилы на лбах и руках вздувались. Егор держал наготове канат. И в тот момент, когда судно развернулось и стало проходить в метре от скалы, когда весла буквально скребли о камни, водолив кинул канат Митяю, державшемуся у плавней. Тот схватил его, стал наматывать на руку, потом ухватил Ваньку поперек туловища, и так, держась за конец каната, который стравливал Егор, спасшиеся достигли барки.
Перегнувшись через борт, водолив втаскивал мальчика на барку, Петька кинулся на помощь. Вдвоём с дядей Егором они втащили Ваньку на барку, положили на палубу, потом помогли Митяю. Силы тому уже изменяли.
Ванька был без сознания то ли от удара об воду, то ли от переохлаждения в горной апрельской воде. Потом сильно кашлял от попавшей в легкие воды, потом его вытошнило. У Митяя были перебиты ноги летевшими с палубы тонувшего судна железными болванками. И подростка, и бурлака растирали водкой, дали выпить «для сугреву».
Половина Завалишинской команды, оказавшись в ледяной воде, погибла. Пропал и Лоська. В полном молчании прошла хватка барки Исая Рыбакова у лесного берега. Оставшиеся в живых молча вытаскивали утопленников на берег, сколачивали носилки, собирали еловый лапник, укладывали на них раненых. Кто-то стонал, кто-то был в забытьи.
Митяй лежал на носилках, наскоро сколоченных ему бурлаками и покрытых еловым лапником. Пришедший в себя Ванька не отходил от бурлака.
– Что теперь с тобой будет? – горевал Ванька, понимавший, что если б не Митяй, его бы сейчас, как других утонувших бурлаков, рядком укладывали на берегу.
– Не плачь, парень, – успокаивал его Митяй. – Что будет… На телегу погрузят да в Утку повезут. А там уж как удача повернется.
Оставшиеся в живых бурлаки перешли на барку Исая Рыбакова.
Завалишин со своим водоливом и ранеными отправлялся по лесным дорогам в Усть-Утку на телегах. На карте караванного пометили место крушения, чтобы летом, в мелководье, поднять груз со дна реки.
Теперь на барке Исая мальчишек стало трое: Петька Рыбаков, Ванька Синицын и Фотий Швецов. Караван шел в Пермь на Каме.
Всё время, пока не скрылась из виду пристань Кына, Ванька рыдал и кричал:
– Митяй, не умирай, дождись меня! Я вернусь, я тебя вылечу! Я обязательно вернусь!
Бурлаки, стоявшие на потесях, молча работали веслами, не в силах помочь мальчишке, который впервые осознал, какой короткой может быть человеческая жизнь.
Швецов не выдержал, закричал:
– Их надо взорвать!
– Что, Фотий? – спросил рядом стоявший Салават.
– Скалы надо взорвать! Порохом! – как шурфы в шахтах.
– Трудно, дорого…
– Разве жизнь человеческая дешевле?
Забегая вперёд лет на пятьдесят от происходивших событий, вспомним, что некоторые, особенно опасные скалы на Чусовой, действительно, были взорваны, а мелкие участки горной реки углублены. Правда, это случилось в те годы, когда никого из участников этой экспедиции уже не было в живых.
Глава 5. Пожар на бечевнике
…В Рыбинске все суда были обмерены, записаны в специальный прошнурованный журнал, получили в пристанной конторе номера, согласно которым они по очереди пойдут друг за другом вверх по Волге, а затем будут спускаться в Тверцу и её каналы. Все участники движения по Вышне-Волоцкой системе, теперь подчинялись Уставу путей сообщения, подписанному императором Александром ещё в 1803 году.
Дня через два караванный снова вызвал Швецова к себе:
– Фома тобой доволен. Вот тебе новое задание: перейдешь на другую барку, – караванный посмотрел списки судов, лежавшие у него на конторке, – водолива Саввой зовут. Ему помогать станешь. Барка под номером 25 – в середине каравана пойдёт.
Швецов, за долгий путь прикипевший к Егору, едва сдерживал слёзы, собирая в балагане свои нехитрые пожитки. Ванька даже не старался скрыть уже опухшее от слёз лицо. Видно было, что и Егор опечален расставанием.
– Ну, робятки, прощевайте пока, – говорил Егор. – Прикипел я к вам, да делать нечего. Николай Петрович распорядился вас всех распихать по разным лодкам, помощниками к водоливам. Смотри, сколь людей новых пришло – за всеми глаз да глаз нужОн. Вот вы и смотрите. Если что заметите не так – сейчас к караванному.
Путь до Твери оказался тяжелым. Жара не спадала. Солнце палило нещадно, делая работу бурлаков невыносимой. Волга мелела не по дням, а по часам. И с каждым часом движение судов замедлялось. Лоцманы, с красными от недосыпа и яркого солнца глазами, не отрывали взгляда от речного фарватера.
Года три назад, по распоряжению Министерства путей сообщения, речные службы стали расставлять на отмелях специальные вехи, торчавшие со дна реки и предупреждавшие об опасности. Но опытные лоцманы знали, что из-за засухи на реке могут образовываться новые мели – дно-то песчаное! И если легкая вёсельная лодка проскочит по небольшой отмели, даже не почувствовав её, то барка, груженная железом, сядет на неё точно.
…Стоявшая засуха по-прежнему не позволяла готовить еду на судах. Поэтому горячая пища у бурлаков появлялась только поздно вечером – когда разводили костер на берегу. Рано утром, ещё до восхода солнца со всяческими предосторожностями костер тушили. Но, видимо, не все.