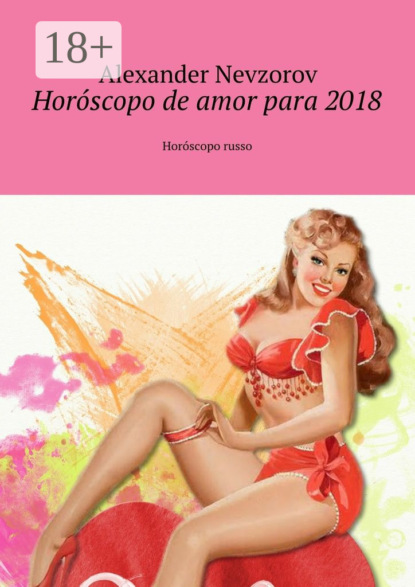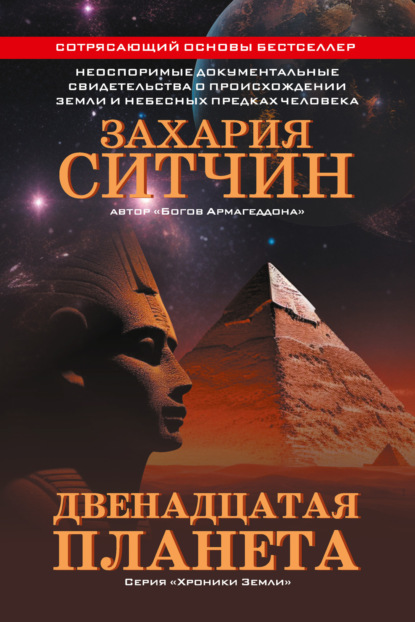На ринге с судьбой. Портрет горного инженера Швецова на фоне эпохи XIX века
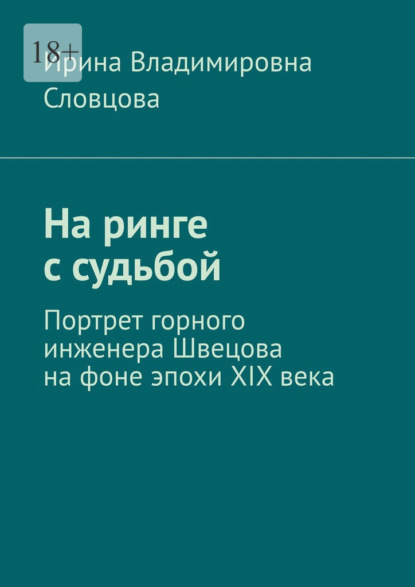
- -
- 100%
- +
…Утром, вычерпывая воду, накопившуюся за ночь в днище лодки, Фотий увидел, что параллельно бечевнику, по которому шли лошади, тянувшие их барку, из леса тянется дым.
– Дядя Савва, это что, пожар?!
– Эх, мать твою, а то что же?! Бери лодку, езжай на берег, скажи Сашке, чтобы морды лошадям мокрой рогожей обвязал. Да рогожи-то возьми побольше. А то, не дай бог, забоятся, да на дыбы встанут, упряжь поломают!
Подросток прыгнул в лодку, привязанную у борта и всегда готовую для экстренных случаев, и поплыл к берегу. Дыма становилось всё больше. Чем ближе лодка подплывала к берегу, тем жарче становился воздух.
Втроем с коневодами Сашкой и Борисом они обмотали лошадям морды и повели под уздцы. Вдруг одна из лошадей, та, что шла в середине упряжки, упала. Фотий кинулся к ней посмотреть, в чем дело, наклонился и узнал в ней ту, что была с больным коленом ещё на Рыбинском торге. Значит, приказчик так и не заменил лошадь на здоровую!
Наблюдавший за ними лоцман, увидев, что упала лошадь на бечевнике, стал тормозить барку рулем, велел водоливу Савве выбросить красный флаг, чтобы суда, шедшие сзади, сбавили ход. Обойти они их стороной не могли – иначе перепутались бы все канаты, привязанные к мачтам барок.
Серо-белая лошадь лежала на боку, тяжело дыша, косила карим глазом в густых ресницах.
Подошел коневод Борис:
– Езжай, Фотейка, обратно на барку, возьми у Саввы ружьё.
Подросток мгновенно понял, что хочет сделать коневод.
– Дядька Борис, её же вылечить можно… – возмутился подросток, но коневод резко его оборвал:
– У-у, жалостливый какой выискался! – зло протянул Борис. – Сам знаю, что можно. А вот туда посмотри, – указал он в сторону леса. – А теперь туда, – кивнул он в сторону реки, фарватер которой до горизонта был занят судами каравана.
Фотий видел, что из леса идёт уже не только дым, но вырываются и языки пламени. Задержись они здесь надолго, пострадают все: и люди, и животные, и барки.
– Живо в лодку! – заорал Борис.
Пять минут туда – пять минут обратно. Савве объяснять ничего не нужно – он с кормы видел всё.
Швецов принес ружьё, отдал Борису. Тот, почти не целясь, выстрелил. Сашка под уздцы держал лошадей, чтобы те не встали от испуга на дыбы, не рванули упряжь. Пока Борис выпрягал больную лошадь, прибежали на помощь коневоды соседних упряжек.
Вчетвером они оттащили лошадь к кромке леса. Смысла закапывать не было – всё равно либо огонь возьмет, либо дикие животные полакомятся.
Фотий в ужасе онемел, глядя, как мужики тащат застреленную лошадь в сторону леса. Вдруг он сорвался с места, бросился вслед за ними, упал на колени перед мордой лошади и в голос запричитал:
– Прости меня, я виноват! Прости меня, прости меня!
Кто-то сзади сильно ударил его по плечу:
– Сдурел?! – кричал на него Борис. – Ну-ка, живо в лодку и греби обратно! – Сопли потом разводить будешь! – Коневод схватил подростка сзади за воротник рубахи, сильно встряхнул – так, что у Фотия голова качнулась сначала в одну сторону, потом в другую. Подтолкнул подростка к лодке, а сам пошел к лошадям.
– Но, шалавы, пошли быстрее, пока не задымились…
Савва велел судовым рабочим убрать с мачты красный флажок, лоцман взялся за руль, барка медленно двинулась по реке и снова заняла своё место в караване. Вскоре Швецов догнал барку, привязал лодку к её борту, сам забрался на палубу и просидел там, скорчившись у бортика, до глубокого вечера. Его никто не трогал.
Исторические подробности
В течение полугода, пока шел караван по рекам и озёрам через всю Россию, подростки видели огромное количество достопримечательностей, за которыми современный человек нынче гоняется, смиряясь с многочасовыми перелетами.
На Урале существовал (и сегодня он есть) только один кремль – Верхотурский, а караваны швартовались на пристанях Казани, Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Тулы, Костромы, где тоже существовали кремлёвские стены и соборы. Да дело даже не в диковинах по берегам рек. Главное открытие для путешествовавших подростков – сила духа простых людей, населяющих их родину. Возможно, таким фактом можно объяснить, что эти трое по возвращении на Урал, как могли, заботились о своих земляках.
Иван Синицын стал известным в Нижнем Тагиле врачом, и одна из улиц города носит его имя. Но он так и не смог получить вольную.
Федор Звездин стал известным скульптором-бронзолитейщиком, его работы участвовали во Всероссийских промышленных выставках, но вольную он так и не получил.
Фотий Швецов, заняв высокий пост в Управлении заводами, всегда заботился о работниках: их образовании и питании. Единственный из троих получил вольную, благодаря вмешательству немецкого ученого Александра Гумбольдта.
Но это всё еще впереди.
…В октябре 1819 года барки железного каравана пришвартовались на Рожковской пристани Обводного канала Петербурга. Подростков отвезли на Васильевский остров, в Демидовский пансион, дали отдохнуть после дороги, а потом снова отправили по маршруту, теперь уже в Европу.
У меня нет данных, каким был этот маршрут, но варианта всего два: либо морем – на судне, всё с тем же железом – от Кронштадта, через Балтийское и Северное моря, через пролив Ла-Манш – во французский порт Руан, расположенный на Сене. Либо по суше – через Финляндию и Германию.
Федор Звездин начал обучение в Париже, у известного бронзолитейщика Томира. Фотий Швецов и Иван Синицын прибыли в Мец: один – в Инженерную школу, а другой – в Хирургическую. Ваньке было веселее: в Хирургической школе уже год как учился его тезка из Нижнего Тагила – Иван Шамарин.
За юными тагильчанами в Меце приглядывал француз Анри Вейер, уроженец этого города, на русский манер – Андрей Яковлевич. Этот Вейер когда-то был воспитателем Н.Н.Демидова в России, а затем вместе с женой и сыном уехал на родину во Францию. В Меце он стал поверенным своего бывшего воспитанника Н.Н.Демидова и контролировал учебу его крепостных. В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде Демидовых10 хранится несколько десятков писем А.Я.Вейера за более чем двадцатипятилетний период: с 1802 по 1828 годы.
Глава 6. Наивные мальчики с Урала
Можно только догадываться о силе культурного шока, который испытали юные уральцы, оказавшись в городе, который был старше Нижнего Тагила на несколько веков. Но сильные впечатления от увиденного не мешали их учебе, за которой пристально следил Анри Вейер, поверенный Н. Н. Демидова в Меце.
В инженерной школе одним из предметов была фортификация – методика строительства крепостей и бастионов, рытья подкопов. Она пригодилась Швецову, когда, вернувшись на Урал, он занялся укреплением глубоких шахт. Забегая вперед, скажу, что до нашего века дошли остатки этих крепежей, выполненных из лиственниц. Как мы знаем, это дерево не гниёт и не портится.
Учёбу уральцы продолжали уже в Париже: Шамарин и Синицын осваивали врачебное искусство, Звездин – бронзолитейное, а Швецов стал студентом Королевской Горной школы Парижа.
Сомневаюсь, что им удавалось часто видеться. В архивах сохранились документы, свидетельствующие об их напряженной учебе. Кроме того, нашёлся договор Н.Н.Демидова с П.Ф.Томиром. Скульптор обязывался «показать ученику формовку и отливку, но без дорогой отделки, и сделать из подростка хорошего работника». Демидов предоставлял ученику «постель для сна и сумму в 35 франков в месяц», кроме того, оплачивал книги, «согласовывая с Томиром возможное возмещение убытков. Ученик мог выходить из дома только с разрешения господина Демидова и возвращаться не позднее десяти часов вечера».
Благодаря исследованиям профессора В.С.Виргинского и его находкам в РГАДА11, можно представить, с какой интенсивностью Фотий «поглощал» те знания, которые давали ему в перспективе возможность изменить социальный статус – свой и родителей – получить вольную за труд и послужить родному краю. Если применимо слово «неистово» к процессу обучения, то тогда это об учебе Швецова в Париже.
…Иван Шамарин, «наглотавшись» во Франции свободы, совсем забыл о своём социальном статусе и решил жениться. Как ни отговаривали приятеля земляки, понимавшие, что это чистой воды авантюра, свадьба состоялась. Женой Шамарина стала дочь французского полковника и мотивировала новоиспеченного мужа написать прошение Демидову о выкупе из крепостной зависимости. Николай Никитич отказал, Иван решил вопреки этому отказу остаться в Париже, но в итоге уже с женой-француженкой его заставили вернуться в Нижне-Тагильский округ в 1826 году. Автоматически – согласно российским законам, француженка из дочери полковника превратилась в крепостную Демидовых со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
Подробности таких метаморфоз мы можем узнать из романа Д. Н. Мамина – Сибиряка «Горное гнездо»: «…Никита Тетюев (главный приказчик – прим. И.С., прообразом этому герою романа послужил один из династии приказчиков Беловых), возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. … Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по самым ничтожным должностям, на копеечное жалованье, без всякого выхода впереди.
Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники – машинистов, минерологи – в лесном отделении, металлурги – при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д.
Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал крутой старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажен, должны были копать медную руду. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до последней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспитывать голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия».12
Забегая вперед скажу, что Иван Шамарин, более десяти лет возглавлявший в Нижнем Тагиле городской госпиталь, всё-таки смог выкупиться из неволи и впоследствии обучить своих сыновей в Казанском университете.
…Швецов и Звездин, оказавшись свидетелями трагедии супругов Шамариных, продолжали учиться в Париже: Фотий – до конца 1827 года, а Фёдор – до 1830.
Швецов, став студентом Горной школы, оказался в эпицентре бурного развития европейской науки – минералогии, геологии и передовой горнорудной практики. Лучшие специалисты Франции – каждый в своей области, были его преподавателями.
Но главным его Учителем стал химик Пьер Бертье, который читал курс лекций по доцимазии (науки о содержании в горных породах металлов, пригодных для извлечения). На момент их знакомства Пьер Бертье прославился тем, что в местечке Ле Бо (это в Провансе)13 нашел и квалифицировал алюминий, он же позднее открыл минерал, названный впоследствии бертьеритом.
Пьер Бертье не только заведовал кафедрой и преподавал. Он активно занимался практикой и научными исследованиями. У него был статус генерального инспектора шахт, кроме того, он входил в состав редакции известного научного журнала «Анналы шахт», издававшегося под эгидой Горной школы Парижа. Фотий-студент поздравил своего учителя, когда Пьер Бертье стал членом Французской академии наук.
Исторические подробности
Пьер Бертье пережил своего ученика лет на двадцать.
Когда французский ученый уже болел и практически не выходил на улицу, за свои научные заслуги и открытия он был награжден большой золотой медалью с изображением Оливье де Серра, которую ему вручили прямо дома в присутствии многочисленной делегации ученых и учеников великого химика. Бертье пользовался уважением коллег в научном мире. Табличка с его именем в числе других фамилий величайших ученых Франции находится сегодня на одной из стен Эйфелевой башни.
Бертье отличался сложным характером. Он полностью посвятил себя науке, поэтому профессор требовал от учеников такой же самоотдачи. Не удивительно, что нерадивых студентов до своей святая святых – химической лаборатории он не допускал. На него жаловались, но Бертье стоял на своем: заниматься у него могли только лучшие ученики. В группе избранных оказался и Фотий Швецов.
Здесь стоит процитировать строки о французских ученых, написанные современником Пушкина П. Б. Козловским14: «…Париж предоставляет любому частному лицу, желающему посвятить себя изучению наук, столько блестящих возможностей получить образование, не тратя огромных сумм, которых нет у гениев, обреченных жить в бедности. Мало того, что все лекции в Париже бесплатные и открыты для публики, каждый иностранец здесь имеет доступ ко всем произведениям искусства или науки, которые ему захочется осмотреть, и при этом никто не требует с него, как это принято в Англии и даже в Германии, своеобразной пошлины, именуемой вознаграждением. Французские ученые так изумительно добры, что самым докучным посетителям не удается их утомить; я сам видел, как знаменитый Ланглес15, боготворимый всеми ориенталистами Европы, подробно отвечал на вопросы любого зеваки, забредшего к нему в библиотеку».
В течение 1824—1825 Швецов посещает лекции по эксплуатации рудников и машин, которые там используются. Помимо этого в программе школы: металлургия черных, цветных и драгоценных металлов с описанием оборудования, необходимого для производства каждого из них; геология, минералогия и химия. Помимо лекций в расписании предусматривались занятия в лабораториях и чертежной мастерской. На третьем курсе Фотий занимался практической химией и разработкой планов создания машин и заводов.
Фотий просит разрешения у Н.Н.Демидова посещать лекции в Консерватории ремесел, которая по тем временам была удивительным учреждением для получения образования. Во-первых, это был музей, в котором экспозиции состояли не из произведений искусства, а из шедевров техники. Во-вторых, там читались лекции ведущими учеными Франции. В-третьих, это было бесплатно.
Сегодня Консерватория поменяла название на Музей искусств и ремесел. Он расположен всё в том же огромном здании церкви Сен-Мартен-де-Шан, в центре Парижа прямо над станцией метро Arts et Metiers.
Исторические подробности
Музей открылся еще при Наполеоне Бонапарте (во время Французской революции). В 1794 году аббат Анри Грегуар предложил Национальному Конвенту проект создания Консерватории искусств и ремёсел, целью которого станет «изучение и сохранение машин, инструментов, чертежей, моделей, книг и различной документации всех существующих искусств и ремёсел». Утверждённая Конвентом Консерватория немедленно становится новой хозяйкой множества конфискованных во время революции частных технических коллекций. После продолжительных поисков помещения для нового музея, в 1798 году коллекции Консерватории выделяется помещение церкви Сен-Мартен-де-Шан. Музей впервые открывает свои двери широкой публике лишь в 1802 году. С самого зарождения одним из его принципов стала интерактивность: сотрудники музея не только показывали, но и объясняли посетителям, как работают выставленные в музее механизмы. Одновременно открывается одноимённое учебное заведение, профессора которого читают лекции по разным областям техники и технологии, а слушатели имеют возможность практиковать полученные знания на выставленных в музее машинах.16
Кому-то может показаться скучным подробный экскурс в учебный план студента Швецова, но без таких подробностей невозможно понять, сколь энциклопедическим и уникальным было его образование и почему его «хозяин» так боялся «потерять» этого крепостного.
Фотию исполнился 21 год. В 1826 году профессор Пьер Бертье пишет о своем ученике Н.Н.Демидову: «M-e Schwetsoff уже сейчас способен руководить любым предприятием в горнозаводском хозяйстве Нижне-Тагильского округа».
Анри Вейер, который продолжал следить за демидовскими пансионерами во Франции, сообщал Николаю Никитичу, что Фотий «обладает ясными знаниями, особенно как химик, блестящим образом сдал свои экзамены», а также «удостоен дружбой со многими преподавателями Горной школы, и они подарили ему книгу со своими лекциями – по геологии, геогнозии, минералогии, химии…».
Я не знаю, где сейчас этот артефакт. Может быть, находится в РГАДА, а может быть, в чьей-то частной коллекции, а может, вообще потерян. Но и по нашим временам это вещь уникальная – для изучения истории техники и науки.
Н. Н. Демидов и сам понимает, что Фотий Швецов за несколько лет обучения в одном из самых передовых учебных заведений Европы сформировался в многопрофильного специалиста экстра-класса. Он видит это, читая отчеты молодого Швецова о посещении шахт, рудников, заводов в Европе и Англии.
Дело в том, что каникулярное время в Горной школе занимала практика. Маршруты и насыщенный график посещения Швецовым европейских заводов и мануфактур, отчеты о которых он представлял своему «работодателю», поражает! Например, за летние месяцы 1825—1826 гг. он посетил горно-металлургические предприятия Франции, Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Англии. И это не экскурсии – это серьезная работа. К примеру, во Фрайберге он делает чертежи по горному делу, а в Льеже – центре оружейной промышленности Европы – устраивается работать в цех, где изготавливаются паровые машины. На заводах и рудниках Крезо он увидел то, о чем уже не раз слышал от своих преподавателей: производство и успешное применение паровых машин для откачивания воды из рудников.
Один из отчетов Фотия Швецова – о путешествии по Германии в 1827 году (Fotey Shvetsov: Carnet voyage [Allemagne], 1827| Bibliotheque хранится в архиве Горной школы:
www.patrimoine.minesparis.psl.eu
В отчетах Демидову Фотий не только анализирует то, что увидел, но и сразу предлагает методики применения европейских технологий на Урале. Эти письма-отчеты, слава Богу, сохранились и находятся в РГАДА, в фонде Демидовых.
Маленькая деталь: они все написаны на французском языке, которым Фотий владел в совершенстве. Еще в первые годы учебы Демидов, заметив выдающиеся способности выпускника Выйской школы, настоял на том, чтобы тот писал ему лично и только на французском. Добавим сюда еще знание немецкого и английского – чтобы общаться с европейскими коллегами на их родных языках.
По отчётам Швецова об увиденном на посещаемых предприятиях явно прослеживается его устойчивый интерес к использованию паровых машин. Он знал, что будущее – за паровыми двигателями, а еще знал, что на его родном Урале таких машин нет. Так что не удивительно, что именно в Льеже он устроился на работу в цех по производству паровых машин. В этом ему помог Адольф Лесуан, друг по Горной школе, служивший на заводе после её окончания.
В Бельгии тогда быстро шел процесс создания крупных предприятий, оснащенных паровыми двигателями. На текстильных фабриках в среднем было занято 30—45 человек, на металлургических заводах – 80, в угольных шахтах – 150.
Джон Коккериль (сын Вильям Коккериля, основателя металлургического завода в Льеже) приобрел бывший замок князей-епископов Льежа и организовал в нем в 1824 году крупнейшее промышленное предприятие страны и всей континентальной Европы с численностью в 2000 рабочих: производство металла, паровых двигателей и ткацких станков на основе переработки местных железорудных и угольных ресурсов.17
Информация о дружбе Фотия с Адольфом Лесуаном, который впоследствии стал профессором Льежского университета, обнаружилась лишь в XXI веке самым неожиданным образом. Дело в том, что в 2012 году в Женеве проходил очередной аукцион «Hotel des vantes», и на нём был выставлен издававшийся в Петербурге альманах «Северные цветы» за 1827 год из коллекции известного танцовщика и балетмейстера Сержа Лифаря.18 И вот тогда на обложке книги увидели два автографа: «Александру Ивановичу Тургеневу Дельвиг». «A mon ami Adolphe Lesoinne donne par Schvetsoff au ValBenoit le 22 octobre 1827».
Путь, проделанный «Северными цветами» от одного владельца к другому, скорее всего, таков. Как мы помним, в 1827 году Швецов посещал рудники и производства Великобритании и Уэльса, тогда же, по просьбе Александра Тургенева, он навестил опального Николая Тургенева и передал ему альманах с автографом лицейского друга Пушкина Антона Дельвига. Читаем письмо Александра Николаю: 23 июня 1827 года, Париж: «…Он едет послезавтра, и я дал ему книжку («Северные цветы») и несколько слов к тебе. Он растрогал меня объяснением своего положения…». А вот письмо от 25—26 августа 1827 года А.И.Тургенева брату из Дрездена: «Пришли, пожалоста, все стихи Швецова. Они меня тронули. Я как будто предчувствовал, прощаясь с ним в Париже, что он будет тебе хоть на минуту приятен. Наружность его и потом слова его мне очень понравились…» (Подробности знакомства Фотия с братьями Тургеневыми я изложу чуть позже).
Вывод напрашивается сам собой: Николай Тургенев, узнав, что Швецов пишет стихи, и неплохие, подарил ему альманах «Северные цветы» с автографом Дельвига.
С помощью этой находки мы узнаём, что Фотий любил поэзию и сам писал стихи, и, судя по отзывам Александра Тургенева, знатока и ценителя поэзии, друга А.С.Пушкина, стихи Швецова были качественные. Это единственный факт, свидетельствующий о лирических настроениях Фотия. Но, думаю, молодой уралец решил остаться любителем и ценителем поэзии и не посвящать своё время стихотворным рифмам. В жизни, как показали дальнейшие события, ему было не до них.
Но вернемся от лирики к прозе. Чем ближе становилась дата получения диплома, тем активнее велась переписка Н.Н.Демидова с приказчиками во Франции и на Урале. Смысл её сводился к тому, чтобы Швецов даже не помыслил «о бегстве», как это в свое время сделал его друг Иван Шамарин.
Н.Н.Демидов распорядился переписку Фотия с семьей пересылать ему. Кроме того, Илью Григорьевича – отца Фотия Швецова вынудили написать письмо сыну с просьбой о скорейшем возвращении.
Далее хозяин пишет в Нижний Тагил приказчику Тимофею Макарову, чтобы тот «не только контролировал переписку лекарей Синицына и Шамарина со Швецовым, но и следил за образом мыслей Синицына и читал все его письма». Кроме того, Демидов рекомендовал приказчику хорошо обращаться с «вернувшимся из-за рубежа врачом Шамариным. «Старайтесь елико возможно… Будьте его покровителем… Главное не в нём, но чтобы Швецова не потерять… Очень вас прошу о Швецове сей артикул имейте в виду в твердой памяти»…
Демидов опасался, что от своих тагильских друзей Швецов может узнать о жестоких подробностях жизни крепостных специалистов. «Несчастная молодежь в большинстве случаев кончала жизнь печально – сходила с ума, спивалась и даже решалась на самоубийство», – писал позднее в очерке «Кустарная промышленность в связи с Уральским горнозаводским делом» В.Д.Белов, сам выросший в династии демидовских приказчиков.
…Тем временем в Париже Фотия Швецова везде именуют учеником Бертье. Молодой минеролог посещал салон ещё одного известного французского ученого – Кювье, где собирались не только представители разных отраслей науки, но и писатели, художники, композиторы… Нужно обязательно отметить, что Фотий не только прекрасно образован, но и воспитан. На это обращали внимание многие, общавшиеся с ним в разные периоды его жизни – как соотечественники, так и иностранцы. Скорее всего, он обязан этим своему профессору.
Никто из окружающих не подозревал, что «де юре» социальный статус успешного студента с прекрасными манерами – крепостной.
Но трое русских – В.А.Жуковский19, и братья Тургеневы20, с которыми Швецов познакомился в салоне Кювье21, знали об этом статусе. Александр Тургенев называл вещи своими именами: «Фотий Щвецов – раб, ищущий свободы». Жуковский, по свидетельству А. Тургенва, «проливал слезы о судьбе Фотия», оба Тургеневы – Александр в Париже и Николай – в Лондоне, стыдились этого факта перед иностранцами, говорили, что «надобно о нём упомянуть в книге», которую пишет Николай Тургенев. Собирались это обсудить с тем или иным российским чиновником за карточной игрой на каком-нибудь парижском приёме, но так ничего и не предприняли… «Не знаю, удастся ли помочь ему со временем: эгоизм и предрассудки могут помешать», – писал Александр своему брату».