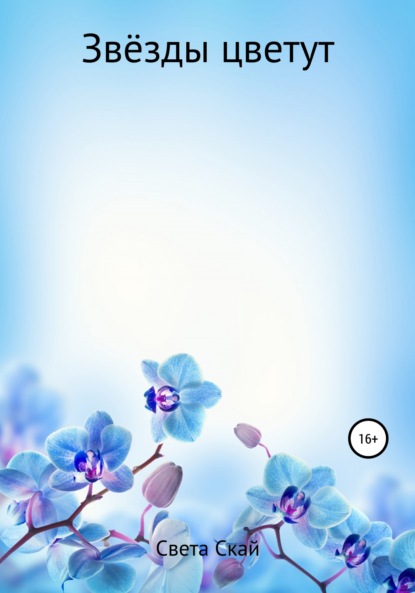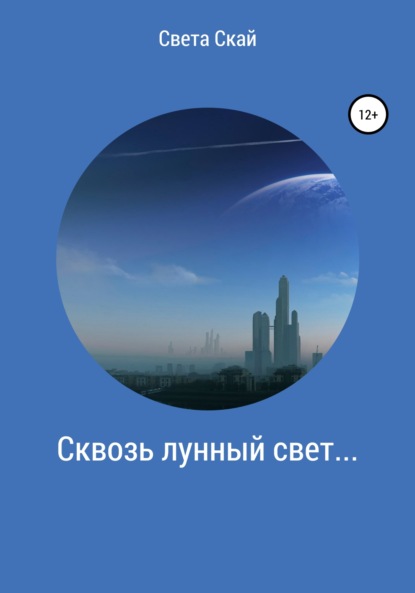- -
- 100%
- +

Валерий Искра
Всё, что навеки – мимолётно…
Валерий Искра родился и живёт в Волгограде.
Автор стихов философского жанра с применением ассоциативной поэзии. С помощью этого выразительного поэтического средства, читателям приоткрывается дверь в тайную комнату.
Номинант премии «Поэт года» (2021 г.). Лауреат литературной премии «Наследие» (2003 г.). Член Российского союза писателей с 2021 года. Член Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) с 2021 года.
Источники вдохновения: жизнь, свобода, справедливость.
Личные увлечения: историческая литература раннего периода России, СССР, ВОВ. Рыбалка, вело и водный туризм.
Может быть всё наладится…
Мой вечер – из листьев вороха,
из шелеста, скрипа, шороха.
Из праха того, что дорого,
того, что легко отнять.
Мой мир не спасти молитвами,
мощами к кресту прибитыми.
Упавшим на поле битвы – им,
мне нечего больше дать.
Цветы на могилку – надо ли?
Мы жили как листья – падали.
В окрестностях рая, ада ли,
свинцом разбавляли спесь.
Весну продавали в розницу –
она и сегодня по сердцу.
За то, несомненно, спросится.
Потом. Не сейчас, не здесь.
Весна – это время нежное,
с проснувшимися надеждами.
С проталиной под одеждою,
в том месте, где отлегло.
Надежды бывают разные,
но чаще всего – напрасные.
Мы их, как победы, празднуем,
себе и другим назло.
Дни вверх по небесной лестнице.
Луна скоро станет месяцем.
Мир в точку на карте вместится,
а точка – уже итог.
В конце объективной данности,
нет места для благодарности.
Забвенье – удел бездарности,
последний, как есть, урок.
Награды за всё получены.
Все волны бегут к излучине.
Кто против теченья – мученик,
а значит, его простят.
Всё вдоль-поперёк исхожено.
Те, кто не дошёл – стреножены.
Душа? Так она заложена…
Но, впрочем, никто не свят.
Весна в поднебесном платьице,
неспешно под горку катится.
А может быть, всё наладится?
Пророчества часто лгут.
Есть повод ещё надеяться,
что жизнь, словно сердце девицы –
изменится, переменится,
и ангелы нас найдут.
Как всегда, неясно – в чём подвох?..
Здесь даль сравнима с плоскостью стекла.
Вид из окна не для духовной пищи:
до блеска гол, до пустоты зачищен.
Лишь неба ржавый барк, цепляясь днищем,
скоблит степные кости добела.
Теперь уже и шорох – звук пустой
(когда неслышен ни Бальмонт, ни Бродский).
Из ниоткуда степь, с любовью плотской,
придавят плотно участью сиротской,
к земле всё той же и уже не той.
Потом омоют так, как моют пол,
втирая «Proper» в мраморную плитку.
Разъяв на «до» и «после» – так, навскидку,
в порыве чувств, от тех же чувств избытка,
загонят в рёбра пограничный кол.
Играя в жизнь, которая «Потом».
Играя в тьму, где надо притерпеться.
Где надо верить, что у тьмы есть сердце,
есть имя и талмуд для иноверцев,
что это «После» где-то за углом.
Там, где зарёй бинтуют облака,
в привычных для больницы алых красках.
Там шрамов нет, полученных напрасно,
и на билеты в эту: «Жизнь прекрасна!» –
цена на первый взгляд невысока.
Почти за так, почти за просто так:
нужна лишь роспись – кровью на бумаге.
Принять на веру – это жест отваги.
Но в заповедном том архипелаге,
всему, что в кровь, не запасти бумаг…
Горбы равняют слаженностью спин.
Саркому исцеляют изотопом.
Всё вместе правят скальпелем потопа,
а душу лечат – в даль степные тропы
и птичьей стаи в небо вбитый клин.
В конце одной из четырёх эпох,
процесс распада, возведённый в степень,
рукой художника рисует степи.
Ещё не Босх, но и уже не Репин.
И как всегда, неясно – в чём подвох?
Минорный отголосок тишины…
Из тишины, из складок дня и ночи кружев,
портной-бродяга сшил вечернюю строку.
Решив, что как ни поверни – скрипач не нужен,
когда уместно незатейливое "Ку".
Уместно всё, что отцвело, отголосило,
о чём не надо вспоминать и сожалеть.
Чему, уже не опасаясь слова "Было",
на грани неба, тверди и покоя тлеть.
Качните створками окна, земные феи,
впустив минорный отголосок тишины
с настойкой звёзд на феромонах Водолея,
с изящно вырезанным ломтиком луны.
Пусть кто-то менее земной читает мантры,
покинув землю в вечных поисках огня.
Но нет созвездия со знаком саламандры,
чтоб вновь воскреснуть для тебя и для меня,
в том, что когда-то было так, а не иначе.
Где расставанья начинаются до встреч,
где можно целый небосвод купить на сдачу
и на него, как на распятие, прилечь.
Что ж – пусть портной иголкой звёзд латает шторы,
пытаясь лучше спрятать то, чего уж нет.
Скрипач не нужен в тёмной части коридора,
ведущей нас с тобой в ещё один рассвет.
Время для совсем другой истории…
Мы постигаем этот мир с похвальным рвением,
недоучивших свой урок учеников,
и притираемся к тому, что есть не трением,
а общим весом коммунальных потолков.
Изнанку жизни подшиваем безупречностью,
с сакральным промыслом, в заплатках перемен.
Ах, человек виновен только в человечности,
прощая небу смену образов и сцен.
Прощая прошлое, где было всё по-честному,
прощая будущему все его грехи,
тогда как осень, наклоняя ось небесную,
уже течёт по руслу каменной реки.
И это время для совсем другой истории,
где выбор тот же: принимать – не принимать.
Где надо снова, по доказанной теории,
в любом процессе силу трения искать.
Дубовый этнос отливает пули в жёлуди –
такую пулю не любой патронник съест.
А осень томно свой анфас чеканит в золоте,
откалибровывая вводный манифест:
о том, что главное приходит неожиданно,
и что порой запомнить проще, чем забыть.
Что всё бывает просто так всего лишь с виду, но
всегда случайно слишком, чтоб случайным быть.
Даже ангел впадает в немилость…
Дважды с чёртом не встретиться в сквере,
будь хоть сам из себя Берлиоз.
Коль поэт, то получишь по вере,
но пока не убьют в «Англетере»,
не воспримут всерьёз.
Есть слова тяжелее, чем пули,
каждый выстрел – как рукопись в печь.
Там, где крылья к земле прикоснулись,
Чёрной речки артерии вздулись,
чтобы кровью истечь.
Место в прошлом зависит от ноши.
Масло пролито – ход за тобой.
Не вдохнёшь, только выдохнуть сможешь.
Не узришь, но почувствуешь кожей,
и заслужишь покой…
После бала гроза разразилась,
отмеряя пятнадцать шагов.
«Смерть поэта» – опять повторилось…
Даже ангел впадает в немилость,
если дразнит богов.
Если дразнит бескрылое племя,
увлечённое связками бус,
и стреляется снова не с теми,
кто не смог по накатанной схеме,
если только не трус…
Догрызает остатки иллюзий,
обагрившейся пастью, восток.
Ждут слова сына плотника, в музе,
зарифмованной в Гордиев узел:
«Трусость – страшный порок».
Ждёт рассвета потухшее небо,
догорает последний фонарь.
Лучшей доли от жизни не требуй,
всё, что было, всю быль и всю небыль,
положив на алтарь.
Нет в осени места прихоти…
Синоптики лето сглазили,
ржавеет клинок фантазии.
Становится рифма белой,
скупой, как поверхность мела.
Скворцы захлебнулись криками,
как будто беду накликали.
Сантехник погиб в подвале,
но тёплую воду дали.
Зевс гром добывает трением,
йотуны ждут воскрешения.
Но боги снегов и стужи,
пока воскрешают лужи.
А в лужах плывут конвертики,
читайте и верьте, верьте им.
На все наши "что" – ответы,
уходят в другое лето.
Теряет термометр градусы.
Оставшимся птицам радуйся –
всегда согревают крошки,
протянутые в ладошке.
Нет в осени места прихоти,
всяк поезд хорош на выходе.
Но выйдет лишь тот, кто верит,
что сам открывает двери.
А здесь останется лишь небо…
Садись в плацкарт, идущий в город лёгких нравов,
у милой девушки дорожный взяв билет.
Сойди на станции последней переправы,
и попытайся удержать в руках рассвет.
Пусть смотрят звёзды, как земля без акушера,
светясь в подлунном неглиже, рожает день.
Как кто-то очень эксцентричный из партера,
бросает ей в окно цветущую сирень.
Как во всё горло голосит ночная птица,
не вняв событию и разуму не вняв.
Наверно, так поёт душа, когда не спится,
духовной пищи чарку с вечера приняв.
Сойди на станции последней магистрали,
пусть поезд в даль увозит спящих проводниц.
Прощай, плацкартный хоспис из стекла и стали,
в твоей груди не бьётся сердце певчих птиц.
А здесь останется лишь небо, только небо.
И ты под ним, и строчки Блока наизусть
повиснут в "красной тишине" звездой плацебо,
одновременно и на радость, и на грусть.
Пусть где-то лучше и осмысленнее где-то,
а здесь лишь небо да забытые стихи,
в любое время года с запахом рассвета,
на расстоянии протянутой руки.
Белое небо, как белый бриз…
Крылья дождя увязли в радуге,
вытеснив хлопоты и слова.
Тридцать пять рек впадают в Ладогу,
а вытекает одна Нева.
Город в залив сползает с пристани,
стаей прирученных кораблей.
Может, один из них и выстрелит –
станет не лучше, но веселей.
Волны эпох схлестнулись намертво
и налетели на парапет.
Что там сегодня движет нами-то?
Тут или выстрелит, или нет.
Ах, Александр, ну что мы делаем?
Ангел над нами, а с нами крест.
Ночь на Дворцовой, словно белая,
рифма срывается в анапест.
Дождь на зонтах играет Штрауса.
Соло как соль на губах. Гобой,
каплями с кровли, вьёт из хаоса
вечную музыку над Невой.
Хаос запрячь – зовите гения,
(дворник и тот гениально пьян).
Но чтоб запрячь столпотворение,
нужен как минимум Монферран.
Память ваяют, словно памятник,
мрамор исполнен касанья рук.
Волны качают Невский маятник,
и мы выходим на новый круг.
Мимо широких окон аттико,
в личном раю молчаливых вдов.
Вдоль по Сенатской с Медным всадником,
с верой в двуглавую суть орлов.
Мимо фонтанов, мимо прачечных,
в белое небо, как в белый бриз.
Там, где ещё не всё растрачено.
Там, где ещё мы не родились.
Там, где всё видится издали…
Стать бы когда-нибудь берегом
Белой реки или Терека,
так, чтобы в быстром течении
видеть всех тайн отражение.
Знать про все беды заранее,
ждать поезда с опозданием,
верить, что всё ещё сбудется –
всё, что заблагорассудится.
Быть словно птица без адреса,
плыть вокруг жизни по абрису.
Жить, отдавая долги врагам,
там, где встречаются берега,
там, где нет счёта дням,
там, где не мстят друзьям.
Плещется алое зарево,
не наглядеться в глаза его.
Словно вернуться в семнадцать лет,
там, где меня и в помине нет…
Алое – это к большим ветрам,
всякое может случиться там.
Там, где платком машут с пристани,
там, где всё видится издали.
В доме, давно не ухоженном,
где рады даже прохожему.
Печь да скамья – вот и весь итог.
Впрочем, какой ещё нужен прок,
там, где который год,
кто-то кого-то ждёт.
Всё, что навеки – мимолётно…
Умчалось лето в непогоду,
искать весну.
А в небе тонут пароходы,
идут ко дну.
Укатан ливнем у причала
июльский тракт.
Восьмая нота прозвучала
уже не в такт.
На отмель скошенного поля
сел ранний Лист.
Играй шестнадцатую долю,
Contrabandist.
Уже и в солнечной лампаде
нехватка Ватт.
Рассветы мчат по автостраде,
спеша в закат.
Спешат, смывая горизонты,
как гарь с лица
солдата, что вернулся с фронта
не до конца.
Иссяк источник вдохновенья
(коньяк не в счёт).
Река меняет направленье,
пока течёт.
К истоку сброшены монеты,
прощай-прости.
Все воды рек впадают в Лету –
конец пути.
Но там, в конце, опять дорога,
опять весна.
И мимо этой шутки Бога
бежит волна.
И лето снова гладит берег,
всегда чужой,
где каждый верит в то, что верит,
а нужен свой:
с краюшкой к сумке перемётной,
с тропой к ногам.
Всё, что навеки – мимолётно,
как берега.
Закрыта лавочка Сезама…
Не верь всему, что говорят:
слова сегодня мало стоят.
Словами прикрывают зад,
когда обкрадывают гоев.
Когда кадилами дымят
в богоугодном лицедействе,
не верь, когда людей клеймят
за правду, а не за лакейство.
Не бойся явного врага:
враг не предаст – он не был другом.
Но берегись того, кто лгал,
лишь потому что был напуган.
Судьба – ещё не приговор.
Кто невиновны? Кто повинны?
Не бойся выстрела в упор:
больней, когда стреляют в спину.
У Бога счастья не проси —
он умер, вылепив Адама.
Вот груз, и вот порог – неси.
Закрыта лавочка Сезама.
Открыт приют шутов и слуг,
приют для радости и грусти.
Мечтай, надейся, жди – а вдруг?
Но не проси – само отпустит.
Если ты не можешь сказать толпе нет – ты и есть толпа…
Сражаешься за свой насест,
едва вспорхнув от скорлупы?
У птиц в неволе вечный крест –
не выделяться из толпы.
Её ты можешь не любить
и ненавидеть даже, но
при том толпой сам должен быть –
уж так, увы, заведено.
Она, как невидимка-плащ:
накинь и подбирай свой корм.
Похвалят – смейся, лупят – плачь.
Бунтуй, но с соблюденьем норм.
Не спорь. Иди, пошлют когда,
изобразив ушами финт.
Сон, секс и вроде как еда –
ну, в общем, базовый инстинкт.
Толпа простит и защитит,
но если очень повезёт.
Непредсказуем этот щит:
скорей на нём, чем с ним и под.
Есть выбор? Да – одно из двух.
Но лишь один императив:
как говорил один петух –
не выделяйся – будешь жив.
Впереди такая малость…
Лето хнычет в колыбели
из июньского листа.
В небе звёзды отсырели –
там весну ещё не съели
с Вознесения Христа.
Разомлела рать земная,
та, что квакает к дождю.
У затопленного Рая,
беззаботно поедая
комариное фондю.
Земноводные, однако…
Впрочем, в жизни всё внахлёст.
Коль о разуме – не квакай,
и читая Пастернака,
не забудь отбросить хвост.
Не забудь раздать игрушки.
Дождь – не бешенство, пройдёт.
Суть в привычке, молвит Пушкин…
Разори гнездо кукушки –
и останется полёт.
Раз уж это неизбежно…
Пусть завидуют враги:
между прахом и надеждой,
встреч и судеб где-то между,
есть закрытые долги.
Впереди такая малость:
«Будет лучше, чем вчера».
Что же, бог мой, там досталось?
Глубока, какая жалость,
эта кроличья нора.
Завтра лечится испугом.
Данность лечат забытьём.
Только данность скачет цугом,
завтра ж тащится под плугом –
как впрягли, так и живём…
Лето вымокло с изнанки,
там, где к телу приросло
недоношенным останком.
Знаешь: летом чинят санки,
чтоб зимой их разнесло.
Нет природы без изъяна,
как без пальцев нет руки.
Слёзы с неба, как ни странно,
значат то, что эти раны
телу слишком велики.
Здесь нужны иного рода
раны: это же любовь –
если дни, недели, годы,
без различия погоды
происходит явь и новь.
Дождь становится корнями,
распахнув земную твердь.
Твердь однажды станет нами,
снова выпадет дождями –
но не долгой будет смерть.
Смерти скоро быть рекою –
нам обещана река.
Ты бежишь по полю боя
и становишься собою,
превращаясь в облака.
Из неба, солнца и сосновых лап…
Там сосны спят, виском на облаках,
земля в деревья превращает прах.
Там мелодрам нет и в помине.
Предательства и полуправды нет –
лишь рвётся в небо ультрафиолет,
да звёзды ярче, чем в пустыне.
И пусть рука художника устав,
рисует мир на краешке холста,
забыв, что нет к нему дороги.
Но только силы не было сильней,
чем той незавершённости вещей,
которая дана немногим.
Из неба, солнца и сосновых лап,
сложился неизведанный этап,
портал в иные отраженья.
В которых нет своих и нет чужих –
есть лишь один на всех последний штрих,
и каждому своё сраженье.
И каждому свой тяжкий груз и путь,
с которого в пол срока не свернуть,
по силам или непосильный.
А то, что наблюдаем из окна –
всего лишь суть прозрачности стекла,
лишь околоток пересыльный.
Лишь отраженье собственных тревог,
где нет ни направлений, ни дорог,
и будущее – знак вопроса.
Где можно эго протереть до дыр,
любить и ненавидеть этот мир,
и стать известным, как Дель Гроссо.
Вопреки холодам…
Сквозь чугунный забор,
сквозь пустырь, перекошенный стужей,
в переулки, примерзшие к лужам,
гонит ветер осадком досужим,
накопившийся сор.
Скрип ночных фонарей,
потускневших на полках рассвета,
шелест слов, не нашедших ответа,
на страницах прошедшего лета,
и молчанье дверей.
В подворотне скулит
пёс, собачьим нутром ночь проплакав,
уяснив, что он просто собака
на цепи. Видно, прав был Булгаков:
всяко сердце болит.
Сердце просит чудес,
там, где лес был помечен и спилен,
там, где разум был нем и бессилен,
где ему не хватало извилин,
где никто не воскрес.
Где под тяжестью драм,
под прижавшимся к тверди морозом,
ждут свободы весенние грозы,
ждёт трава вопреки всем прогнозам,
вопреки холодам.
Ждут рожденья мечты,
потеряв ощущенье ничтожеств.
Средь величия и средь убожеств,
сам процесс ожиданья умножив,
на число доброты.
И неважно, что лёд,
в тупиках из формованной глины,
в утомлённом гудке лимузина,
одиноком, как крик муэдзина.
Город спит, город ждёт…
Ждёт, что карма наедет на эго,
и под слоем мороза и снега,
в альфу переродится омега,
и никто не умрёт.
Она сама была огнем…
Я видел, как горящий лес
ночь кровью окропил.
Как ангел, падая с небес,
о милости просил.
О лучшей участи в ночи,
но крылья за спиной,
горели пламенем свечи,
молясь за упокой.
Я слышал, как горела плоть,
вдыхал её мольбы.
Не в силах небо расколоть,
о зеркало судьбы.
И из осколков мир сложить,
где нет кривых зеркал.
Чтоб ангел не уставший жить,
к нам снова прилетал.
Я помню сказки о любви,
и в прозе, и в стихах.
Где мир горел, горел в крови,
обугливаясь в прах.
Где искры рвали удила,
небесных колесниц.
Но там любовь была, была
сильней всех небылиц.
Она парила светлым днём,
расправив два крыла.
Она сама была огнем,
но нас не обожгла.
И ангел крылья ей отдал,
о том не пожалев.
Он просто быть им перестал,
однажды не сгорев.
Он лишь кружится, просто кружится…
Ты уже не влезаешь в прошлое:
возраст – это неокончательно,
возраст – это сугубо пошлое,
то, что вовсе не обязательно.
Время – мышь в колесе на ярмарке,
как червяк в молодильном яблоке.
Колесо никуда не катится,
суть его – карусель, не менее.
Но девчушку в нарядном платьице,
не пугает её вращение.
В детстве все мы неуязвимые
и не верим в непоправимое.
Детям проще: в них нет отчаянья,
нет глаголов, ведущих к пропасти.
Выпадает снег не для таянья.
Дай нам, Господи, без подробностей,
быть как раньше – простыми птицами
и кормить свой страх небылицами.
Дай нам, Бог, воскресить гармонию:
свет, застрявший в кристаллах инея,
звук, накрывшей весь мир симфонии,
возносящейся в бело-синее.
А сегодняшнее – простим ему,
пусть одето в дождь – не по-зимнему.
Пусть окажутся страхи мнимыми,
снегопадом растаяв в лужицы.
Возраст пусть не считают зимами –
он лишь кружится, просто кружится,
каруселью Моэма в праздности,
пряча суетность в несуразности.
Мир – осколок льда…
Есть часть земли с названьем полюса.
Безмолвия отмерянные шапки.
Они, как сотни тысяч лет назад,
всё так же спят в своей постели шаткой.
Их (кто-то, раскрутив земную ось)
качает, как Папанина на льдине.
Под ними твердь промёрзшая насквозь,
над ними бездна в звёздном палантине.
Они не знают, как цветут сады,
в ином наряде воинство земное,
где лишь кристально чистые цветы,
приносят состояние покоя.
Неведомо им, как течёт вода,
весенними ручьями между кочек.
Весь мир для них – большой осколок льда,
как лунный камень в ожерелье ночи.
Но им не надо каяться в грехах,
не надо выяснять, кто будет первой
строкой незавершённого стиха,
распятою на алтаре Минервы.
Так просто в одиночестве найти,
над всей картиной мира превосходство –
два полюса, как будто два пути,
к вполне закономерному сиротству.
Тому, кто жил у бездны на краю,
не надо объяснять, что так бывает.
Что всё же лучше в собственном раю,
коль этот рай тебя не убивает.
Этот поезд дальше не идёт…
Открой глаза, смотри: как время с куполов срывает медь,
ломает алтари. Врут – временем нельзя переболеть.
Ты знаешь, Рай окрещенный найти несложно. Можно не дойти.
Жизнь – что-то вроде трещины, где вот ещё чуть-чуть – и не спасти.
День вылетел в трубу, хрипя вороньей стаей в облака.
Мы верили в судьбу и правду, что на кончике штыка.
Мы зарывались в чёрствый грунт от визга пуль, от скрежета в зубах,
сжимая вечность до секунд, до темноты, нацелившейся в пах.
Мир втиснулся в войну, лёг комьями земли у наших ног.
Крик выпал в тишину, исполнившись во всех – тех, кто не смог.
Всех, кто исчез в той стороне, спеша начаться где-то не в раю –
в той недоделанной стране, где вечный снег и птицы не поют.
И это как стена, высокая, а истина за ней.
Нас выпили до дна, не чокаясь. Кто выжил – стал сильней.
Нас научили умирать банально, по количеству свинца.
Мы научились выживать, не веря больше в искренность творца.
Мы вышли из слепцов, из жертв любви с моралью палача.
С либидо диких псов, на всё, что против, сослепу рыча.
С приватным комплексом вины. Вина, известно, повод для расправ.
Мы все пришли с чужой войны, устав бороться, прятаться устав…
…Зажав билет в руке на поезд, направляющийся в рай.
А где-то вдалеке берёзки шепчут: «Музыка, играй».
Там феи спят в бутонах роз, и хор им песню тихую поёт,