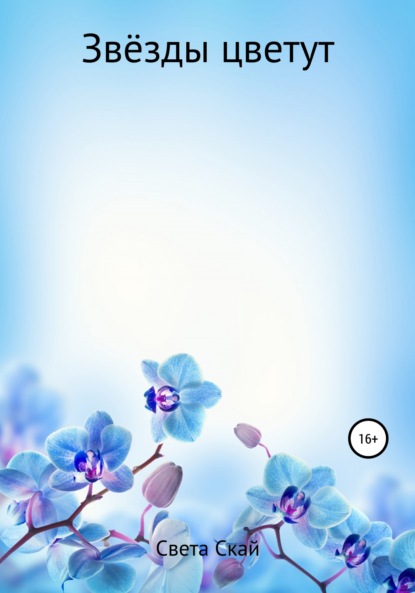- -
- 100%
- +
про край земли с названьем Оз. Но этот поезд дальше не идёт.
Судьбу нельзя просить – она сыграет худшую из тем.
Нельзя пророком быть, осилив лишь дорогу в Вифлеем.
Не станешь ближе к небесам, однажды с Богом преломивши хлеб.
Не каждый вымышленный храм способен дверь открыть в Святой Вертеп.
Не всяк живущий – жив. Не каждый, крест принявший – виноват.
Джекпот не стоит лжи, и выглядит святой дорога в ад.
Кто мы в пустом сосуде тел? В безумстве, так похожем на людей?
Как в нас Всевышний проглядел способность убивать своих детей?
Открой глаза – взгляни, как время скорби рушит купола.
По ком горят огни? По ком надсадно бьют в колокола?
О вящем долге не кричи, раз сам не волен в эту землю лечь.
Мы все заблудшие в ночи, а смерть не стоит всех зажжённых свеч.
Стихия пишет новые сюжеты…
Из наготы осеннего распада,
приходит вечер на пустой бульвар.
Неперелётные, ручные чада,
с брусчатки подбирают божий дар.
В скользящей по поребрикам премьере,
нет слов, есть только звуки естества.
Либретто в изложении Сальери –
сначала музыка, потом слова.
Шедевр, запатентованный природой,
согласно жанру всесезонных драм,
в котором осень свой прогноз погоды,
вставляет в пустоту оконных рам.
Закрыв страницу прожитого лета,
неправедностью чистого листка,
стихия впишет новые сюжеты,
в безвременный провал черновика.
В немилость отсыревших подворотен,
в насквозь промокший неуют дворов,
туда, где голос времени бесплотен,
где нет ещё ни музыки, ни слов.
Где надо жить в осиротевшем доме,
раскладывая вещи по местам,
все крошки хлеба, ожиданья кроме,
на тротуар бросая голубям.
Что там, под ризами…
Собирались адепты, спорили,
в крик срываясь до исступления:
«Испытание горем – горе ли,
с дидактической точки зрения?»
Приходили адепты, каялись,
рвали ткань на груди истлевшую:
«Мы, мол, тоже с лихвой намаялись,
если солью по-наболевшему.»
Одевали вериги новые,
забивали гвозди в запястия
и носили венки терновые –
а хотели просто участия.
Превращали воду в игристое,
обвиняли мир в бесноватости
и сжигали племя нечистое –
а хотели просто жить в радости.
Умоляли воздать просящему,
запирая его в паноптикум,
наблюдая происходящее,
через линзы казённой оптики.
Птице неба вполне достаточно,
человеку же надо многого.
Пусть не в главном, а лишь придаточном –
песни Лазаря петь убогому.
Ни сумы, ни одежд, ни посоха –
заплутав в пяти доказательствах,
можно и по воде, как посуху,
если требуют обстоятельства.
И неважно, что там, под ризами,
если верить в то, что предсказано,
если верить в то, что предписано
и во всё, чем, собственно, связаны.
Уходили адепты, таяли,
перешёптываясь с туманами.
А за ними благими стаями,
шли бок о бок грехи с обманами.
Только quasi una fantasia…
Настоящая ночь постигается тишиной,
взаперти, в одиночке тёмного омута.
В захолустье пространства, отмеренного стеной,
с лунным блеском на матовой коже комнаты.
Настоящая ночь начинается с до-диез.
Еле слышно вступая в минорной терции,
посвящением юной, не принявшей дар небес,
забавляясь игрою ума ли, сердца ли.
Обмануться легко, если пишешь не тот роман,
невозможное снова приняв за должное.
Даже ангел-хранитель твой – в сущности, Ариман.
C’est la vie – и Джульетты бывают ложными.
Аллегретто – непросто быть выше последних сил,
словно воду из камня, по капле в вечное.
Падший ангел – его ты, увы, не забыл – простил.
Вот уж истинно: нам ли быть безупречными?
Ажитато – ах, если бы просто немой укор,
из взорвавшихся нот сотворил беззвучие!
Но когда смолкнут трубы, вступает церковный хор.
C’est la vie – диалектика злополучия.
Так рождается звук, тонкий, режущий звук вины,
из натянутых струн на предел сознания.
Приходящий извне, из нетронутой тишины,
превращая обыденность в завещание.
Но прощается всё – всяк суди по делам своим.
В этом, видимо, и состоит спасение.
Впрочем, даже простое становится непростым,
если есть что спасать, по определению.
Настоящая ночь исполняется в пустоте –
безусловной, гуманной, как эвтаназия.
Там, где краски и звуки, и даже мысли не те,
там, где есть только quasi una fantasia.
Ночь идущему смотрит в спину …
Солнце мягким броском в корзину,
завершает свой баскетбол.
Ночь идущему смотрит в спину,
мяч засчитан, и день прошёл.
Отлистала года кукушка –
сколько в сумме ещё страниц?
Ветер с поля снимает стружку,
как с настеленных половиц.
Впереди поворот дороги.
Перекрёсток? Нет – перегиб.
Коротается в монологе
путь, как сущего прототип.
А на самом краю багряно,
выцветает полоска дня.
Небо дышит отваром пряным,
проецируясь на меня.
Позади тополя, церквушки.
Прокажённые просят: «Дай!».
И непуганые старушки,
лобызают ворота в рай.
Степь, залатанная полями,
а над ней – колокольный звон,
а на ней – бугорки с крестами…
Так и хочется выйти вон.
Так и тянет пойти, не глядя,
но и там всё кресты, кресты –
золочёные, да в ограде,
как Демидовские мосты.
Как засеянное покоем,
поле боя не той войны.
После боя – само собою,
очень хочется тишины,
где дыханием безголосым,
гладит рыжую пыль заря.
Коли не было – нет и спроса,
коли было – видать, не зря.
В ковылях утонуло небо,
словно рухнул последний мост,
между тем, где я был и не был,
по пути на земной погост.
Отзвучали дневные птицы,
и с приходом ночной поры,
ничего не должно случиться,
вплоть до следующей игры
Когда нет места в гавани…
Все корабли уходят в расстояния,
за край в прибрежной полосе.
Не обещая ничего заранее,
все корабли уходят в ожидание,
но возвращаются не все.
Над ними небо парусами пенится,
и есть лишь только эта даль,
в которой завтра, на небесной мельнице,
всё перемелется, переоценится,
что было жаль и что не жаль.
Все корабли уходят в обстоятельства,
когда не в силах не уйти.
Не обвиняя никого в предательстве,
туда, где эхо бьёт в борта раскатисто,
и можно многое спасти.
Приходит миг, когда нет места в гавани,
нет сил надеяться и ждать.
Тогда все корабли уходят в плаванье,
в тумане белом, словно в белом саване,
и кто их сможет удержать?
Но нет земли такой, ни даже острова,
где можно всё начать с нуля.
Как дети, где-то под слоями взрослого –
не догонять, не ждать и не навёрстывать,
сойдя на берег с корабля.
Параллельные не пересекаются…
Опять завис термограф в поисках весны,
прервав задуманное метеопрограммой.
Ещё на минус и на плюс разделены,
две параллельные одной оконной рамы.
Ещё на разности сторон разобщено,
то, что в своём предназначении едино.
Но если смотришь в этот мир через окно,
то видишь лишь его другую половину.
Где на отвесной перспективе бытия,
природа пишет незаконченные пьесы,
(впадая в крайность и не зная, где края),
с пренебрежением уставшей поэтессы.
И сколько времени ещё должно пройти,
чтобы наладилось, сошлось, соединилось?
Как жаль, что данностью нельзя перерасти
в необходимость, как в оказанную милость.
Увы, нельзя перешагнуть через разрыв,
так, чтобы встретиться и больше не прощаться,
две разных плоскости в одно соединив.
А впрочем, дальше где-то там всё может статься.
Но данность стонет под евклидовой пятой,
когда в закрытое окно глядишь как в воду,
где отражение рождает непокой
и невозможно предсказание погоды.
Любую близость постигают в тишине.
В любом разрыве непременно ставят прочерк.
Зима живёт прикосновением к весне,
но в параллельных не бывает общих точек.
Куда важней, что просто был…
Ты поднимался выше, чем Кашмирский перевал,
и падал глубже, чем иная пропасть.
Ты высекал на глянце ледников названья скал,
где незаметно умирала робость.
Где не считают мелких ран, не признают ничью,
где каждый день, как миг последний, прожит.
И даже смерть, как преферанс у бездны на краю,
с рубцами на заиндевевшей коже.
Хвала бродягам, не остановившимся в пути –
тем, кто маршрут не выбирал по ГОСТу.
К чужим вершинам легче, разумеется, идти,
но есть свои – где всё совсем непросто.
Респект любому, кто не оставался в стороне,
когда подарки сыпались с подвохом.
Как камнепад, тебя прижавший к той глухой стене,
которая чуть лучшее, чем плохо.
Не каждый раз, когда на крыше мира – победил.
Ведь наверху всё может быть иначе.
Да и куда важней, что просто шёл и просто был
там, где победы ничего не значат.
Свои остаются…
Чужие приходят ночью.
Свои уходят навечно,
с туманом в белые клочья,
с патетикой многоточий,
с эрозией мышц сердечных.
Чужие хотят проститься.
Свои желают вернуться.
Как перелётные птицы,
знают, где надо гнездиться –
но всё же не остаются.
Все птицы – большие дети,
а детям намного проще:
не делят на тех и этих,
не ставят силки и сети.
Всем место есть в тихой роще.
Все дети, как будто листья –
им нужен лишь свет и время.
На дереве без корысти,
на ветках без казуистик,
в закрытой экосистеме.
А в листьях зимует лето,
под белоснежным пледом,
опавшим теплом согрето.
И в круговороте этом,
порядок иной неведом.
Задумка творца бездонна,
но в частности поправима
и к преображеньям склонна,
когда, как бином Ньютона,
чужие проходят мимо.
Проходят, как наважденье,
стираясь в анфас и профиль.
Свои остаются тенью,
воссоединив прощенье
с камином и чашкой кофе.
Время сожжённых книг…
Жизнь размерена до секунд
и обстреляна изотопами.
Мы вгрызаемся в мёрзлый грунт,
окружая себя окопами.
Приспосабливаясь к среде,
где не выжить без адаптации.
Мы повсюду и мы нигде –
ищем в Боге свою локацию.
Профиль выскоблен до кости –
нас везде узнают по профилю.
Мы не верим в конец пути
и тибетскую теософию.
Все адепты живут в раю,
но тот рай, как могила братская –
только сунься, и отпоют.
Так что – мимо, мадам Блаватская.
Вечность втиснута в «от» и «до» –
тешит наше самосознание
и приниженное «гадо»,
так нуждается в сострадании.
Где же, право, тот белый кит,
что один на один с изгоями?
Кто сейчас по нему скорбит,
если все ушли с китобоями?
Мир прицелился в парадиз
и загнулся в рог изобилия,
перепутав, где верх, где низ,
возбуждая себя насилием.
Предавая своих детей,
забывая своих родителей.
«Правда в силе» и иже с ней.
Не судимы будь, «Победители».
Снова время сожжённых книг.
Снова в моде проверка прочности,
и на очереди блицкриг,
с размышленьем о непорочности.
Снова слёзы, как воду льют,
то из глаз, то в глаза бездонные.
Где ж ты, время народных смут?..
Не судимы будь, «Побеждённые».
Представление все-таки состоится…
Время с трудом влезает в свой пуховик,
сшитый из молока с белоснежной пенкой.
Крутится вечной музыки маховик,
в ритме неоклассического фламенко.
Новая повесть века стучится в дверь,
хочет войти и втиснуться в ход событий.
Но, как всегда, не вовремя. Не теперь.
Повремени – и дай нам сначала выйти.
Что-то начаться хочет. Вопрос лишь: что?
Тычется носом в руку, бездомной кошкой.
Мы надеваем твидовое пальто.
Где же тут выход? Тот, что не понарошку.
Свет фонарей, проткнувший ночное дно.
Где-то в остывшем воздухе – запах счастья.
Кто-то наполнил чаши сухим вином,
это не всё – лишь малая часть, отчасти.
Впрочем, зима – это свершившийся факт.
Или примите, или ступайте с миром.
Даже в суровых буднях нужен антракт,
праздничный бал под звук серебряной лиры.
Может быть, нас услышат на этот раз,
и представленью всё-таки состояться?
Аплодисменты, занавес. Вот сейчас…
Всё будет так и не так, ровно в двенадцать.
Нельзя будить веками спящего…
Полупрозрачные, неверные цвета –
как признак скорбного известия.
За ними в спину – неземная пустота,
а где-то там, в конце – возмездие.
Прямолинейный, как команда крик извне,
несёт почти благословение –
тому, что было рождено на самом дне,
в забытый всеми день рождения.
Тот изначально подменённый компромат,
в котором вымокли окрестности.
И крикнуть хочется: «Кто в этом виноват?!».
Никто. Особенности местности…
Где вы, привратники, просящие на чай?
Протрите окна – ведь загажены!
Протрите очи: кто сказал, что личный рай –
чужая жизнь в замочной скважине?
Где вы, творцы – галантерейщики чудес?
Жизнь – сплошь минутные желания…
Продайте оптом всем скорбящим, на развес,
хотя бы факт существования.
Пусть даже просто ощущенье, что не зря.
Пусть даже меньше, чем по-скромному.
В серьёзных книгах всё иначе говорят,
да только что с того бездомному?
В холодной дворницкой бездомнее собак –
лишь дворник в неизменном ватнике.
Ищи, бродяга, неразменный свой пятак,
пока толпа зовёт урядника.
Пока простывшая не растворилась ночь,
в рассоле слёз происходящего.
Тому, кто корчится на дне, нельзя помочь.
Нельзя будить веками спящего…
У предначертанного острые края,
острей лишь нечто непорочное.
А пустота внутри у каждого своя,
как грыжа междупозвоночная.
В чём смысл? Оставь, и никогда его не трожь –
нет смысла в кораблекрушении.
Но, коль ещё в холодной дворницкой живёшь –
ты проиграл своё сражение.
Статист несостоявшегося рая…
Ничто не остаётся на потом –
стирает время зарисовки мелом.
И вот уже неважно, что болело,
когда-то в сердце более земном.
Но в этом послевкусии тревог,
безжизненно – нет противостоянья.
Нет больше слуха, зренья, обаянья.
Зачем? Ты, право, сделал всё, что мог.
И далее, неведомо на кой,
сжигаешь недописанные письма.
А там, уже в порыве оптимизма,
пытаешься писать другой рукой.
Но где-то, за кулисами – «Пора!»,
последний акт никак не доиграет,
статист несостоявшегося рая,
тот самый, кем ты был ещё вчера.
Когда всё можно было напрямик,
не сомневаясь и без сожаленья,
как будто в неминуемом паденьи,
есть что-то непохожее на крик.
И уезжая в праведную ложь,
так хочется остаться на перроне.
Но с фабулы в прокуренном вагоне,
увы – ни до, ни после не сойдёшь.
На этот рейс уже не опоздать,
как в осень не опаздывает лето.
А дальше будет точно по билету,
которого ни выкинуть, ни сдать.
И остаётся только боль в висках,
которую латаешь аспирином,
застряв на этом перегоне длинном,
опять в начале чистого листка.
Даже когда не дано…
Так бывает: деревья становятся ниже,
с каждой новой ступенью наверх небо ближе.
Но в той близости краски утратят свой подлинный цвет.
Есть в теории чисел такая особенность лет.
Видно, нет лишних мест в этом квантовом поле.
Это просто механика жизни – не боле.
Прорастает травою зола там, где выгорел лес –
только этой траве никогда не достать до небес.
Сердце требует лишнего. Глупо. И всё же –
что-то глухо стучит, где-то близко под кожей.
Жизнь всегда безучастна, но всех справедливее зол –
прорастает травою земля там, где кто-то ушёл.
Время – тихой мелодией в тонкую пряжу.
Для чего? Пустота… Тот, кто знает – не скажет,
на какой высоте оборвётся изящный сонет
в час, когда эту землю покинет последний поэт.
Жизнь – простой механизм с интеллектом ребёнка –
разбросает и вновь соберёт шестерёнки.
Без причины, без следствия, вдруг, ни с того ни с сего,
будто между причиной и следствием нет ничего.
Словно можно исправить сквозь ствол пистолета,
ни на что непохожую сущность поэта,
для которой признанья под солнцем, увы, не нашлось –
где не взгляд устремляется вверх, а Декартова ось.
Беспощадное, мелкое мстит. Будь что будет…
Небо держат уставшие винтики – люди.
Не внимая, что где-то их ждёт неевклидова твердь,
за которою – тысячи жизней и лишь одна смерть.
Там, за этим достаточно близким пределом,
всё, что в принципе может болеть – отболело.
Всё, чему быть убитым – утратило этот аспект.
Зеленеет трава не за тем, чтобы спрятать дефект.
Там слова на заре превращаются в песни –
чтобы жить, а не ждать, когда кто-то воскреснет.
Сердце требует лишнего, даже когда не дано,
потому, как бесчисленно всё, и лишь сердце одно.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.