Дар отчаяния, или Экзистенциальная терапия на практике
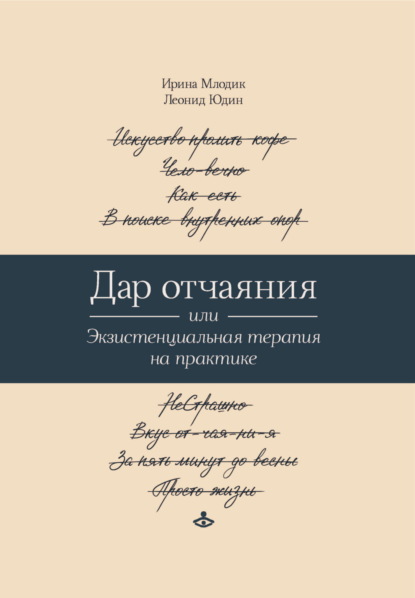
- -
- 100%
- +
Ирина Млодик. Лично я на первой встрече (если она не консультационная, а терапевтическая), никаких предложений клиенту не делаю. На консультации могу сказать: «Возможно, ваша проблема в том-то и том-то, как-то она связана еще с тем-то и тем-то, но вообще стоит разбираться, с чем еще она связана. Неудивительно, что вы переживаете то или это, ведь в прошлом у вас был вот такой опыт». Самое важное, чтобы у клиента пробудился интерес к тому, как он устроен, к тому, как функционирует его психика, как он выстраивает свою жизнь. Заразить его этим интересом мы можем и должны только через проявленный интерес и уважение к его внутреннему устройству и бытию.
Помочь клиенту ощутить себя понятым и принятым в своей жизненной ситуации – необходимый минимум для первой встречи. В этом нам очень помогает терапевтическая позиция (обязательно поговорим о ней в следующей главе). Мы проявляем интерес, включенность, направленное внимание и терапевтическое мышление – то есть начинаем особым образом думать о клиенте, оставаясь при этом с ним в живом контакте. В ответ на искреннее и профессиональное внимание другого человека психика разворачивается, и именно это желание развернуться нам и нужно обеспечить.
Тем не менее бывают ситуации, когда, как бы мы ни старались, клиент все равно уйдет недовольным и не придет на следующие встречи. Тому может быть несколько причин.
– Терапевт неопытен и не умеет выстраивать клиент-терапевтические отношения. В таких случаях очень помогает супервизия: обсуждая свою профессиональную жизнь с более опытными коллегами, вы быстрее поймете, из чего строится терапевтическая позиция и как формируются терапевтические навыки, ну и, кроме того, переживать покидание и отвержение значительно легче и полезнее вместе с кем-то, чем одному.
– Клиент не готов узнавать себя, выдерживать близость и соблюдать контрактные отношения. Тоже понятно. Не все любят заниматься самонаблюдением и рефлексией, а если к тому же есть сложный прежний опыт близких отношений, так и вообще доверять свое психическое никому не захочешь. И у многих людей есть большие сложности с обязательствами, границами и необходимостью их выдерживать.
– Клиент хочет на психотерапию, но не к вам., или вы готовы работать с другими, но не с ним. У вас не получился клиент-терапевтический альянс, не сложилась пара. Такое тоже случается, и нередко, потому что в терапии, как в хорошем браке, непросто найти друг друга и еще более непросто остаться вместе надолго.
Леонид Юдин. В качестве упражнения предлагаю вам поразмыслить над вопросами.
Посмотрите из кресла клиента – что должно случиться на первой встрече, чтобы вы остались в терапии с этим психологом? Что должен делать терапевт, чтобы вы почувствовали, что он понимает вас? И наоборот, что должно произойти, чтобы вы точно ушли и отказались от этого специалиста? Подумайте из кресла терапевта, что отличает ваш стиль проведения первой встречи от других и как, на ваш взгляд, это влияет на ход терапии?
Все вышеперечисленное говорит о том, что первые встречи нам нужны прежде всего для того, чтобы решить, готовы ли вы и ваш клиент двигаться дальше по волнам своего внутрипсихического моря. К слову сказать, море будет до какой-то степени общим, но об этом тоже чуть позже. А пока поговорим о животрепещущем для клиента вопросе.
Что будет происходить в эти годы, или Как объяснить клиенту, в чем будет заключаться процесс
Слово «годы» звучит пугающе, не правда ли? Большинство людей не намереваются ходить на терапию годами. Если кончается все, даже ремонт, то у такого во всех смыслах затратного процесса, как терапия, конец тоже, конечно, должен быть. Аналогия с ремонтом пришла в голову неслучайно: как и ремонт, терапию можно скорее остановить, нежели окончательно закончить, потому что возможности познания нашей психики бесконечны и, если потребность и интерес к процессу сохраняются, можно этим заниматься всю жизнь. Но чаще всего у условного клиента есть потребность всего лишь как-то унять свою боль, разрешить какой-то конфликт или кризис и жить дальше, не особенно увлекаясь самопознанием. Тем не менее самопознание многих затягивает, и тогда люди остаются в терапии на годы.
Итак, что же будет происходить? Для начала картинка для терапевта: вы будете много слушать, много запоминать, много «переваривать», то есть психически перерабатывать, много чувствовать (а если к вам пришел «пограничный» клиент, то будете ощущать много не своего), связывать, думать особым образом. Но главное не то, что вы будете делать, а то, как вы будете выдерживать ваше совместное бытие, оставаясь в роли терапевта.
Стремление «что-то делать» в терапии нашего подхода, кстати, самое большое искушение и самая большая ошибка. Потому что «сделать» – это значит зачастую привести клиента туда, куда он еще не готов прийти, или туда, куда нужно вам, а не ему и уж тем более не его психике. Тем не менее «делать» – это очень привлекательно, потому что помогает нам справляться сразу с несколькими вещами.
– С терапевтической тревогой. А вдруг не получится, а вдруг клиент разочаруется, будет недоволен, я окажусь плохим терапевтом в его и своих глазах?.. А так что-то сделали – и как будто полегче.
– С нашей профессиональной неуверенностью. Если мы что-то сделали, то ура – мы что-то можем, мы на что-то способны.
– С непредсказуемостью процесса. Непредсказуемость иногда выдерживать непросто, потому что если быть честными и здраво смотреть на вещи, то тезис «чужая душа – потемки» верен не только для владельца души, но и для терапевта. Однако как только мы решаем, что нам «все понятно», то как будто бы начинаем знать, как нашему клиенту жить, и это позволяет нам прекрасно выдерживать неопределенность. Очень успокоительно.
– С нашей нарциссическойуязвимостью. Мы весьма редко переживаем что-то похожее на профессиональный триумф, часто наша работа «и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна», то есть прорывы и чудесные исцеления происходят не так часто, как бы нам того хотелось. Всемогущество, конечно, искусительно, но в нашем подходе в нем не принято «заходиться». Это означает, что мы делаем свою работу не для того, чтобы выигрышно выглядеть в собственных глазах и глазах окружающих (чего очень хочется, конечно), а для других целей. Для ублажения же своего эго имеет смысл посещать другие места, не стоит заниматься этим на работе.
– С желанием клиента оставаться в детской позиции и переложить всю работу на терапевта. Клиенты часто готовы благодарить и даже боготворить нас за то, что мы что-то сделали для них, лишь бы не разбираться со своей психикой самостоятельно и не встречаться с муками собственного роста.
Вам хочется что-то сделать для клиента, и у него самого есть желание что-то сделать со своей жизнью. Вроде бы все отлично, ваши желания совпадают! Однако сложность в том, что у психики свои законы и ваши схожие вроде бы желания будут встречаться с сопротивлением: психика клиента не может меняться так быстро, как нам этого хочется. Слышали, что некоторые клиенты говорят: «Сколько-сколько к вам тут все ходят? По семь-восемь лет? Да ладно, я пройду эту терапию за три года!» Ну-ну. Ничего, придет время, и станет понятно, что терапия – это не программа «Юные старты», соревновательность и скорость здесь ничего не решают.
Хочется, чтобы вы нас правильно поняли: мы как терапевты, конечно, не против активности наших клиентов. Вообще-то мы очень на нее надеемся, но просто, прежде чем что-то сделать, важно узнать того, кто будет это делать, и понять, для чего он будет этим заниматься. А вот для этого узнавания точно потребуется время.
В нашей культуре мы часто измеряем успех, счастье, удовлетворение количеством сделанного. И в школе нас учили: быстрее, выше, сильнее! При этом можно сделать очень много и все равно остаться несчастным и неудовлетворенным, потому что важно, кто сделал. А чтобы сделать что-то из точки своего подлинного «я», требуется дойти до него, и путешествие это долгое.
Не соблазняться быстрым результатом – та еще задачка, и не только для начинающего терапевта. Чем больше опыта, тем чаще может появляться опасно-иллюзорное представление о том, что в психике еще малознакомого клиента все изведано и понятно, поэтому даже опытные и звездные терапевты в какой-то момент бывают охвачены иллюзией, что эту задачку они решат «с трех нот».
Итак, будучи терапевтами, мы знаем, что нам предстоит долгое путешествие к подлинному «я» клиента. Тогда возникает вопрос: как объяснить ему это, как рассказать о том, что будет происходить на наших встречах?
В начале терапии мы только начинаем разворачивать ковер клиентской психики и рассматривать, из чего он соткан. И если в каких-то подходах считается, что клиент должен приходить на терапию с запросом, то у нас такой строгой задачи нет. Мы говорим, что клиент «приносит нам свой материал», то есть все, что у него есть на момент нашей встречи: мычание, молчание, возмущение, нежелание, описание прошедшей недели, жалобы, запросы, чувства, воспоминания, рассуждения, состояния, планы, сомнения. То есть, как вы поняли, все что угодно. Мы называем это выраженной в психическом материале бытийностью (экзистенцией). И в таком расширении для нас есть особый смысл. Так мы приглашаем психику разворачиваться в нашем кабинете, как бы говоря: «К чему вы готовы, то и показывайте, проявляйте, проживайте». Чем меньше мы пытаемся ограничить клиента своими условиями (хотя в любой терапии условия, описанные в контракте, все равно есть), тем большей клиентской подлинности нам явится. А она и для нас, и для клиента является большой ценностью.
Ирина Млодик. Своим клиентам я говорю: «Ваша задача – обеспечивать регулярность наших встреч, соблюдать условия контракта, “приносить” себя в том, в чем вы есть». Это, между прочим, происходит не так вот легко и сразу, поскольку, прежде чем начнет происходить разворачивание психики, клиент еще не раз осознанно и неосознанно проверит нас на способность принимать красоты и ужасы его психического содержимого.
Поэтому для клиента картина такая: он приходит, приносит себя, мы смотрим на то, как он живет, что он испытывает, как переживает, как это связано с его прошлым, настоящим и будущим. Так постепенно высвечиваются старые, детские модели. Какие-то из них продолжают действовать и помогают жить, какие-то давно мешают, и от них можно начать постепенно отказываться. «При чем же здесь тогда экзистенциализм и его данности?» – можете спросить вы. А при том, что нам только кажется, что мы совершаем свободный выбор. На самом деле мы в значительной мере обусловлены предыдущим опытом, мы не можем существовать в отрыве от него. Поскольку в какой-то момент мы оказываемся просто вброшены в этот мир без возможности принять решение – рождаться или нет, мы вынуждены приспосабливаться к тем условиям, в которых рождены и растем. Приспособление во многом формирует нас, создавая представление о себе и мире, определяя наши переживания и поведение.
Леонид Юдин. Самый распространенный тезис экзистенциализма звучит так: «Существование предшествует сущности». Это значит, что мир существовал до нас, причем не только внешний, но и внутренний, психический. Он существовал до того, как мы обратили на него внимание. Так вот возможность что-то менять в уже существующем, заданном мире (внешнем и внутреннем) и есть наш ответственный выбор в конкретных обстоятельствах и с ограниченными ресурсами. На совершение этого осознанного выбора, на присвоение авторства своей жизни и направлена экзистенциальная психотерапия.
Детские модели поведения, как это ни странно, для психики выгодны, поскольку за время жизни они уже нами изучены и проверены, – ведь если мы когда-то поступали таким образом и это работало, то почему, собственно, нужно от этого отказываться?
Свободный выбор – это выбор между желаниями и стремлениями подлинного «я» и привычными с детства моделями. И важно, чтобы выбор совершался в зависимости от осознаваемого внутреннего и внешнего контекста. Важно сказать, что модели нашего детского приспособления не хороши и не плохи, они просто есть. Важно лишь, помогают они нам жить и реализовывать наши жизненные задачи или мешают.
Детские модели обычно устроены таким образом, чтобы избегать встречи с экзистенциальными данностями: передоверять кому-то задачи выбора, ориентироваться на чужие ценности, убегать от одиночества в зависимость, не заниматься поисками смысла, сражаться с внешней властью или слепо подчиняться ей, не реализуя власть собственную, игнорировать конечность жизни. Пока мы психически не повзрослели, нам не потянуть полноценную встречу с этими данностями. Но можно ведь и вообще не встречаться с ними? Так уж ли всем нужно взрослеть, чтобы тянуть вот это все, ведь в детских иллюзиях пребывать значительно приятнее? Конечно, все так и есть. Но тогда вы не проживаете другие свои возрастные периоды, навсегда остаетесь ребенком во взрослом, а потом и пожилом теле. Да к тому же, оставаясь психически незрелым, достаточно сложно жить взрослую жизнь с ее вызовами и задачами. Так и до симптомов недалеко, ведь по мере даже не психического, а просто физиологического взросления данности все более явно начинают напоминать о себе.
Поэтому, говоря с клиентом о том, что будет происходить в терапии, мы можем честно сказать, что это будет время, посвященное его переживанию и нашему совместному исследованию того, как он устроен, и в процессе этого исследования он сможет себя узнавать, а значит – принимать более точные и осознанные решения и в конечном итоге все больше жить так, как хочет этого его подлинное «я». Ведь для того, чтобы управлять своей жизнью, неплохо бы хорошо знать того, кто собирается ею управлять.
При этом, что бы мы ни сказали клиенту о том, как будет проходить терапия, это все равно будет отличаться от его ожиданий и представлений, о чем, возможно, нам не раз впоследствии придется говорить. Это как рассказывать человеку, который ни разу не был на море, что будет представлять из себя путешествие на корабле, – человек узнает об этом сам, но лишь тогда, когда он это путешествие совершит.
Леонид Юдин. Тут вы можете вспомнить упражнение из прошлой главы про ваши представления о психотерапии и ее развитии. Мне кажется, оно вполне уместно и тут. Нового придумывать не буду.
Некоторые клиенты готовы довериться и нам, и процессу терапии, и они не очень интересуются тем, через какие этапы мы будем проходить. Но некоторым все же хочется знать и понимать, чтобы как-то контролировать происходящее, а в первую очередь – контролировать нас (узнаете детские модели?). Да и нам самим не мешало бы попробовать задуматься и описать эти этапы. Хотя, конечно, их выделение весьма условно, но мы все равно попробуем. Итак…
Этапы терапии, или Наш примерный маршрут
Сразу скажем, что этапы работы в данном случае не являются жесткой последовательностью действий. Обычно, когда мы описываем поэтапное развитие какого-то процесса, подразумевается, что очередной этап начинается там, где заканчивается предыдущий. Но в терапии эти границы смазаны, процессы накладываются друг на друга, к ним можно возвращаться или забегать вперед. Этапы работы экзистенциального терапевта скорее отражают смысловые пласты, которые надо пройти в работе с каждым конкретным клиентом. Их последовательность важна (например, сразу же, не познакомившись и не приглядевшись друг к другу, начинать анализировать детский материал бессмысленно и даже опасно), но это не означает, что ее нельзя нарушить в тех случаях, когда терапевт считает это необходимым.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

