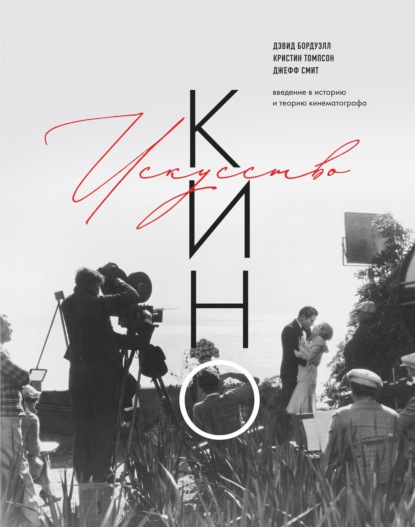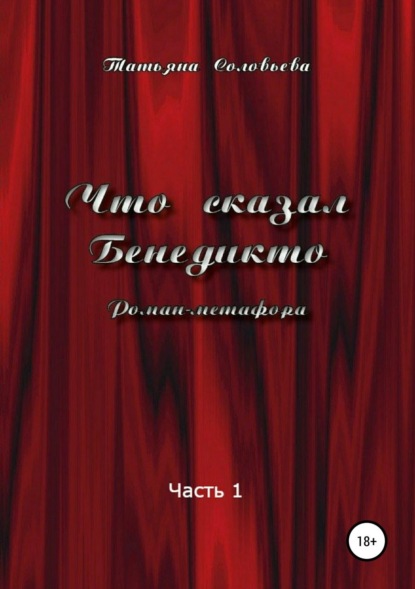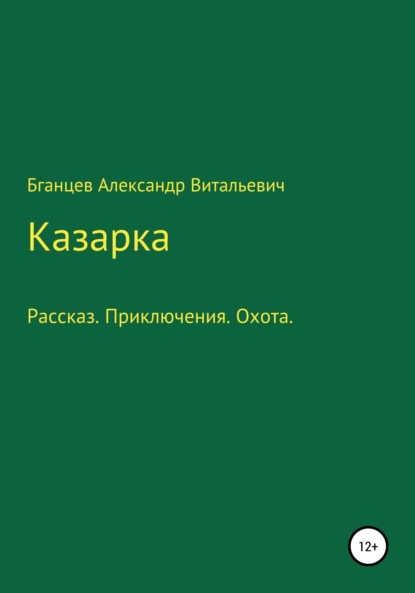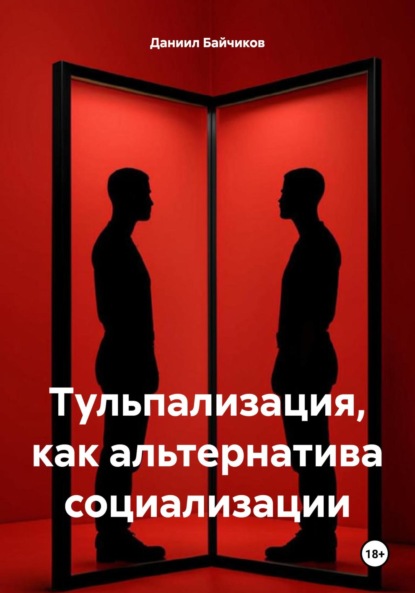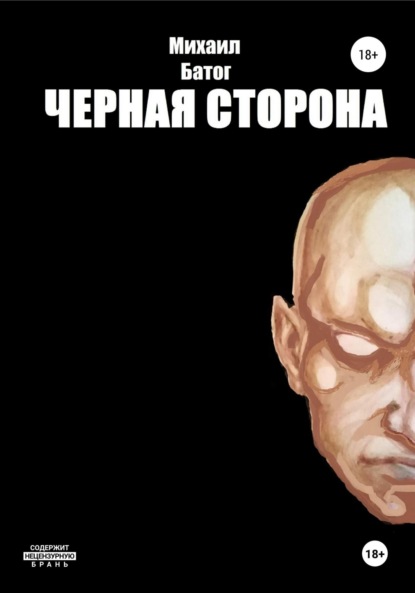Драматургия: искусство истории. Универсальные принципы повествования для кино и театра
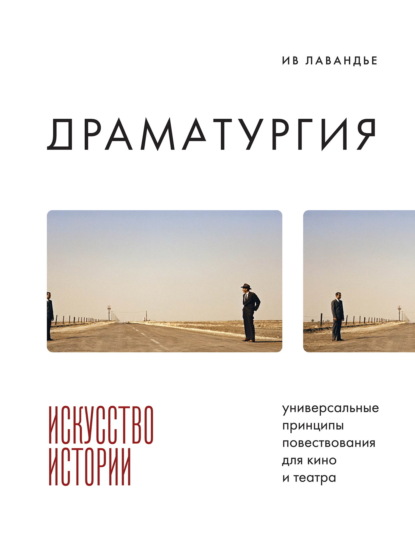
- -
- 100%
- +

Серия «35 мм. История и теория кино»
Перевод с французского Д. А. Шалаевой

© Шалаева Д., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Вниманию нарушителей
Дорогой читатель, если у вас в руках официальная версия этой книги, то данное сообщение вас не касается. Я приглашаю вас перейти к основной части книги. Если же нет, позвольте мне сказать несколько слов.
Я родился в 1959 году и большую часть своей жизни прожил без интернета. Я был молод и порой испытывал нужду в те времена, когда нельзя было с легкостью украсть чужую работу, а фотокопии стоили дорого. Но я не чувствовал, что лишен свободы. Если я не мог позволить себе купить пластинку, кассету с фильмом или книгу, то одалживал их у друзей или брал в библиотеке, но никогда не считал, что мне ограничен доступ к культуре.
Вы можете возразить, что времена изменились. Вы правы. Сейчас гораздо больше библиотек и медиатек, чем в прежние времена, и они гораздо богаче. Если там нет того, что вы ищете, то можно попросить их достать это для вас. Но, вероятно, вы подумали о переменах иного рода, а именно, что теперь любые авторские произведения доступны в интернете. Однако прогресс не обязательно означает развитие. Рост технологий не гарантирует больше мудрости или уважения. Наличие новых возможностей не дает больше свободы. Я понимаю, что заманчиво пользоваться интернетом бесплатно, подобно голодному льву, пирующему антилопой, не спрашивая ее мнения. Инструмент есть, он позволяет – как мы полагаем – сэкономить деньги и создает впечатление, что вас никто не видит. Зачем заботиться о морали, если удастся сохранить анонимность? Если бы вы были единственным из тысяч, ворующих файлы, ваш поступок не имел бы никаких последствий – хотя по-прежнему оставался бы бесчестным и предосудительным. К сожалению, тысячи из вас придерживаются той же идеи, той же беспринципности и того же варварства. Копируя книги или воруя файлы из интернета, вы больше не являетесь конкретным человеком, с его богатством и человечностью, а становитесь маленькой частью жестокого суперорганизма, который медленно убивает художественное творчество, и потому ему нет оправдания.
Моя книга – результат многолетней работы, размышлений и, осмелюсь сказать, мастерства. Она продается по разумной цене, доступной малообеспеченным читателям. Я более двадцати лет боролся за то, чтобы эта возможность не иссякла, поскольку считаю, что моя работа заслуживает признания и оценки. Думаю, я заслуживаю того, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь своим трудом. Но вы должны понять одну важную вещь: главная проблема не в финансах. Главный ущерб – человеческий. Когда я нахожу на стриминговом канале в интернете мой фильм «Да, но…» или вижу на чужой прикроватной тумбочке ксерокопию одной из своих книг, я чувствую, что меня использовали. Если вы когда-нибудь подвергались какому-либо виду насилия, то знаете, как это больно. В данном случае это обескураживает и лишает желания писать новые произведения. Короче говоря, я предлагаю вам вернуть свою человечность, уважать художников, перестать удаленно оскорблять других, распространяя нелегальные файлы, и купить официальную версию книги «Драматургия». Вы вырастете в собственных глазах, а я, в свою очередь, продолжу получать удовольствие, помогая другим и уважая моих читателей. Всех моих читателей.
Ив Лавандье
Предисловие
Преподавать драму – значит учить понимать человека, познавать смысл жизни.
Сёхэй Имамура[1] [92][2]Марк писал быстро, соблюдая сроки… Все это было прекрасно при одном условии: оставить амбиции в стороне. <..> Другие производили сковородки, тракторы или доски для виндсерфинга, телевидение производило образы, истории в образах, и у него было свое место в этом процессе, хорошее место, которое он всегда сохранял при одном условии: не торопить события… не делать из себя художника.
От-Пьер, 1985Несколько определяющих встреч
Эта книга – плод целого ряда самых разных, значительно отличающихся друг от друга встреч, без совокупности которых она никогда бы не увидела свет. Все началось с Франтишека Даниэля, моего преподавателя сценарного мастерства в 1983–1985 годах. В то время он вместе с Милошем Форманом был содиректором киношколы при Колумбийском университете в Нью-Йорке, где я учился на магистра в области написания сценариев и режиссуры. Франтишек считался в США и некоторых европейских странах одним из крупнейших специалистов по преподаванию сценарного мастерства. Отметим, что он был чехом по происхождению и до эмиграции в США преподавал в Пражской киношколе (FAMU).
В 1983 году Франтишек Даниэль горячо рекомендовал нам книгу Эдварда Мэбли «Построение драматического произведения»[3] [118], опубликованную в начале 1970-х годов. В то время тираж был распродан, и найти книгу оказалось нелегко. Сегодня благодаря интернету все стало немного проще, но на французский язык она так и не переведена. В 1983 году в библиотеке Колумбийского университета нашелся один экземпляр, благодаря чему я смог открыть ее для себя. Это замечательное исследование[4].
Помимо прочего, Эдвард Мэбли, в свою очередь, рекомендует несколько книг, в том числе блестящее эссе Уолтера Керра «Трагедия и комедия» [102], которое, к сожалению, никогда не было опубликовано во Франции. Керр также является автором книги «Безмолвные клоуны» [101], посвященной комедиям немого кино, которая примечательна во многих отношениях. Чтобы закончить с книгами, которые помогли мне разобраться в драматургии, я должен упомянуть две работы, пользующиеся заслуженной славой: публикацию интервью «Хичкок/Трюффо» [82] и «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок»[5] [20]. Франтишек Даниэль, Эдвард Мэбли, Уолтер Керр, Альфред Хичкок и Бруно Беттельхейм сформировали основу моих представлений о драматургии[6].
Впоследствии два основных вида деятельности позволили мне максимально уточнить и развить эти идеи. Во-первых, профессия сценариста, что вполне логично. А затем – работа педагога, поскольку с 1987 года я организовывал и проводил различные семинары по написанию сценариев. В итоге это вылилось в две специализации: сценариста и преподавателя драматургии. Свой вклад в рождение этой книги также внесли два человека, первыми доверившие мне место педагога (Франсуаза Вийом из Национального центра сценарного искусства в Вильнёв-лез-Авиньоне и Жаклин Пьеррё из RTBF[7] в Брюсселе), и студенты, прошедшие мои семинары.
Наконец, я немало обязан моей жене Катрин и детям – Баптисте, Орельену, Валентину и Клементине, которые многому научили меня в жизни и, следовательно, в драматургии. Ибо я, как и Имамура [92], верю, что познать одно – значит понять другое. Спасибо всем вам.
Искусство рассказывать истории
До пятого издания у книги был подзаголовок «Механизмы повествования». В конце концов я понял, что он отлично подходит для всех художников (кинематографистов, режиссеров, музыкантов, писателей, создателей комиксов), которые боятся или пренебрегают рассказыванием историй.
Заблуждение часто состоит в том, что умение рассказывать истории объявляется просто ремеслом. Фильм с добротным сценарием, соответственно, относится к области ноу-хау, в то время как фильм, передающий мысли автора, становится искусством в самом благородном смысле слова.
Хочется здесь указать на очевидное: рассказывание историй – одна из важнейших многовековых форм искусства, унаследованная от предков и необходимая для развития человека (см. стр. 17–23).
Рассказывание историй требует мастерства и творческого подхода. Оно позволяет людям испытывать эмоции, воспитывать красоту, расти и общаться. Более того, повествование – один из самых мощных инструментов сохранения и распространения культуры. По всем этим причинам я считаю, что страх перед рассказыванием историй никому не приносит пользы.
Переработанные варианты
Ранние версии книги «Драматургия» (до 2008 года) включали небольшой методологический раздел (главы 16, 17 и 22). Небольшой по количеству страниц, но, на мой взгляд, бесценный для каждого, кто хочет приступить к работе. Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы понять, что эта прикладная часть осталась почти незамеченной и мою книгу порой считают теоретическим трудом. Две другие главы показались мне в равной степени скучными: глава 15, озаглавленная «Анализ произведений», и глава 23, озаглавленная «Чтение пьесы или сценария». Пришло время серьезно отполировать эти важные аспекты моей работы, придав им большую четкость. Таким образом, в основном теоретическая работа по-прежнему называется «Драматургия». Именно эту книгу вы держите в руках. Методологический раздел был преобразован в книгу «Построение сюжета» [111], а 23-я глава превратилась в «Оценку сценария» [112], увеличившись с 40 до 220 страниц и с 6 до 90 страниц соответственно. Наконец, прежняя 15-я глава, в которой я подробно изучил [пьесу Ж.-Б. Мольера] «Школа жен» и [фильм А. Хичкока] «На север через северо-запад», будет дополнена анализом других произведений и также станет самостоятельной книгой («Образцы драматических сюжетов» [113]). Когда-нибудь…
Правила и унификация
Когда в апреле 1994 года книга «Драматургия» была опубликована, во Франции все еще обсуждался вопрос о существовании законов драматургии в контексте преподавания сценарного мастерства. Слово «законы» пугает. Роберт Макки предпочитает говорить о принципах, а кто-то обсуждает мотивы, признаки, конвенции, ожидания, инструменты, уловки, коды. Какая прелесть! Законы предназначены для того, чтобы их соблюдать, тогда как на принципах основана работа чего-либо. Законы сдерживают, принципы стимулируют. Лексикографические тонкости, вероятно, нужны для того, чтобы не разбудить бунтующего ребенка, который дремлет в каждом художнике. Я не боюсь слов «закон» или «правило» и считаю, что можно соблюдать правила, сохраняя при этом свою свободу.
Благодарный зритель
Меня часто спрашивают (с легким беспокойством), можно ли продолжать наслаждаться пьесой, фильмом или комиксом, быть невинным зрителем, когда ты знаешь искусство драматического повествования изнутри. Ответ – да. Без сомнения. Когда я обнаружил фильм «Эта замечательная жизнь» (версия Бениньи-Черами), то смеялся, плакал и, только насладившись им в полной мере, понял, что он дорогого стоит. Когда я в пятнадцатый раз смотрю финал фильма «Огни большого города», он по-прежнему меня трогает.
Сколько бы я ни говорил себе, что это лишь разрешение драматической иронии, я плачу. То же самое происходит, когда я перечитываю «Лучезарное небо». Тем более, конечно, это происходит, если я читаю что-то впервые. Восприятию драматического произведения мешает не знание правил, а обязанность комментировать его, потому что драматическое произведение должно восприниматься сердцем, на интуитивном уровне, а не только мозгом. Но ни автора, ни читателя этой книги данная проблема не касается. С другой стороны, вполне вероятно, что знание механизмов повествования сделает нас более требовательными, нас все сложнее будет удовлетворить. Когда произведение работает, вы принимаете его, как и все остальные. Если оно не работает, у вас есть время проанализировать причины этого и легче увидеть недостатки.
Независимые фильмы и непрофессиональные видео в сравнении с фильмами профессиональных студий
В сентябре 2011 года мне выпала честь возглавить жюри Cœur de vidéo [ «Сердце видео»], ежегодного кинофестиваля, организованного Французской федерацией кинематографии и видео. На нем было показано около ста независимых фильмов и видео, отобранных на уровне федеральных округов: художественные и документальные фильмы, музыкальные клипы. Мне выпала очень поучительная миссия – наблюдать за различиями между «самодельным» и профессиональным кинематографом, но также – и в первую очередь – обнаружить, что у них общего, потому что мне показалось, что у них имеется ряд схожих недостатков и достоинств. Например, с технической точки зрения зависть самодеятельного кино к профессиональному уже сошла на нет. Это, несомненно, связано с усовершенствованием и доступностью оборудования. Добавлю и другое, возможно, менее очевидное объяснение: техника – это самая простая вещь в мире, ее легче всего освоить. Она гораздо проще, чем, например, структура повествования или связность высказывания. В результате создатели фильма оттачивают кадрирование, освещение, звук, монтаж, микширование, цветокоррекцию – все, что видно глазу и слышно уху, и таким образом… упускают из виду главное.
Однако было два заметных различия между двумя названными видами кино. Во-первых, непрофессиональные короткометражные фильмы показались мне в целом менее претенциозными, чем работы их коллег-профессионалов. Мне показалось, что они скромнее и искреннее. С другой стороны, непрофессионалы гораздо менее строго относятся к монтажу. Подавляющее большинство этих фильмов, будь то художественные или документальные, только выиграли бы, если бы их значительно сократили.
Короче говоря, друзья непрофессиональные кинематографисты, у вас не должно возникать никаких комплексов от сравнения с профессиональным кино. Продолжайте быть искренними. Не зацикливайтесь на технической стороне, лучше сосредоточьтесь на смысле и человеческом факторе (см., например, стр. 628). И наймите режиссера монтажа.
Месье Юло[8] пишет сценарий телесериала
В первых двух изданиях книги «Драматургия» (1994 и 1997 годов) имелось приложение, посвященное написанию сценариев для телевидения. Я давал в нем не слишком много технических советов, потому что механизмы повествования телесериала в основном те же, что и в театре или кино. С другой стороны, я очень хвалил сериалы и предложил авторам «действовать как творцы», а тем, кто принимает решения, позволить авторам это делать. Короче говоря, я зря старался.
Так случилось, что ровно в то же время, в 1996 году, на телевидении появились два хита под названием «Друзья» и «Скорая помощь». Вскоре за ними последовал третий: «Элли Макбил». Они стали первыми серьезными пощечинами всем, кто имел отношение к французским телефильмам, включая телекомпании. С тех пор каждый год стало выходить по полдюжины сногсшибательных сериалов: «Во все тяжкие», «Отчаянные домохозяйки», «Декстер», «Доктор Хаус», CSI, «Худшая неделя моей жизни», «Симпсоны», «Клан Сопрано», «Прослушка», «24 часа», и список можно продолжать. Мы должны были посмотреть правде в глаза: французский художественный кинематограф выглядел старомодным, уютным и устаревшим. Чувство стыда пронизало весь французский аудиовизуальный ландшафт и знаменитую PAF [французскую телевизионную продюсерскую компанию].
Если бы американские сериалы ограничились тем, чтобы показать нам, насколько посредственно в художественном отношении французское кино, мы, вероятно, все еще не сдвинулись бы с места. Художественность волнует нас не слишком, это забота философов. Но когда удар приходится по кошельку, сознание просыпается как по волшебству. Однако, прочно заняв первую половину вечернего эфира, американские сериалы попали в точку и выиграли рейтинговую битву.
В фильме «Праздничный день» почтальон, этакий селянин господин Юло в исполнении Жака Тати, впечатлившись методами доставки корреспонденции в Соединенных Штатах, решает начать разносить письма во французской деревне американским способом. За этим следует череда забавных катастроф. Как и почтальон из фильма «Праздничный день», PAF решила, что настало время подражать американцам. Лица, принимающие решения, наконец-то начали понимать то, над чем многие из нас, французских сценаристов, бились последние двадцать лет. Во-первых, нужно вкладывать гораздо больше ресурсов в самую важную часть телевизионного повествования – в сценарий. Во-вторых, пора покончить со снобизмом в отношении единичных и 90-минутных фильмов; сериалы – идеальный формат для телевидения (сериалы с продолжительностью серий 26 или 52 минуты). Великий кинорежиссер Альфред Хичкок одним из первых понял это, когда в 1950-х годах снимал телесериалы. После него тому же принципу следовали столь разные режиссеры, как Дэвид Линч и Стивен Спилберг.
Затем появилось несколько типов подражания. Прежде всего, понятное и простое копирование, адаптация существующих сериалов и откровенное создание ремейков. Не миновали нас и беззастенчивые попытки вдохновиться и создать французскую «Анатомию страсти», французскую «Элли Макбил» и французского «Декстера». Результат предсказуем: получились псевдо-«Анатомия страсти», псевдо-«Элли Макбил» и псевдо-«Декстер».
Мы организовали писательские мастерские, чтобы сценаристы могли работать вместе. Национальный центр кинематографии и анимации (CNC) запустил инновационный фонд, изначально предназначавшийся для финансирования написания отдельных проектов, отобранных по принципу их оригинальности, а не в зависимости от способности авторов развивать их. Мы решили снять сериал с 30-летними героями, чтобы привлечь внимание тех, кто моложе 35 лет и не смотрит телевизор. Это лишний раз подтвердило, что мы ничего не понимали в принципах идентификации в контексте определения потенциальной аудитории. Должны ли вы быть безработным, чтобы в полной мере наслаждаться «Мужским стриптизом», или мертвым, чтобы получить удовольствие от фильма «Мертвые, как я: Жизнь после смерти»? Наконец, мы решили быть смелыми и даже дерзкими. В то время как настоящим прорывом, отвагой века было бы просто блестяще рассказать историю, независимо от ее темы, мы предложили женщину – президента Французской Республики, карлика и транссексуала в эпизоде ситкома, детективный сериал с матерной руганью и крупными планами окровавленных трупов, а также множество сексуальных сцен, чтобы придать всему этому пикантности.
Сейчас мы вступили в фазу сбора урожая, хотя, возможно, еще рано подводить итоги, но мне кажется, что те, кто принимает решения в PAF, не осуществили и трети реформ. Некоторые (более или менее) начали ставить в центр системы сценарий, но забыли о главном: в центр системы также должен быть поставлен и сценарист. И желательно хороший.
Марк Черри, Дэвид Чейз, Мэтт Грейнинг, Дэвид Саймон, Марк Басселл и Джастин Сбресни, Марта Кауффман и Дэвид Крейн не только пишут сценарии созданных ими сериалов, но и продюсируют их как шоураннеры. Они участвуют в кастинге, имеют доступ в монтажную, а зачастую даже режиссируют один-два эпизода. Короче говоря, они принимают решения в ходе работы над сериалом, в том числе наиболее ответственные решения. Это не вопрос эго, а вопрос логики. Дэвид Чейз, сценарист «Клана Сопрано», – идеальный пример такой системы. Чейз написал и срежиссировал пилотную серию и несколько эпизодов, отвечал за кастинг актеров, а также режиссеров. Он руководил монтажом всего сериала. Короче говоря, Дэвиду Чейзу позволили быть творцом. В итоге получился и коммерческий продукт, и произведение искусства, как развлекательное, так и личное, одно из самых сильных произведений в драматическом кино. Мне могут возразить, что «Клан Сопрано» транслируется на платном канале (HBO), который меньше зависит от рейтингов, чем крупные общенациональные каналы. Но тогда давайте рассмотрим пример сериала «Скорая помощь», транслируемого на общенациональном канале (NBC). Причина успеха та же, просто замените имя Дэвида Чейза на имя Майкла Крайтона. Или возьмем пример «Отчаянных домохозяек», выходящих на канале ABC, и заменим Дэвида Чейза на Марка Черри. Или «Симпсонов», созданных Мэттом Грейнингом и выходящих на канале Fox.
Короче говоря, качественные американские сериалы не только расширяют возможности сценариста, но и формируют талантливых творцов. Это тоже один из главных секретов успешных сериалов. Если мы позволим месье Юло доставлять почту «на американский манер», у нас всегда будет почтальон Юло, а не почта США.
Давайте договоримся: я вовсе не хочу сказать, что для написания французских сериалов следует приглашать американских сценаристов. Более того, я считаю, что это было бы ошибкой. В Европе есть талантливые сценаристы.
Встала ли PAF на правильный путь? Пока говорить об этом рано. Даже если вялотекущие французские сериалы, кажется, уже остались в прошлом, американские все еще далеко впереди. За последние годы мне лично понравились первый сезон «Налета», «Бюро легенд», «Давид Ноланд», Kaamelott и 1–4-й сезоны «Французского городка». Я перечислил скорее исключения, чем правила. Но честность заставляет меня признать, что я видел далеко не все.
Снимаю шляпу перед сценаристами!
В 2015 году я создал веб-сериал под названием «Снимаю шляпу перед сценаристами!». Он выходит на английском языке с французскими субтитрами и доступен на YouTube (http://bit.ly/HOTTS). Каждая серия иллюстрирует какой-либо примечательный элемент повествования. Таким образом, сериал служит визуальным дополнением к этой книге и к «Построению повествования» [111]. Это также дань уважения всем великим рассказчикам, художникам, которые придумывают истории, персонажей, вымышленные миры, структуры.
Ив Лавандье, январь 2019
Введение
Я не убью ее, пока не услышу продолжение ее рассказа!
Царь Шахрияр, «Тысяча и одна ночь»Пьеса – вот на что я поймаю совесть короля.
Гамлет, «Гамлет»Правда в том, что изобретение драмы – это первая попытка человека стать интеллектуально сознательным.
Джордж Бернард Шоу [173]Вы должны снимать фильм так, как создавал свои пьесы Шекспир, – для зрителей.
Альфред Хичкок [82]…развлекать в самом широком и лучшем смысле этого слова, то есть захватывать людей, удерживать их и в то же время заставлять их думать.
Ингмар Бергман [14]Я ищу то, что в человеческой природе постоянно и фундаментально.
Клод Леви-Стросс [115]Слово «драматургия» происходит от греческого drama, что означает действие. Таким образом, драматургия – это, если воспользоваться определением Аристотеля [6], имитация и представление человеческого действия. Такая имитация может быть предложена в театре, опере, кино, на телевидении, в новых форматах (интернет, видеоигры и т. д.), где действие можно увидеть и услышать, на радио, где его можно только услышать, и, в меньшей степени, в комиксах, где действие можно не только увидеть, но и прочитать.
Таким образом, драматургия – это такое же искусство, как и литература, с которой ее, конечно, не стоит путать. Литературное произведение пишется для того, чтобы его читали, а драматургическое – для того, чтобы его увидели и/или услышали.
N. B. Сложные взаимоотношения между литературой и драматургией подробно обсуждаются в главе 15.
Таким образом, эта книга посвящена историям, предназначенным для исполнения, а не для того, чтобы их воображать. Иногда приходится слышать, что театр – это искусство устного слова, а кино – искусство изображения. Считать так – значит видеть лишь верхушку драматургического айсберга. Прежде всего, существует театр без слов. Уместно упомянуть работы Роберта Уилсона, Жерома Дешама или Джеймса Тьерре. Во-вторых, театр – это такое же искусство изображения, как и кино. Слово «театр» происходит от греческого theastai, что означает видеть, смотреть. И наконец, кино даже в большей степени, чем искусство изображения, – это искусство монтажа (см. главу 1 книги Évaluer un scénario / «Оценка сценария» [112]). Но в данном случае нас интересует то, что и театр, и кино очень часто являются повествовательными искусствами.
Прежде чем подробно анализировать, из чего состоят человеческие действия, каковы механизмы и смысл их репрезентации, я считаю необходимым в нескольких словах сказать, насколько полезна драматургия и почему ей можно научиться. В этом и заключается цель данного Введения.
Расскажи мне историю
Во время Второй мировой войны в концентрационном лагере Штутгоф женщина по имени Флора создала хлебный театр. Из части своего скудного рациона она лепила маленькие фигурки и по вечерам, прячась в туалете, вместе с несколькими заключенными оживляла своих хлебных актеров перед голодными зрителями, которых вот-вот должны были уничтожить. Эту историю пережившая холокост Ирена Ласки рассказала Джошуа Соболю, когда тот изучал театр Вильнюсского гетто для своей пьесы «Гетто». Существует множество похожих историй. Я вспоминаю о Жермене Тийон, написавшей оперетту в Равенсбрюке, о кинорежиссере Алексее Каплере, заключенном в воркутинском лагере, где он руководил театральной труппой, или о судьбе журнала «Ведем», выходившего в концлагере Терезиенштадт. Как видно, даже в самых ужасных обстоятельствах людям требовались истории.